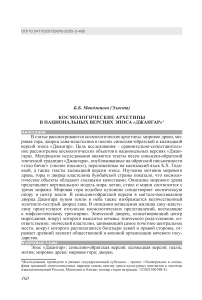Космологические архетипы в национальных версиях эпоса «Джангар»
Автор: Б.Б. Манджиева
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются космологические архетипы: мировое древо, мировая гора, дворец хана-властелина в песнях синьцзян-ойратской и калмыцкой версий эпоса «Джангар». Цель исследования – сравнительно-сопоставительное рассмотрение космологических объектов в национальных версиях «Джангара». Материалом исследования являются тексты песен синьцзян-ойратской эпической традиции «Джангара», опубликованные на ойратской письменности «тодо бичиг» («ясное письмо»), переложенные на калмыцкий язык Б.Х. Тодаевой, а также тексты калмыцкой версии эпоса. Изучение мотивов мирового древа, горы и дворца властелина бумбайской страны показало, что космологические объекты обладают сходными качествами. Описание мирового древа представляет вертикальную модель мира: ветви, ствол и корни соотносятся с тремя мирами. Мировая гора подобно пуповине олицетворяет космическую опору и центр земли. В синьцзян-ойратской версии в магтале-восхвалении дворца Джангара пупом земли и неба также изображается величественный золотисто-пестрый дворец хана. В описании возведения жилища хану-властелину присутствуют отголоски космологических представлений, восходящие к мифологическому трехмирию. Эпический дворец, олицетворяющий центр мироздания, вокруг которого мыслится кочевье эпического рода-племени, соответственно, эпический властелин, занимающий самое почетное центральное место, вокруг которого располагаются богатыри левой и правой стороны, отражает древний элемент общественной и военной организации кочевого государства.
Эпос «Джангар», синьцзян-ойратская версия, калмыцкая версия, песнь, мотив, мировое древо, мировая гора, дворец
Короткий адрес: https://sciup.org/149149414
IDR: 149149414 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-460
Текст научной статьи Космологические архетипы в национальных версиях эпоса «Джангар»
В статье рассматриваются космологические архетипы: мировое древо, мировая гора, дворец хана-властелина в песнях синьцзян-ойратской и калмыцкой версий эпоса «Джангар». Цель исследования – сравнительно-сопоставительное рассмотрение космологических объектов в национальных версиях «Джан-гара». Материалом исследования являются тексты песен синьцзян-ойратской эпической традиции «Джангара», опубликованные на ойратской письменности «тодо бичиг» («ясное письмо»), переложенные на калмыцкий язык Б.Х. Тода-евой, а также тексты калмыцкой версии эпоса. Изучение мотивов мирового древа, горы и дворца властелина бумбайской страны показало, что космологические объекты обладают сходными качествами. Описание мирового древа представляет вертикальную модель мира: ветви, ствол и корни соотносятся с тремя мирами. Мировая гора подобно пуповине олицетворяет космическую опору и центр земли. В синьцзян-ойратской версии в магтале-восхвалении дворца Джангара пупом земли и неба также изображается величественный золотисто-пестрый дворец хана. В описании возведения жилища хану-властелину присутствуют отголоски космологических представлений, восходящие к мифологическому трехмирию. Эпический дворец, олицетворяющий центр мироздания, вокруг которого мыслится кочевье эпического рода-племени, соответственно, эпический властелин, занимающий самое почетное центральное место, вокруг которого располагаются богатыри левой и правой стороны, отражает древний элемент общественной и военной организации кочевого государства.
ючевые слова
Эпос «Джангар»; синьцзян-ойратская версия; калмыцкая версия; песнь; мотив; мировое древо; мировая гора; дворец.
B.B. Mandzhieva (Elista)
COSMOLOGICAL ARCHETYPES IN NATIONAL VERSIONS OF THE EPIC “JANGAR”1
bstract
A
The article examines cosmological archetypes: the world tree, the world mountain, the palace of the khan-ruler in the songs of the Xinjiang Oirat and Kalmyk versions of the epic “Dzhangar”. The purpose of the study is a comparative and contrastive examination of cosmological objects in the national versions of “Dzhangar”. The material of the study is the texts of the songs of the Xinjiang Oirat epic tradition “Dzhangar”, published in the Oirat script “todo bichig” (“clear writing”), translated into the Kalmyk language by B.Kh. Todayeva, as well as the texts of the Kalmyk version of the epic. The study of the motifs of the world tree, mountain and palace of the ruler of the Bombay country showed that cosmological objects have similar qualities. The description of the world tree represents a vertical model of the world: branches, trunk and roots are related to the three worlds. The world mountain, like the umbilical cord, personifies the cosmic support and the center of the earth. In the Xinjiang Oirat version, in the magtal-praise of the Jangar palace, the majestic golden-motley palace of the khan is also depicted as the navel of the earth and sky. In the description of the construction of the dwelling for the khan-ruler, there are echoes of cosmological ideas dating back to the mythological three-world. The epic palace, personifying the center of the universe, around which the nomadic camp of the epic clan-tribe is thought of, respectively, the epic ruler, occupying the most honorable central place, around which the heroes of the left and right sides are located, reflects the ancient element of the social and military organization of the nomadic state.
ey words
The epic “Jangar”; Xinjiang Oirat version; Kalmyk version; song; motif; world tree; world mountain; palace.
В эпической традиции разных народов выделяются космологические архетипы, такие как мировое древо, мировая гора и дворец правителя страны.
Изучение мотивов, характеризующих модель эпического мира, является весьма актуальным. Целью нашего исследования является рассмотрение космологических объектов в песнях синьцзян-ойратской и калмыцкой версий эпоса «Джангар». Материалом исследования являются тексты песен синь-цзян-ойратской эпической традиции «Джангара», опубликованные Народным издательством Синьцзяна в Китае в 1986–2000 гг. на ойратской письменности «тодо бичиг» («ясное письмо») [Жангар 1986–2000], переложенные на калмыцкий язык Б.Х. Тодаевой [Джангар 2005–2008], а также тексты калмыцкой версии «Джангара» [Джангар 2020].
В отечественной фольклористике космологические мотивы рассматривались в работах российских исследователей: В.Я. Проппа [Пропп 1976], В.М. Жирмунского [Жирмунский 1962], С.Ю. Неклюдова [Неклюдов 1975; 2019], Л.Н. Семеновой [Семенова 2006], М.Т. Сатанар [Сатанар 2021], А.Ш. Ки-чикова [Кичиков 1992], Е.Э. Хабуновой [Хабунова 2006], Э.Б. Овалова [Овалов
2008], Б.Б. Манджиевой [Манджиева 2022], Д.В. Убушиевой [Убушиева 2018], Б.Б. Горяевой [Горяева 2025] и др.
Зачины синьцзян-ойратской версии «Джангара» представляют картину первотворения мира (здесь и далее перевод автора):
ha3p hулмтын чинэн цагт, / ha3ad дала чальчг цагт, / Тецгр тев-шин чинэн цагт, /hалвр зандн бура цагт [Джангар 2006, 713].
(‘В то время, когда земля была сотворена, / Внешний океан был лужицей, / Небо было пространством над поверхностью [Земли], / Когда дерево Галбар Зандан было кустом’);
hазад дала чальчг цагт, / hалвр зандн нээтг цагт, / Тоть шовун жульжИн цагт, / Теерэ модн нээтг цагт, / Cym6p уул довин чинэн цагт, / СYн дала тогталын чинэн цагт, / Аср тецгр тевкин чинэн цагт, / Алтн делкэ альхнын чинэн цагт, /Хан hаруди жульжhн цагт, / Хамг hазрусн /Мен бийдэн тохрадуга цагт [Джангар 2008, 278].
(‘В то время, когда внешний океан был лужицей, / Когда дерево Галбар Зандан было кустом, / Когда птица попугай еще птенчиком был, / Когда деревья вокруг были ростками, / Когда гора Сумеру была холмиком, / Когда океан Сун только-только образовывался, / Когда небо было пространством над землей, / Когда Вселенную можно было удержать на ладони, / Когда Хан Гаруди был птенцом, / Когда вся земля-вода / Только образовывалась’).
В зачинах синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар» изображается картина начала движения и роста вселенной: «Когда вся земля-вода только образовывалась», «когда океан Сун только-только образовывался», «когда гора Сумеру была холмиком», «деревья были ростками», «Хан Гаруди был птенцом».
Мифологическое знание о возникновении мира удовлетворяло не только сугубо познавательные потребности древнего общества. Современное ему состояние мира это общество закономерно связывало с происхождением мира как следствие с причиной, <…> общество считало современную ему ситуацию прямым следствием и продолжением мифического первотворения [Традиционное мировоззрение тюрков 1988, 21].
Космическая структура устанавливается путем введения объектов, соотносимых с центром мира (мировой осью). Таковыми являются космологические объекты: мировое древо, мировая гора, дворец хана-властелина. В калмыцкой версии эпоса «Джангар» в образе мирового древа Галбар Зандан (санс-кр. kalpavrkṣa; ‘дерево кальпыʼ) реализуется вертикальная структура мира: крона древа ассоциируется с верхним миром, ствол со средним, а его корни с нижним миром. В песне «Догшн Шар ГYргY ма^hс хааг дуут Улан Шовшур дерэцYлгсн белг» (‘Песнь о том, как прославленный Улан Шовшур хана ман-гасов Свирепого Шара Гюргю покорил’) Малодербетовского цикла калмыцкой версии эпоса «Джангар» листочками этого волшебного дерева исцеляется хан Джангар, отправившийся в нижний мир в поисках богатыря Хонгора. В сюжете о приключениях Джангара в нижнем мире присутствует сказочный мотив исцеления. Так, когда сорвавшийся вниз Джангар лежал с разбитым бедром, две мыши – самец и самка – к нему подбежали, чтобы полакомиться его мясом. Мышь-самка отхватила кусок, и Джангар, слегка задев, раздробил ей бедро. Мышь-самец исцелил ее листочками волшебного дерева Галбар Зандан, эти же листья исцеляют и Джангара. Он выбирается из подземелья, взбираясь по ветвям волшебного дерева [Джангар 2020, 362–363].
В алтайском героическом сказании «Маадай-Кара» священное дерево является хранителем и оберегателем жизни героев, оно возвышается из подземного мира, из царства Эрлика, а его ветви достигают верхнего мира. Это дерево осыпает землю золотыми и серебряными листьями, под ее ветвями находят отдых животные, а на ветвях обитают вещие кукушки, знающие судьбы людей [Маадай-Кара 1973, 101].
Вертикальная структура мира присутствует и в якутском олонхо, где ветви родового дерева поднимаются на небеса, а корни спускаются в подземный мир, в котором живут создатели рогатого скота и растительности. По мнению Л.Н. Семеновой, «образ проросшего сквозь три мира дерева с изогнутыми в середине ветвями и корнями указывает и на дополнительную семантику мирового древа как некой: пространственной скрепы, соединяющей три эпических мира и обеспечивающей устойчивость эпического космоса» [Семенова 2006, 36].
Образ мировой горы в эпосе также имеет основные признаки тройственного членения мирового пространства. В национальных версиях эпоса «Джан-гар» вертикальная структура мира, разделенная на верхний, средний и нижний миры, и их взаимосвязь символически представлена образом «мировой горы», восходящей к ранним пластам монгольской мифологии. Мировая гора – Өл Маңхн Цаһан уул («Сизо-Белая гора», цикл песен Ээлян Овла), Бумбин Цаһан уул («Бумбайская Белая гора», малодербетовский цикл 1862 г.) – служит связующим звеном между всеми вертикальными сферами, из которых основными считались три мира. Мировая гора соединяет подземный мир со срединным, а также достигает небесных сфер, где обитают боги. Подобно тому, как хан Джангар является центральной фигурой эпического государства, мифическая гора Сумеру, возникшая в начале мироздания, семантически играет роль центра в объектном мире. В соответствии с буддийской космологией, на вершине Сумеру обитают тридцать три небесных божества во главе с Хормустой, которые покровительствуют земле и всему живому.
Если гора представляет собой вертикаль эпического мира, то основным признаком горизонтали служит вода (моря, реки, океаны). Представления об океане как части вселенной восходят к древнейшему пласту мифологии (к мотиву мифологического моря-океана).
В эпической стране Бумбе горы и реки предстают не только как объекты и средства пространственной ориентации, но и как символы родовой территории, выполняющие функцию социального регулятора, маркера, обозначающего право на территорию. Родовая гора и родовые «воды» (моря, реки) – составляющие понятия «земля-вода», т.е. родины, в эпосе они имеют значение страны.
Академик С.А. Козин отмечал:
Слово bumba, имеющее в калмыцком языке разнообразные значения (как то: высокое здание для хранения святынь, купол, каланча, памятник, священный сосуд для освящения воды), в памятнике (в эпосе «Джангар». - Б.М.) имеет какое-то иное значение; <...> это слово выражает понятия, близкие к нашим – «священный», «заветный», «запретный», «неодолимый», «непобедимый» и т.п. В языках, более близких к халхаскому, bumba означает шарообразный предмет, в том числе купол... [Козин 1940, 75–76].
В тибетском языке слово «бумба» означает «сосуд неисчерпаемых сокровищ» ( тиб . gter gyi bum pa), который имеет плоское основание, круглый корпус, узкое горлышко и волнистый верхний обод. В подношении мандалы великая драгоценная ваза описывается как изготовленная из золота и украшенная множеством драгоценных камней. Вокруг горлышка обвязана шёлковая лента из мира богов, а в верхнем отверстии находится древо, исполняющее желания. Оно способно создавать все виды сокровищ, а его корни напитаны водой долголетия. Божественный сосуд неисчерпаемых сокровищ обладает качеством спонтанного проявления, сколько ни черпай из сосуда, он всегда остаётся полным [Бир 2011, 197]. Аналогичной неисчерпаемостью отличается и страна Бумба, название этой эпической страны ассоциативно связано с «сосудом неисчерпаемых сокровищ».
В эпосе «Джангар» мотив сооружения дворца, являясь одним из распространенных в эпической традиции монголоязычных народов, представляет детальное описание возведения величественного жилища властелину Джангару.
В Малодербетовском цикле (1862 г.) калмыцкой версии эпоса построение дворца Джангара описывается в космических масштабах: от грохота строительства сотрясается материк Замбатив, а Бумба океан наполняется «громовым грохотом» [Джангар 2020, 225–226]. В то же время как сакральный локус с пространственно-циклической структурой дворец выполняет оберегательную функцию: Оер Замб тивд [бззх орни] /Ж,илв, бах, ширг - / Ташр курвлаг кеен сергзд, / Сай дундан далван [дарн] бззнз. - «В Замбативе , поблизости находящихся стран / Жажду захвата, их вожделённую цель и мор – / Все три нечистые страсти – отгоняя-прогоняя, / Миллионы [подданных богдо ], словно крылом, укрывая, [дворец] оберегает» [Джангар 2020, 228–229].
В синцзян-ойратской версии «Джангара» в восхвалении дворца хана Джангара указывается место его построения:
(‘Прославленного нойона богдо Джангара / В десять ярусов, девятицветный, / Золотисто-пестрый дворец, говорят: / Под лучами восходящего желтого солнца / Пупом земли и неба став, / У подножия горы Алтай, справа, / У выросшей / Снежно-голубой горы Цаган, / У её подножия, справа, / На берегу двух широких рек, / На берегу Бумбы океана, / На берегу Шикер океана, / Там, где пологий склон, / С пятьюстами волшебными деревьями’).
В данном описании сказитель уделяет особое внимание тому, что место постройки дворца находится в центре.
Горе (собственно, «мировой горе») дом героя подобен своим серединным положением в эпическом космосе, «нулевой точкой отсчета» в его пространственной структуре, своей «осевой конструкцией» (от земли до неба). Поэтому он одновременно и координирован, и ассоциирован с горой, так сказать, состоит с ней в отношениях смежности и подобия, метонимии и метафоры: он и воздвигается на горе (на ее вершине или отрогах, у ее подножья), и сходен с горой [Неклюдов 2019, 170–171].
Дворец хана Джангара в эпосе «имеет вид не дворца, а кочевой юрты со всеми ее конструктивными элементами (решетчатые стенки тэрэмы, поддерживающие верхнее покрытие жерди-унины), правда, огромных размеров и сделанных из очень дорогих материалов» [Неклюдов 2019, 170]. Представляющий собой стационарное жилище – кибитку (юрту), он является символом номадной культуры, в котором сохранены опыт кочевой жизни калмыков, их материальный быт.
Терме – это деревянная решетка цилиндрической части юрты. «Каждая решетка терм состояла из отдельных 4-гранных или круглых деревянных шестов, половина которых имела равную длину, а другая часть постепенно уменьшалась к концу» [Калмыки 2010, 123]. Простая юрта имеет 6 терме, юрта знати – до 12, дворец с 40 терме – цифровая гипербола. «Верхняя часть решеток образовывала вилкообразные гнезда (термин толһа), к которым крепились при помощи петель (уньна салдрһ), изготовленных из конских волос, жерди – уньн (материалом для последних также чаще служила сосна)» [Калмыки 2010, 124]. В сооружении дворца каждый терме снабжают четырьмя тысячами унин, которые подпирали верхний круг харач. В калмыцком эпосе «Джангар» «из священного благовонного прекрасного сандала сооружают харач, из одиноко выросшего сандала – острия поддерживающих верхний круг юрты унин» [Манджиева 2010, 61].
В героических песнях «Джангара» прослеживается закономерная для эпоса приуроченность к сакральным локусам. Именно таким локусом с пространственно-циклической структурой является эпический дворец Джангара, который служит своеобразным полем притяжения, где собираются богатыри и рассаживаются в определенном порядке. Своего рода месторасположение на пирах и других собраниях в эпосе подтверждает социальную дифференциацию окружения хана. При этом следует отметить, что в «Джангаре» особый порядок размещения на пирах учитывает не только знатность рода и занимаемую должность, а в первую очередь – заслуги и достоинства богатыря.
Изучение мотивов мирового древа, горы и дворца властелина бумбайской страны показало, что космологические объекты обладают сходными качествами. Описание мирового древа представляет вертикальную модель мира: ветви, ствол и корни соотносятся с тремя мирами. Мировая гора подобно пуповине олицетворяет космическую опору и центр земли. В синьцзян-ойратской версии в магтале-восхвалении дворца Джангара пупом земли и неба также изображается величественный золотисто-пестрый дворец хана. В описании возведения жилища хану-властелину присутствуют отголоски космологических представлений, восходящие к мифологическому трехмирию. Эпический дворец, олицетворяющий центр мироздания, вокруг которого мыслится кочевье эпического рода-племени, соответственно, эпический властелин, занимающий самое почетное центральное место, вокруг которого располагаются богатыри левой и правой стороны, отражает древний элемент общественной и военной организации кочевого государства.