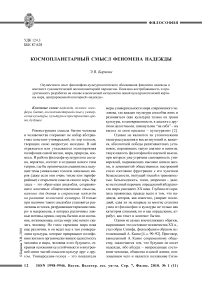Космопланетарный смысл феномена надежды
Автор: Баркова Э.В.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (11), 2010 года.
Бесплатный доступ
Осуществлен опыт философско-культурологического обоснования феномена надежды в контексте гуманистической космопланетарной парадигмы. Показана востребованность и продуктивность разработки на основе классической методологии новой культурологической картины мира, центрированной категорией «надежда».
Надежда, человек, ноосферат, бытие, космопланетарный смысл, универсалии культурыт, культурное пространство-времят, будущеет
Короткий адрес: https://sciup.org/14974355
IDR: 14974355 | УДК: 124.3т
Текст научной статьи Космопланетарный смысл феномена надежды
Реконструкция смысла бытия человека и человечества открывает не набор абстрактных констант-универсалий, но хор голосов, творящих свою непростую мелодию. В ней отражается или угадывается полнокровная полифония самой жизни, мира, природы, космоса. И работа философа-культуролога сегодня, вероятно, состоит в создании нового типа теории, где бы органически соединились ведущие темы уникальных голосов локальных миров (даже если они очень тихие или периферийные) с открытием смысла самого хора. Хор здесь – это образ-идея ансамбля, сохраняющего ключевые общечеловеческие смыслы, важные для бытия и сохранения надежды на развитие человечной культуры. И только при наличии такого ансамбля становятся различимы и голоса, разрушающие гармонию микро- и макрокосма, в которых различимы ложные мотивы, крики, «шумы бытия» или молчание, возникающее, когда миру уже нечего сказать человеку. Но голос гармонии мира пока еще различим, и он ведет нас к тем универсалиям культуры, которые превращают полифонию жизни в органически-живую целостность человека и мира, человека и его будущего, открывая основания ее устойчивости и внутренней связи частей-смыслов-культур друг с другом. Универсалии-голоса – это показатели меры универсальности мира современного человека, где каждая «культура способна жить и развиваться (как культура) только на грани культуры, в одновременности, в диалоге с другими целостными, замкнутыми “на себя” – на выход за свои пределы – культурами» [2].
Однако не являются ли утопическими такие рассуждения в век антиутопий и, кажется, абсолютной победы релятивистских установок, породивших такую апатию и цинизм, такую вялость философской и научной мысли, при которых уже утрачена самоценность универсалий, выражающих высокие начала жизни, и доминантой общественных настроений стало состояние фрустрации с его чувством безысходности, гнетущей тоской и тревожностью . Безысходность, тоска, депрессия – далеко не полный перечень определений абсурдности мира ушедшего ХХ века. Глубина его кризиса проявилась прежде всего в том, что надежда, которая, как известно, умирает последней, едва ли не впервые за многие столетия ушла из философии и культуры не только как категория сознания, но и как определение, атрибут, как текст и контекст бытия.
Одним из самых впечатляющих образов, выразивших это состояние человечества ХХ в., стал образ Сизифа, философским образом истолкованный А. Камю [4, с. 90–92]. Приговор, вынесенный А. Камю современному обществу, заключается том, что будущее не несет надежды, ибо абсурд – непреходящее состояние человека, общества и самой жизни, воплощением чего и является положение Сизи- фа, обреченного вечно вкатывать на крутую гору громадный камень, который всегда будет скатываться обратно вниз.
Однако греческий миф неизмеримо глубже и правдивее образа А. Камю. Бессмысленность, бесцельность и безнадежность – вовсе не вечно-изначальное состояние человечества. Сизиф, рассказывает древний миф, – основатель города Карфагена, сын бога повелителя всех ветров Эола. «Никто во всей Греции не мог равняться по коварству, хитрости и изворотливости ума с Сизифом. Сизиф благодаря своей хитрости собрал неисчислимые богатства у себя в Карфагене» [6, с. 111]. Предшественник софистов, обреченный на вечно безнадежное существование, наказан богами, и наказан справедливо за великий грех – попытку обмануть порядок самого мира, установленный богами, и, встав над ним, создать для себя иной, особый порядок, переиграв логику самого мира для своей личной роскошной жизни и веселых пиров.
Современный мировой экономический кризис отчетливо показывает следствия мировоззрения современных Сизифов и их игровых моделей, в которых органическая целостность бытия в ее всеобщности и закономерностях вообще снята суммой «раскрученных» креативных индустрий и проектов, а методология классической мысли, направленная на открытие объективной истины, в полной мере заменена неклассической философией существования. Что это? Подготовка нас к скорому уходу с большой исторической сцены?
Как о безальтернативном факте самосня-тия человечества говорят сегодня, в эпоху, получившую определения антропологического кризиса и постсовременности, и ученые, и – что уж совсем парадоксально – философы. Так, автор нашумевшей книги «Nano sapiens, или Молчание небес» В.М. Кишинец уверенно утверждает: «Произойдет то, что я называю переходом. Когда это случится? Существенно быстрее, чем может показаться. Все будет зависеть от сроков создания действующего нобота... Наиболее реалистический прогноз – через 10–15 лет может появиться первый прототип нобота... Анализ показывает, что определенный период перед этими событиями… приведет мир к неслыханным потрясениям – глобальной гуманитарной катастрофе» [5, с. 2].
Современный мир и здесь – безнадежность и пустота, безразлично подчиняющая себе бытие. Альтернатив нет. А потому все зависит от времени разработки и апробации нанотехнологий. Пустота или игра голосов – смыслов, текстов, образов – все равно, чем заполненных.
Между тем, все же не случайно столь важным традиционно считалось раскрытие онтологического содержания выделенных еще в христианской традиции таких феноменов бытия человека, как вера, надежда и любовь – главных ценностей христианской этики. При их смысловой и ценностной близости они раскрывают разные, но связанные между собой аспекты укорененности человека в мире, выявляя и разные пласты бытия самого человека как личности. Проявляясь в многообразии образов, ценностей, идеалов, эти универсалии культуры всегда не просто констатировали голоса – разнородные приметы существования, но открывали онтологию мира человека. И открывали ее прежде всего через те формы его укорененности в бытии (экзистенциалы, установки, стремления), где всегда было место не только вере, любви, мудрости, но и большому и чистому дыханию надежды. И сегодня, по моему убеждению, в философии культуры эта категория должна занять центральное место, ибо ее содержание и гуманистический смысл может центрировать миро-отношение современного человека и человечества. Содержание надежды – не только прямо, непосредственно – всегда присутствует в представлениях о будущем человечества. Уже самим фактом своего существования надежда утверждает жизнь, возможность радости и ликования – ибо всегда и все надеются на лучшее. Утверждает надежду и неслучайное, уко-рененяющее человека в толще бытия принципиальное единство логики развития космоса, ноосферы и человека.
Сегодня это особенно важно, во-первых, как поддержка тех направлений мысли и творчества, тех философских и художественных традиций народной и классической культуры, где со всей определенностью утверждаются высокие нормы, где высокое соотнесено с идеалом, с должным, а низменное названо недостойным, неистинным, безобразным. У. Эко заметил: «интеллектуальный долг – утверждать невозможность войны. Даже если ей не видно никакой альтернативы» [12]. Долг интеллиген- ции сегодня – напомнить о самоценности надежды и неистребимости объективной истины, красоты, добра. Даже в наше время.
А во-вторых, такая работа важна потому, что существуют никем, насколько я знаю, не опровергнутые, но молчаливо и неслучайно «сдвинутые» на периферию культурного пространства научные концепции, обоснованные и многократно подтвержденные практикой, в которых доказан объективный смысл гуманизма как типа мироотношения. Прежде всего, речь идет об идее ноосферы в учениях П.Т. де Шардена и В.И. Вернадского.
Позволю себе напомнить, что известная статья «Несколько слов о ноосфере», законченная в 1944 г., была написана в годы Великой Отечественной войны. Как ученый-естествоиспытатель и философ-гуманист, В.И. Вернадский не сочинял абстрактный проект – ответ на легко угадываемый социальный заказ, а убедительно вскрывал логику развития объективного мира и аргументированно доказывал, почему есть реальные основания надежды, почему важна твердая вера в победу, в которой должен проявиться объективный закон жизни. А потому выражал абсолютную уверенность в неизбежности победы над фашизмом. «Сейчас мы переживаем новое геологическое эволюционное изменение биосферы. Мы входим в ноосферу. Мы вступаем в нее – в новый стихийный геологический процесс – в грозное время, в эпоху разрушительной мировой войны. Но важен для нас факт, что идеалы нашей демократии идут в унисон со стихийным геологическим процессом, с законами природы, отвечают ноосфере. Можно смотреть поэтому на наше будущее уверенно. Оно в наших руках. Мы его не выпустим» (цит. по: [8, с. 220]).
Контекст учения великого мыслителя и натуралиста В.И. Вернадского ясен: человечество, становясь геологической планетарной силой, обязано действовать по-человечески разумно и гуманно, то есть на основе научного подхода. Это путь – не в постсовременность, не к снятию своей идентичности, а гуманистический путь к себе, к обретению на основе развития своего космо-планетарного измерения новых великих целей и великих надежд. Сама надежда как целеполагающая проекция человека в контексте учения В.И. Вернадского становится геологической силой, а потому и условием обретения человеком планетарного масштаба на основе коэволюционного развития человека, культуры, общества и природы, их гармоничного взаимодействия.
Думается, такой космопланетарный смысл онтологии надежды может лечь в основание новой гуманистической футурологии культуры, разработанной на основе классической методологии. В ней может быть преодолена диспропорция между ощутимой потребностью в возрождении надежды в культуре, с одной стороны, и значительным отставанием ее философско-культурологического осмысления – с другой.
Дело в том, что хотя в современной отечественной науке надежда стала предметом мысли, но исследуется она почти исключительно в аспекте психологии. Даже в справочных изданиях она понимается прежде всего как «положительно окрашенная эмоция , связанная с ожиданием удовлетворения потребности, а также философский , религиозный и культурный концепт , связанный с осмыслением состояния человека, испытывающего эту эмоцию » (см.: [15]).
В тех же редко встречающихся философских изданиях, где ей уделяется внимание, не артикулируется и не раскрывается гуманистический потенциал надежды в современной культуре и европейской философии. «Надежда, – читаем в энциклопедическом словаре, – подобно понятиям “антиципация”, “желание”, “оптимизм” или “утопия” означает аффективное основание бытия человека, обращенное к лежащим в будущем реализуемым возможностям» [10, с. 158].
Глубоко и интересно раскрыл роль надежды и ее структуры в целостном мироот-ношении В.А. Андрусенко, осуществивший философско-психологическое исследование, позволившее «представить надежду как системное духовное качество, объединяющее в себе и свойства материальной телесной организации, и свойства интимных душевных процессов, и уникальное операционное соединение материальных и нематериальных компонентов в репрезентантах человеческого ми-роположения (образах судьбы, жизни смерти и т. п.), становящееся в направлении максимальной жизненной защищенности, эффектив- ности представленности в мире, пластичности мироотношений...» [1, с. 99].
Между тем надежда как универсалия культуры, ценность и эмпирически необходимый «компас земной» была выделена еще в далеком прошлом. Действительно, при всем многообразии и неповторимости существовавших в различные эпохи культур, анализ каждой из них обязательно обнаруживает тот или иной образ надежды, через который раскрываются и конкретизируются черты будущего, как оно виделось представителям разных эпох и народов.
Надежды героев древних мифов и сказаний на справедливость божественных сил Природы; надежды средневекового человека, связанные с возможностью обретения счастья в раю, достижимого через земные страдания; надежды на открытие средствами искусств и наук тайн божественно прекрасной природы, включая и природу человека, в произведениях титанов и великих гуманистов эпохи Возрождения; надежды на разум человека и его способность построить справедливое общество, характерные для эпохи Просвещения; современная футурология с ее моделями технократического видения будущего, представлениями о новых горизонтах, которые открываются благодаря ценностям информационного или постиндустриального общества – все эти и многие другие образы, символы и модели надежды создавались и продолжают создаваться сегодня в контексте каждого общества и каждой культуры. И уже сам факт постоянного присутствия этого образа, в каких бы конкретных формах он ни выступал, приводит к мысли о необходимости его воспроизводства и выполнении им каких-то фундаментальных, существенных функций, обязательных для нормального развития социокультурного бытия как целостности. Одной из главных таких функций является то, что надежда, как маяк, ориентирует, ведет, поддерживает не только личность, общество, но и бытие всего человечества, мировой культуры в установке на принципиальную возможность преодоления трудностей, освоения и решения жизненно важных, в том числе глобальных, проблем человеческого бытия, связанных с сохранением жизни на нашей планете.
В этом процессе освоения – если перелистать историю становления и развития феномена надежды, его онтологических особен- ностей – далеко не все идеи прошлого оказываются реликтовыми пластами, утратившими сегодня свой смысл, не все оказывается снятым.
Прежде всего, надежда – это фундаментальное ценностно-духовное проявление человеческой субъективности, способности человека как сознательного существа выходить за пределы настоящего к будущему, возможному, то есть осуществлять свою сущность через свободу и творчество. Впервые этот аспект надежды был осмыслен великим Августином Аврелием, который, как известно, трактовал будущее как наши надежды, наши чаяния, к встрече с которым открывается душа и сознание человека. Поэтому надежда у Августина выступает как способ формирования содержательных связей между модусами времени – будущим, настоящим и прошлым, хотя со временем связаны также идеалы, цели, возможности. Открытие субъективного времени – величайшее открытие Августина – не случайно ориентирует нас на саморазвитие в пространстве нравственного смысла исторического и культурного времени, который зависит от человека, его воли и сознания, от способности всегда создавать и сохранять образы надежды.
Конечно, надежда – это средство конструирования бытия человека, но как оно происходит и в чем его специфика? Возможно, надежда – это такая предельно всеобщая абстрактная категория, на основе которой происходит рождение неограниченных, любых возможностей: как проводник универсальных возможностей человека и человечества надежда вне-предметна. Однако надеется человек всегда на лучшее, доброе, светлое будущее.
И как показывает история феномена надежды, она редко воспринимается в качестве предмета чисто рационального осмысления и конструирования: в большей мере надежда – предмет эмоционального переживания, оценки, интерпретации в контексте различных ситуаций. Может быть, именно поэтому она выступает глубинным ключевым и определяющим пластом в содержании будущего как модуса культурного времени. Если так, то понятно, почему прав Л.Н. Толстой, охарактеризовавший состояние молодости как такое, когда «все силы души направлены на будущее, и будущее это принимает такие разнообраз- ные, живые и обворожительные формы под влиянием надежды, основанной не на опытности прошедшего, а на воображаемой возможности счастия, что одни понятые и разделенные мечты о будущем счастии составляют уже истинное счастие этого возраста» [11, с. 172–173].
Человекотворческое и жизнеутверждающее основание, мобилизующий потенциал надежды и опыт ее осмысления показывают, что она обладает способностью открывать новые горизонты бытия как пространство са-моразвертывания человека, как способ его самоутверждения в качестве творца общественной жизни. Все это подтверждает ее необходимость в человеческом мироотношении, в сохранении активной позиции человека в мире. Отсюда универсальность объективного смысла и роли надежды в мировой культуре становится достаточно очевидной.
Интересно, насколько многообразно раскрыты аспекты космопланетарного смысла надежды в сочинениях представителей русского космизма – в учениях Н.Ф. Федорова, В.С. Соловьева, К.Э. Циолковского и др. Скажем, при сходстве взглядов на потенциал науки и статуса человеческого разума, которого придерживались Н.Ф. Федоров и В.И. Вернадский, позиция В.И. Вернадского, как мне представляется, сформулирована точнее: надежда на будущее человечества в ней основана не просто и не только на здоровом оптимизме, вере в человека, но сопряжена с предельной осторожностью и отчетливо высказанными критическими замечаниями о готовности человечества ХХ в. использовать достижения науки и техники.
В космическом антропоцентризме В.С. Соловьева выявлен другой важный аспект надежды, исследованный А.Г. Маслее-вым. В нем надежда, как и любовь, делает человека и космос равноценными сущностями, не существующими друг вне друга, а человек обретает надежду на основе раскрытия индивидуальной свободы. А «сам духовный Абсолют становится возможным, поскольку существует человек, свободно осуществляющий свой выбор в пользу добра. Трансцендентное нуждается в имманентном, живет и прорастает им. Отсюда вывод о смысле любви, освещающей путь... к обретению идеала и веру в собственные силы» [7, с. 123].
Труды и идеи русских космистов, как и анализ философов-холистов, философии Живой Этики Е.И. Рерих, учения П.Т. де Шардена, идеи которых продолжают развиваться в трудах многих отечественных мыслителей, свидетельствуют о плодотворности мироотноше-ния, в котором надежда выступает в своем новом космопланетарном измерении. Здесь надежда характеризует антропологическое измерение космоса как пространства развития человека и, прежде всего, его духовной жизни. В этом ключе – явно или неявно – решаются философско-культурологические и аксиологические проблемы человека: ценности жизни, личности, счастья, общения, творчества, любви. С этой точки зрения анализируются и категории «субъективность», «духовность», «идеал», «вера», «молчание», «стыд» и др. В этом контексте прояснение феномена надежды выявляет тот особый ракурс бытия человека, в котором все эти категории получают свое культурно-онтологическое обоснование.
Кроме того, значительные перспективы, связанные с исследованием космопланетарного смысла феномена надежды, открывает дальнейшее исследование содержательности социального и культурного пространства-времени, развивающее представления о субъективности времени Августина Аврелия. Именно в контексте культурного времени, где органично соединяются гуманистическое, деятельностное, ценностное, мировоззреческое и другие направления анализа человека, позволяет выявить новые координаты бытия человека и сделать, тем самым, следующий шаг к пониманию надежды как универсалии культуры. Вспомним, что еще в 1970-е гг. А.И. Яценко связывал социальное пространство и время с объективно-реальными формами предметнопрактической целеполагающей деятельности: «Будущее, – писал он, – есть способ полагания человеком своего нового бытия, нового социального пространства. Прошлое – это не просто то, что прошло: оно – форма аккумуляции человеческого опыта, создание оснований для новых целей... важнейшая значимость будущего состоит не просто в том, что оно есть способ полагания нового бытия, а в том, что в его форме полагается социальное поле новых возможностей и новых оснований для дальнейшего развития сущностных сил человека» [14].
Через пространственно-временную форму существования человека показан ряд исходных и ключевых особенностей человека ХХ в. в философии экзистенциализма, хотя непосредственно категория «надежда» им практически не исследовалась, поскольку в работах экзистенциалистов человек выделен из общества и противопоставлен ему как носитель подлинного существования. Тем не менее, скажем, Ж.-П. Сартр, раскрывая категорию свободы, связывал ее реализацию – как условия дистанцирования человека от наличных условий его жизни – с надеждой, открытостью будущему, с созданием человеком тех или иных новых возможностей. Сартр писал: «Наше первое восприятие объективного времени является практическим ; как раз, будучи своими возможностями по другую сторону соприсутствующего бытия, я открываю объективное время как коррелят в мире из ничто, которое меня отделяет от моей возможности. С этой точки зрения время появляется как конечная, организованная форма в глубине неопределенного рассеивания... но, с другой стороны, поскольку я всегда проектирую себя к возможностям только посредством организованного ряда подчиненных возможностей, которые являются тем, что я имею в бытии, чтобы быть... время раскрывается для меня как объективная временная форма, как организованная последовательность вероятностей: эта объективная форма, или промежуток времени, выступает в качестве траектории моего действия» [9]. А поскольку социальное пространство-время является формой человеческой деятельности и целеполагания с его ценностно-мировоззренческими траекториями-ориентирами, то оно включает в свое содержание и онтологические характеристики надежды как социокультурного феномена и особого направления изменения жизнетворчества человека и культуры.
Таким образом, и надежда как целеориентирующая позиция человека в мире входит в содержание социального пространства-времени, а значит – ее исследование выходит на уровень межсубъектных культурно- и социально значимых коммуникаций. Именно в силу того, что пространство-время неразрывно и органично связано с процессом целеполагания, оно выполняет и роль траекторий форми- рования и осуществления надежды. Отсюда – новые перспективы, открывающие горизонты исследования универсально-космопланетарного смысла надежды как вектора развития бытия человека в современном мире.
Если попытаться на основе сказанного кратко определить феномен надежды, то можно сказать, что она выступает интегральным проявлением незавершенности человека, его постоянной открытости миру, но не абстрактному космосу и не любым симулякрам, а миру высокого, истинного, доброго и прекрасного, и одновременно – открытости мира для человека, для всего человеческого в человеке. В этом отношении надежда – это универсальная форма расширения бытия человека, а вместе с этим – и бытия мира. Надежда связывает эти два отношения в единство и тем самым на уровне смысла бытия обеспечивает связь или совпадение субъективных интересов и целей с объективными законами и тенденциями развития общества. Поэтому надежда оказывается одним из важнейших средств объективации субъективного в культуре, она формирует установку человека и общества на достижение поставленных ими целей, на движение за утверждение высоких идеалов.
Это особенно актуально сегодня, когда общество столкнулось с общепланетарным и системным – экологическим, социальным и духовно-культурным – кризисом и продолжает движение к катастрофе, свертывая основания надежды как условия и формирования ноосферы, несмотря на ее жизненно важный потенциал и перспективы для жизни российского и мирового сообщества. По-видимому, социальные основания этого связаны не только с не адкватными масштабу стоящих перед нами задач уровнем морали и экологической культуры, но и предельно слабо ощутимым социально-интегративным воздействием надежды. В самом деле, доминирующей мировоззренческой установкой сегодня является признание зависимости человека от иррациональных – божественных, экономических, политических – воздействий внешних сил и факторов, ход которых непредсказуем и не зависит от наших желаний и стремлений. Поэтому воля общества к формированию ноосферы как регулятивного принципа бытия должна определяться реальностью надежды – про- явлением потенциала жизнеспособности объединенного человечества. Важно, чтобы это осуществлялось не внешним образом, не прямолинейным и лобовым настойчиво повторяющимся морализаторством, а содержательно, на основе осмысления высоких традиций культуры, философии, науки и формирования воли к преодолению препятствий.
Великий ноосферный смысл надежды противоположен описанной Ж. Бодрийяром в «Америке» рефлекторно-вежливой, или простой «голливудской», улыбке, «которую каждый прохожий тебе адресует – дружелюбное движение челюсти... здесь вам улыбаются, и вовсе не из любезности или желания нравиться. Эта улыбка означает лишь необходимость улыбаться. Что-то вроде улыбки Чеширского Кота: она еще долго держится на лице после того, как все эмоции исчезли. Каждое мгновение вас одаривают улыбкой, но она остается неизменной и ничего не выражает... Улыбка иммунитетная, улыбка рекламная. “Эта страна хороша, сам я тоже хорош, и все мы самые лучшие”... Улыбайтесь, если вам нечего сказать, не скрывайте того, что вам нечего сказать, или что вам нет дела до других. Пусть эта пустота, это глубокое равнодушие просвечивает в вашей улыбке, сделайте подарок другим из этой пустоты и безразличия, осветите ваше лицо нулевой степенью радости и удовольствия, улыбайтесь, улыбайтесь» [3, с. 100–101].
Открытая на рубеже ХIХ–ХХ вв. общая форма бытия планетарного человечества – ноосфера сегодня открывает новые возможности для нашей самоидентификации в ракурсе надежды и отчетливого осмысления принципиального отличия двух проекций нашего мировидения на мир. В одной из них, получившем самое широкое распространение в современной жизни и науке, возможны лишь надежды-симулякры, надежды-иллюзии, надежды-проекты, способствующие обустроенности и комфорту личного микромира. В другой – человек и сегодня вновь, как микрокосм, оказывается способным соотнести себя, но уже с позиций современной науки и практики, с «большим» космосом, целостностью мира, его великой духовностью, с божественной красотой и истиной Природы и на основе этой целостности решать самые крупные и сложные задачи, ставить самые великие творчески- созидательные цели. Здесь надежда – категория, получающая объективный статус в философии и культуре и на его основе регулирующая жизнь человека, формирующая его отношение к будущему на базе единства науки, эстетики, этики, осмысления ценности жизни и ответственности человечества за ее сохранение. А если так, есть ли у человечества объективные основания для надежды преодолеть современный кризис и продолжить человеческое бытие с его историей и культурой?
Думается, что в силу того, что надежда – интегральное проявление незавершенности человека, его – повторим еще раз – постоянной открытости миру, она может быть одной из тех категориальных форм, с помощью которых может быть осуществлен переход субъективного в объективное, сформироваться готовность к достижению высоких целей, к движению к идеалам единения человечества на полифонической основе идей, образов, идеалов. В самом деле, именно контекст надежды сегодня по-новому открывает смысл хора голосов, утверждающий жизнь на Земле в самых разных формах искусства, науки, религии или морали. А потому «подобно Братству Миров в небесных пространствах, на Земле должно существовать Братство Народов, воплощающее истинный дух Вселенского Братства без различия рас, возраста, цвета кожи и вероисповедания. Только так можно избежать угрозы космической катастрофы... Несмотря на весь трагизм ХХ века, вершащийся и предсказанный еще в древности Армагеддон, все же мировое сообщество неуклонно двигалось, пусть медленно, к осознанию своего единства, к необходимости “мира во всем мире”. Хотя и с трудом, путь объединения продолжается и поныне» [13, с. 71].
Сказанное позволяет понять, почему надежда постоянно включена в процесс освоения культурной и природной реальности как условие возвышения бытия человека над любыми наличными условиями и обстоятельствами; как объективная категория, позволяющая различать цели истинные и ложные, надежды подлинные и иллюзорные, то есть открывающие бытие или миры симулякров; как основа способности человека и человечества формировать высокие цели и добиваться их осуще- ствления. Вот почему без надежды общество и личность оказываются незащищенными перед деструкциями и все более усложняющимися тенденциями и обстоятельствами, перед разрушительными тенденциями современного мира, порождающими безнадежность и цинизм.
Таким образом, космопланетарный смысл феномена надежды ориентирует человечество на такой тип изменения своего ми-роотношения, при котором оно может открыть и развить в себе свойства, позволяющие сформировать новую, жизне- и бытиеутверждающую антропо-космо-культуроцентрическую картину мира на основе развития представлений о ноосфере и гуманистических традиций культуры. Это необходимо, по моему убеждению, не только для возвращения к высоким идеалам науки, построенной на основе классической методологии с ее поиском и исследованием истины; к развитию новых форм разумного воздействия человечества на мир, но и для сохранения жизни и бытия человека на планете. Вот почему категория надежды имеет перспективы и основания для своего обновленного философско-культурологического прочтения и всестороннего исследования.
Список литературы Космопланетарный смысл феномена надежды
- Андрусенко, В. А. Надежда в мироотноше-нии человека/В. А. Андрусенко//Формирование целостного мироотношения и духовная культура: сб. ст. -Оренбург: Изд-во ОГТУ, 1995. -С. 57-99.
- Библер, В. С. От наукоучения -к логике культуры. Два философских введения в ХХI век/В. С. Библер. -М.: Политиздат, 1991. -286 с.
- Бодрийар, Ж. Америка/Ж. Бодрийар. -СПб.: Владимир Даль, 2000. -206 с.
- Камю, А. Сизиф/А. Камю//Бунтующий человек/А. Камю. -М.: Политиздат, 1990. -415 с.
- Кишинец, В. М. Нашествие ноботов/В. М. Ки-шинец//НГ -EX LIBRIS. -2009. -3 дек. -С. 2.
- Кун, Н. А. Легенды и мифы Древней Греции/Н. А. Кун. -М.: Гос. учеб.-пед. изд-во М-ва просвещения РФ, 1955. -451 с.
- Маслеев, А. Г. Антропологический смысл русского космизма/А. Г. Маслеев. -Екатеринбург: УрГЮА, 2001. -206 с.
- Прометей: ист.-биограф. альм. Т. 15. В. И. Вернадский. Материалы к биографии/сост. Г. Аксенов; науч. ред. И. И. Мочалов. -М.: Молодая гвардия, 1988. -352 с. -(Сер. «Жизнь замечательных людей»).
- Сартр, Ж-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии/Ж.-П. Сартр. -М.: Республика, 2000. -639 с.
- Современная западная философия: энцикл. слов./под ред. О. Хеффе, В. С. Малахова, В. П. Филатова; Ин-т философии РАН. -М.: Культурная революция, 2009. -386 с.
- Толстой, Л. Н.Отрочество/Л. Н. Толстой//Собр. соч.: в 14 т. Т. 1. -М., 1952. -246 с.
- Эко, У. Пять эссе на темы этики/У. Эко. -СПб.: Symposium, 2005. -159 с.
- Янг, Л. Ускоряется ход событий/Л. Янг//Дельфис. -2009. -№ 4. -С. 66-71.
- Яценко, А. И. Целеполагание и идеалы/А. И. Яценко. -Киев: Наукова думка, 1977. -276 с.
- http://ru.wikipedia.org/wiki