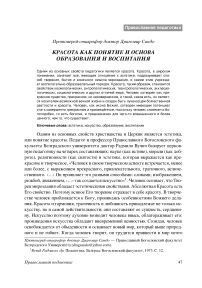Красота как понятие и основа образования и воспитания
Автор: Сандо Протоиерей-Ставрофор Доктор Драгомир
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Православная педагогика
Статья в выпуске: 4 (63), 2015 года.
Бесплатный доступ
Одним из основных свойств педагогики является красота. Красота, в широком понимании, означает все, имеющее отношение к эстетике, подразумевает способ творения, бытия и конечного смысла мироздания, и самим этим учреждает воспитательно-образовательный порядок. Красота, таким образом, становится свойством космологических, антропологических, теантропологических, экклесиологических, социологических и других отличий мира. Человек сотворен как прекрасное существо, прекрасное, но несовершенное, и такой, каков есть, он является носителем возможной вечной жизни и создан быть лученосцем божественной светлости и красоты. Человек, как икона Божия, сотворен имеющим потенциал стать совершенно прекрасным и просвещённым, поскольку человек словесен и богоподобен, то есть боголик, и предназначен для чего-то возвышенного и более ценного, чем то, что существует.
Эстетика, искусство, образование, воспитание
Короткий адрес: https://sciup.org/140190121
IDR: 140190121
Текст научной статьи Красота как понятие и основа образования и воспитания
прекрасное, обогащающее эстетику, таким образом достигая вечных ценностей. Так же и в отношениях с людьми человек преображает свою речь, письменность, любую свою деятельность. По Вучичу, христианское искусство устремлено к чему-то более глубокому, что формирует основу для полета мысли в побуждении познавать абсолютный мир. Человек творящий ищет непреходящего, вечного, божественного в человеке и того, что в мире указывает на присутствие Бога, он не задерживается на поверхности явления, не изображает только тело, но дух, глубочайшие побуждения и движения, расположения и склонности. Поэтому искусство без религии становится поверхностным и безыдейным 2 .
Целью Божественной педагогики является спасение человека от греха и его последствий. Спасение лежит в том, чтобы человек вернулся к первобытной цельности. Это достигается Божией благодатью и подвижническим усвоением человеком Божией благодатной силы, а совершенством становится жизнь по Богу и в Боге, единственный нормальный и естественный способ человеческого существования 3 . Совершенство как плод уподобления Богу представляет собой внутренний ритм человеческого жития и возрастания в тесном соприкосновении с красотой, иначе говоря — с эстетикой, то есть с более глубоким образом жизни.
Первые ассоциации при упоминании понятий «красиво» и «красота» взывают к человеческим чувствам и переживаниям. Человек — это существо, которое соткано прежде всего из чувств. И все чувства могут гармонично сопрягаться в соответствии с «высшими» потребностями человеческой жизни. Ощущение красоты для чувства зрения сопряжено с понятием образности. Зрение умеет воспринять не только то, что обладает порядком, гармонией и палитрой, но его посредством воспринимается и глубокий смысл самой образности, который возвышает, устремляет, мотивирует и, в итоге, преображает всего человека. Так же и со слухом: между высшим и низшим порогом человеческих возможностей, в красивой симфонии слов, песнопений, звуков, тонов и их взаимосвязей дается возможность верного восприятия красоты. В новом понимании красоты, в «эстетических чувствах» открывается отношение к прекрасному в искусстве, философии посредством интуиции.
Чувство прекрасного имеет и свою библейскую основу. На первых страницах Библии, посвященных сотворению мира, в книге Бытия уже в десятом стихе упоминается о сотворении суши и воды: «И увидел Бог, что это хорошо (καλόν)». Те же слова повторяются и на третий день Божия творения мира, и на четвертый, и на пятый, и на шестой день, когда Бог сотворил животных и человека. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма». О всем творении можно было бы сказать человеческой мерой: хорошо. Слова «хорошо» и «красиво» здесь уподобляются по смыслу. У древних греков это понятие называется калокагатия (принадлежность доброму и прекрасному). Такой смысл мы вкладываем в слова и сегодня, когда говорим: «Взгляните на красивого человека». Не имеется в виду обычно только физическая красота, но также и внутреннее достоинство человека. Библейским свидетельством здесь становится неоднократное восклицание: «Хорошо!» — что равнозначно понятию «прекрасно». И звучит это восклицание весьма оправданно, поскольку творение Самого Творца в первой книге Моисея действительно прекрасно (Быт 1:8– 10; 12; 18; 21; 25). Ибо «увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт 1:31). Такое толкование Библии с этетической стороны есть в Сепуагин-те, о нем говорил Татаркевич. Библейское восприятие создания мира из ничего раскрыло перед греко-римской культурой иной аспект красоты сотворенного мира. Так в основе библейской идеи явилось новое, эстетическое понятие мира в христианстве. Красота и гармония мира в своем разнообразии явили отражение божественной премудрости. «Все соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих» (Пс 103:24).
Идентификация понятий добра и красоты встречается не только в греческих текстах. У евреев, как и у греков, красота и добро почти не различаются. Греческое τό καλόν отвечает смыслу ветхозаветного понятия tob. Красивой (tob) вещь называется тогда, когда отвечает своему назначению, ведь пригодность к употреблению является главной чертой ветхозаветной эстетики. И tob ветхозаветного оригинала, и bonum Вульгаты отвечают старославянскому переводу «добро» или «хорошо», то есть дают положительную оценку в нашем смысле слова4. Так и Отцы Церкви приняли библейское понимание этих определений. У Отцов Церкви в значении красоты и прекрасного часто звучат традиционные выражения τό κάλλος, τό καλόν, καλός, pulchritude, pulcher, décor; нередко для разнообразия в выражении смысла красоты употребляются ώραίος, ή ώραιότη («угодный»), εΰορφος, εύειδής («приятный»), ό κόσμος («нарядный»). Между тем ближневосточные народы, в отличие от греков, видели красоту во всем, что жи- вет, двигается, играет, но особенно в силе и власти. Чувство красоты в них пробуждалось светом, цветом, звуком, голосом, вкусом и подобными средствами5.
Сравнение Бога-Творца с Художником не родилось у самих христиан. Оно принадлежит целокупной духовной атмосфере поздней античности, и трудно установить, кто и где первым употребил такое сравнение 6 . Христиане привнесли новый взгляд на все, переосмыслив в свете христианской космологии идеи своих противников-язычников и утвердив учение о божественном сотворении мира с точки зрения его порядка. Истина и языческие взгляды изначально отличались. Иустин и Афинагор воспринимали Бога как Художника, как и стоики: Бог упорядочивает и украшает предвечно существующую материю. В то же время Феофил и Татиан на Востоке, а Тертуллиан на Западе осознанно поднимают вопрос об особенном сотворении мира из небытия 7 .
Как позднее сформулирует А.Ф. Лосский, ранняя античная эстетика уделяла много внимания хорошо изготовленным вещам: «Для эстетики времен Гомера красивыми считаются пригодные вещи, а начиная с Платона эстетику интересовала сама по себе идея красоты». В классическом античном искусстве главное место занимала красота человеческого творения 8 . Дионисий, как типичный представитель ранней патристики, противопоставляет античному восприятию красоты и искусства принцип нового христианского эстетизма. Красота сотворенного мира служит ему важным аргументом для доказательства существования Божественного Творца, так же как наивысшая красота и истинное наслаждение находятся в сфере будущего преображенного бытия человечества, проповеданного христианским учением, то есть в сфере идеального бытия 9 .
Божественный Логос, Богочеловек Иисус Христос существует как Альфа и Омега человеческого спасения. В Его тайне открываются бескрайние возможности роста, заложенные в природе человека, становится явной возможность более глубокого уподобления Богу, а также ипостасного с Ним един-ства 10 . Во Христе объединяются различные предназначения: Учителя, Воспитателя и Советника. Как Учитель Христос обучает людей наивысшей Истине, как Воспитатель указывает путь праведника в обычной жизни и советует избегать ложных путей.
На Западе Христа поняли иначе. Один из западных эстетов, Велкер, констатирует: «Педагог есть практик, а не теоретик, его цель преображение души, а не учение; педагог указывает путь мудреца, а не человека науки. Прежде всего он приводит в порядок моральную жизнь. Он подготавливает “больного” к выздоровлению, чтобы тот мог воспринимать наивысшие Истины. Моральный путь стоит выше пути знаний. Его база — это вера, страх и любовь. Это религиозно-этический-эстетический путь усовершенствования человека, ведущий к “уподоблению Богу”» 11 . А мы бы добавили, что истинный педагог есть и практик, и теоретик, который показывает как путь мудреца, так и путь человека знаний. Моральная составляющая важна, но она не является исчерпывающей.
Человек сотворен как прекрасное существо, внешне красивое, но несовершенное, как возможный носитель вечной жизни, как лученосец божественного света и красоты. Человек, как икона Божия, сотворен имеющим потенциал стать совершенно прекрасным и просвещенным, поскольку человек словесен и богоподобен, то есть боголик, и предназначен для чего-то возвышенного и более ценного, чем то, что существует. Совершенная красота есть смысл и цель, и человеческое устремление невозможно основывать только на человеческих критериях, которые весьма ограничены по отношению к вечности. Главным выразителем красоты является Бог, то есть Богочеловек. «Боголикость, образность, красота человека были и есть первоевангелие, праевангелие, бессмертное Евангелие, неуничтожимое Евангелие. В той боголикости находится человеческая опора на Бога, человеческое осознание Бога, человеческое устремление к Богу и человеческая огромная свобода, и человеческая вечная жизнь, и человеческое изъятие от смерти, и человеческое усилие приблизиться ко всему, что вечно, и непрестанная педагогика»12. По свидетельству многих, антропология занимает главное место в христианской философии, и апологеты уделяли ей огромное внимание. Разумеется, без изучения проблем человека ни эстетика, ни художественная культура не могут быть полностью поняты. Для апологетов целый космос движется между двумя полюсами — Богом и человеком. Человек есть главное и любимое творение Божие. Забота о нем есть главная задача Божия делания и Промысла. Ради спасения и вечного блаженства человек стремится к Богу. Просвещаясь божественным авторитетом проявления внимания к своей личности, человек и сам начинает исследовать себя более серьезно. В истории культуры наступил момент, когда человек стал понимать, что ему надо беречь свою человечность как основную ценность, стараться быть человечнее — что не было ясно для большей части всего человечества. Так христианство, изобразив на своих знаменах лик Богочеловека, Который пострадал за других, первый раз в истории культуры подняло голос в защиту слабого, униженного, страдающего человека, покушаясь теоретически обосновать и доказать (полагаясь на божественный авторитет), что человек прежде сего должен быть человечным. Именно со времен поздней античности, начиная с апологетов, вводится понятие человечности13.
По учению Климента, истинная красота скрыта в человеке: она содержится в человеческой душе и в его теле. Конечно, Господь ценит природную красоту тела меньше, чем красоту души. Последняя проявляется в совершенстве и неразрывно связана с добром. Только добродетельный человек истинен καλός κ‘αγαθός . К добродетели ведет разум; если человек желает быть прекрасным, ему следует развивать в себе одну из дарованных способностей — разум. Такой человек будет устремлен к познанию истины, он будет жить Логосом, чтобы иметь в себе «облик Логоса, чтобы в итоге уподобиться Богу», и тогда воистину станет прекрасен. Его добродетель есть красота души, которая преобразит и тело 14 .
ПОНЯТИЕ КРАСОТЫ У ДРЕВНИХ НАРОДОВ
Понятие красоты как более широкое, имеющее воспитательнообразовательный характер понятие известно еще у древних народов. Такой подход находил выражение в фантастических формах. Гедонистическое восприятие связано с понятием о том, что красота усваивается «высшими чувствами» — слухом и зрением. Эстетика изделий не зависит от природы восприятия, но восприятие всех наших чувств может быть возведено до нужного уровня, соответствующего образу15. Педагогическую меру красоты искали в утилитарно-моралистическом видении искусства — так, чтобы красота привносила нравственную пользу в жизни. Но, чтобы не быть поверхностными, следует вновь обратиться к софистам. У греков и римлян бытовало утвержде- ние, что чистой наивной радостью можно укрепить дела истины и добра. Такое понятие красоты лежит уже не в физической области, но в эмоциональной, и имеет большее отношение к духовной энергии человека. Физические вещи являются лишь помощниками в постижении сущности красоты. Содержание слова «красивый» привлекало внимание многих остроумных мыслителей с изысканным вкусом, особенно критиков старой Эллады. У Сократа в одной из бесед, сохраненных у Ксенофонта, видим, как он останавливается, приходя к противоречию в заключениях, красиво ли то, что пригодно и отвечает потребности, или красиво то, что мы любим16. Платон предлагает развитие решений этих умозаключений. Где-то он говорит, что красота находится не в телах, а в законах, занятиях и науках; где-то связывает красоту с понятиями об истине, добре и божественности; иногда возвращается к Сократовым утверждениям о принадлежности красоты к пригодности в употреблении и целесообразности предмета; затем он разделяет «красивое» само в себе и по себе (кала кат авта) от относительно «красивого» (прос ти кала); иногда он видит красоту в чистом наслаждении без тени боли и страданий; иногда рассматривает пропорции предметов, цвета и тона в поисках красоты самой по себе. Когда Платон исключил осязательность красоты, стало еще труднее определить область ее поиска. В философской мысли трудно перечислить всех, кто скрупулезно занимались понятием красоты, поскольку за Платоном и его трудами, такими как «Горгий», «Филеб», «Федр», это понятие стало любимой темой многих его последователей в разных областях философской мысли17. Шеллинг сказал: «Платон хотел осудить искусство только своего времени, его натуралистичность и реалистичность, а также античное искусство в целом, которое несло в себе характер чего-то окончательного. Но он никогда бы не повторил свое осуждение, если бы познакомился с христианским искусством, чья характерность лежит в бесконечности. Недостаточна чисто абстрактная красота à la Winckelmann, ошибочно и негативно понятие индивидуализма в творениях искусства, когда ставится задача изобразить мертвую, грубую и неприятную вещь в узких рамках изображения индивидуального характера»18. Искусство само по себе характерно: характерна сама красота, по словам Гёте, положительного характера произведение искусства призвано излучать красоту, поэтому красота не индивидуальна, но является живым понятием, из которого способна произрастать любая личность. С точки зрения художника, важно найти творческую идею, и уже из нее создать произведение так, чтобы оно преображало личность в мире и ее окружение (Gattung); чем величественнее идея (Urbild), тем она меньше ограничена мирскими рамками обыденной жизни. Характерность красоты есть полнота форм, обуздывающая страсть, подобно руслу реки, направляющей ток воды в нужном направлении19.
ПОНЯТИЕ ПРЕКРАСНОГО В ХРИСТИАНСТВЕ
На базе многих проверенных и вдохновенных свидетельств следует подтвердить то, что красота достигает полного своего выражения только в христианстве. Премудрость Божия, открытая в Христовой Церкви, делает Церковь непрестанной школой. В ней учение постоянно. Церковь по своей природе и по своему деланию дарует не только знания, но и пути к их постижению, с добродетелями на первом месте. Всё, что Она имеет своей целью, по словам апостола, это чтобы «верные могли бы уразуметь со всеми святыми, что есть ширина, долгота, глубина и высота» (Еф 3:18), «имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем» (Еф 2:20), «и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею» (Еф 3:19). Просвещение через христианскую антропологию и через образование не означает примитивное накопление знаний, но означает питание духовной пищей, Хлебом Жизни 20 , или, говоря словами прп. Серафима Саровского, «стяжание Духа Святого». Эту тайну христианства и Церкви, в которой мир и человек достигают своей полноты, мы познаём в общении, образовании и воспитании. Целокупно божественное откровение Ветхого и Нового Завета живет как педагогическая память ( анамнеза ), и как действительность через проявление Духа Святого. Это единственная действительность и в то же время общеначальный пример просвещения.
В Церкви мы узнаём Христа как своего Учителя или, лучше сказать, Он там узнаёт и обнимает нас как Своих (ср. Гал 4:9). Просвещение в Церкви, как совершенная школа, проявляет себя не просто как теория, воспитывающая ум, но практически влияет на целостное наше существо, пронизывая красотой на все времена. Мы присутствуем на каждом богослужении как ученики на скамье урока Божия и продолжаем учебу, выходя из храма в мир, на протяжении всей благочестивой жизни. Называя Крещение просвещением, мы продолжаем просвещаться через остальные таинства: Миропомазание, Причастие и все другие.
В Литургическом катехизисе (поучении) нам открывается премудрость Церкви. Премудрость Церкви состоит из стяжания истинных знаний, высоконравственной жизни, а также из приобретения общих знаний и прославления Бога в совершенстве поучений. Библейские истины являются средой вдохновения. Ведь «наше учение согласно с Евхаристией, а Евхаристия подтверждает наше учение» (св. Ириней Лионский, Adversus hаereses, IV, 18, 5). В ней приобретаем знание и общение с небесными ангельскими силами; в ней учимся жить и мыслить вместе со святыми 21 .Христианское религиозное толкование понятия красоты раскрывает возможность ее влияния на все грани духа человека на разных уровнях, и в искусстве, и в литературе, и в философии, и в других модусах проявления духовной жизни. В том числе и в специфичных обстоятельствах жизни нации, любого из народов теория переплавляется в практику, ведущую к святости жизни.
Древнее христианство испокон веков вдохновляло сербское Православие. «Красота спасет мир», — сказал Ф.М. Достоевский. Это утверждение верно проявляет себя во всех доминантах сербской духовности и культуры. В литературе, как педагогической основе, красота сербской книжности отражена в традиции переписи богослужебных книг: древние списки Мирославова Евангелия и Псалтири хранятся в Мюнхенской библиотеке, позднее были рачанские спис-ки 22 , деятельность Гавриила Стефановича Венцловича 23 . Архитектура многочисленных средневековых храмов являет миру великую красоту. Иконы и церковная утварь причисляются к произведениям высокого искусства, открывающим стремление к вечной красоте. В Средние века на стенах монастырских храмов изображались монахи и священники с детьми на школьных скамьях (например, в Старых Нагоричанах) или святые врачи с лекарством в руках, культура жизни рядовых жителей, посуда и другие бытовые предметы, — то есть изображалась не мечта, а реальность. Сочность красок и пропорции икон невозможно и сравнивать с современной виртуальностью.
Красота в Церкви почивает и на церковных песнопениях, проповедях, словах молитв, на запахе ладана, на мощах, открывается в прикосновении к иконам, целовании и в принятии Христовых Таин.
«ПРОБЛЕМА» КРАСОТЫ
Человек — существо, которому свойственны три потребности: общение, жажда красоты и жажда знания. По мнению святого Григория Паламы, все эти три потребности подвергаются демонским нападениям, подобно тому как враг человеческий употребил ложь, искушая человека перед древом познания добра и зла всеми усладами чувственной природы. «И увидела жена, что древо хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание» (Быт 3:6). Демон, предлагая человеку красоту, предлагает и то, что отвечает природе человека и без чего человек не может быть человеком. Помрачая данный человеку благодатный дар отличать кратковременное от вечного, демон вместо действительной красоты подкладывает ложную, как он это делает с неполезной пищей и опасными знаниями, предлагает человеку кратковременное вместо долговечного, тленное вместо нетленного, смерть вместо жизни, тьму вместо светлости. Ложная красота, сотканная из чувственной природы, общение с ней и насыщение ею, вместо того, чтобы подавать предчувствие вечной красоты, по наговору демона превращает всё в трагедию, лишая благословения Божия, толкает к злоупотреблению обманом и прельщением 24 . В тайне древа познания добра и зла нам открывается весь порядок полезного употребления вещей с первых до последних дней человеческого существования, и этот порядок связан с правильным отношением к действительной и ложной красоте.
По рассуждению преподобного Иустина, внешняя красота форм исконно принадлежала благодатному содержанию, отражая сущность предмета, в то время как порок, прикрывая свое злое делание, стремится скрыть себя под красивой формой, которая ему не свойственна. Поэтому добродетель, не желая иметь с пороком ничего общего, отказывается от внешней красоты. А порок прилагает усилия применить маскировочную форму как можно эффективнее25. Отцы Церкви первых времен не отказывались от внешней природной красоты. Они в природной человеческой красоте и в красоте природы стяжали новый эстетический идеал, переосмыслив старый. Они активно выступали против «актеров» порока на всех уровнях. Они осуждали стремление людей украшать свои тела роскошными одеждами, драгоценными украшениями и косметикой, что ве- дет, с одной стороны, к возбуждению страсти, а с другой — уродует природную красоту тела и лица. Многие богатые женщины, приняв христианство, не могли освободиться от привычки носить, к примеру, парик, или удивлять всех цветом набеленного лица, необычными тканями или обилием драгоценных камней и золотых украшений. Таким распущенным и соблазнительным способом украшать себя они портили свою истинную красоту. Тертуллиан призывал отказываться от подобной практики, он утверждал, что всё это направлено на животные похоти, на разжжение страсти в мужчинах. Но не только женщинам бывали свойственны подобные пристрастия, такой слабости подвергались и некоторые мужчины: они слишком тщательно брились, укладывали волосы, скрывали седину, придавали телу моложавый вид, постоянно разглядывали себя в зеркале. Римское общество издавна жило искусственной красотой, забывая о существовании красоты природной. Тертуллиан говорил, что внешний вид человека должен соответствовать его внутреннему духовному содержанию и убеждениям. Чистота и простота христианской жены должны быть так велики, чтобы духовное изобилие распространялось вокруг, отражаясь и в одежде. Но не только идеалы целомудрия и скромности двигали первых христиан к аскетическому удалению от внешней роскоши, излишеств и украшательства. Сама суровая действительность, постоянная готовность к мученической смерти умаляли значение внешней красоты и устремляли к воздержанной жизни. Социальное положение первых христиан во многом определило их эстетические идеалы26.
Раннехристианская эстетика поставила духовные и моральные ценности выше примитивной привлекательности. В римском обществе того времени существовала противоположная тенденция культуры внешних проявлений, изысканность и манерность речи притесняли духовное значение культа, искажая смысл слов. Христианство в первые времена вынуждено было отречься от античного культа эстетизма, чтобы позднее, наполнив его компоненты новым значением, преобразить и утвердить его благотворную необходимость. Так зарождался средневековый эстетизм, который гораздо глубже античного. Новая культура, пройдя очищение, вернулась к эстетике природы, чтобы на базе платонизма и профетизма создать «эстетику духа» и потом, уже на новом уровне, возродить «эстетику художественного произведения», наполнив ее новым духовным содержанием. Христианская интуиция хорошо ощутила необходимость преобразования человеческой эротической энергии из сферы интимных взаимных от- ношений в область духовной любви к Богу, что стало сущностным побуждением в укреплении благочестия27.
Этот процесс длился более столетия и был отягощен сложными духовными и социальными конфликтами 28 .
Список литературы Красота как понятие и основа образования и воспитания
- Амфилохий, митр. Основы православного образования и воспитания. Цетиње: Светигора, 2002.
- Бичков В. Естетика Отаца Цркве. Београд: Службени гласник и Хришћански културни центар, 2010.
- Вучић Радмило, др. Педагогика. Белград: Богословский факультет, 1973.
- Зјењковски В. На прагу зрелости. Београд: Богословски факултет, 1984.
- Кроче Бенедето. Естетика. Београд: Космос, 1934.
- Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. М., 1979.
- Поповић Јустин. Житија светих за јануар.
- Сандо Драгомир. Богослужење као основа образовања и васпитања у Цркви. Београд: Глобосино, 2010.
- Симић Прибислав. Црквена уметност. Београд, 1994.
- Шестаков В.П. Гармония как эстетическая категория; Учение о гармонии в истории эстетической мысли. М., 1973.
- Kalkman A. Tatians Nachrichten ber Kunstwerke//Rheinisches Museum, 1887.
- Lexikon der Antike. Leipzig, 1979.
- Vlker W. Der wahre Gnostiker nach Clemens Alexandrinus. Berlin, 1952. 27Зјењковски В. На прагу зрелости. Београд: Богословски факултет, 1984. С. 60. 28В. Бичков. Естетика Отаца Цркве… С. 244.