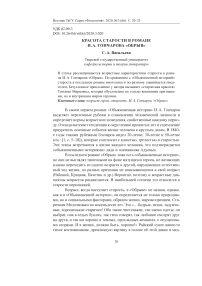Красота старости в романе И.А. Гончарова "Обрыв"
Автор: Васильева Светлана Анатольевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются возрастные характеристики старости в романе И.А. Гончарова «Обрыв». По сравнению с «Обыкновенной историей» старость в последнем романе многолика и по-разному оценивается писателем. Безусловное преклонение у автора вызывает «старческая красота» Татьяны Марковны, которая обусловлена не только внешними признаками, но и внутренним миром героини.
Возраст героя, старость, и.а. гончаров, "обрыв"
Короткий адрес: https://sciup.org/146281709
IDR: 146281709 | УДК: 82.09-3 | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.3.020
Текст научной статьи Красота старости в романе И.А. Гончарова "Обрыв"
В своем первом романе «Обыкновенная история» И. А. Гончаров выделяет переломные рубежи в становлении человеческой личности и определяет нормы возрастного поведения, свойственные каждому периоду. Отсюда вытекает тенденция к округлению прожитых лет и стремление приурочить основные события жизни человека к круглым датам. В 1840-е годы такими рубежами Гончаров видел 20-летие, 30-летие и 50-летие (см.: [1, с. 5–18]), которые соотносил с юностью, зрелостью и старостью. Эти этапы встречаются в жизни каждого человека, что подтверждается «обыкновенными историями» дяди и племянника Адуевых.
В последнем романе «Обрыв» тоже есть «обыкновенные истории», но они не выглядят типичными на фоне мятущихся героев, не желающих плавно переходить из одного возраста в другой, нарушающих естественный ход жизни, по разных причинам не вписывающихся в свой возраст (Райский, Крицкая, Пахотин и др.) Вероятно, поэтому и возрастные диапазоны возрастов раздвигаются. В наибольшей степени это относится к старости персонажей.
Возраст, когда наступает старость, в «Обрыве» не назван, однако, как и в «Обыкновенной истории», он определяется не только природными, но и социальными факторами, образом жизни, мировоззрением. Старичкам Молочковым по восемьдесят лет. Это «…бодрые, тихие, задумчивые, хорошенькие старички! Оба такие чистенькие, так свежо одеты; он выбрит, она в седых буклях, так тихо говорят, так любовно смотрят друг на друга, и так им хорошо в темных, прохладных комнатах, с опущенными сторами. И в жизни, должно быть, хорошо!» Райский «унес какое-то тихое воспоминание, дремлющую картину в голове об этой давно и мед- ленно ползущей жизни» [2, с. 84] (далее цитаты по изданию [2] приводятся с указанием только номера страницы в круглых скобках).
Старшие сестры Пахотина (их возраст не указан) «уединились в родовом доме и там, в семействе женатого брата, доживали старость» (16). Это были «две высокие, седые, чинные старушки». Они, как и Молочковы, не стремились следить за модой, но поддерживали древность рода, поэтому одевались удобно, но богато, ходили дома «в тяжелых, шелковых темных платьях, больших чепцах, на руках со многими перстнями» (16). Как и Молочковы, сестры Пахотины как будто законсервировали себя в своем старом доме, жили в полумраке; «…если западал слишком вольный луч солнца и играл на хрустале, на зеркале, на серебре, – Анна Васильевна находила, что глазам больно, молча указывала человеку пальцем на портьеру, и тяжелая, негнущаяся шелковая завеса мерно падала с петли и закрывала свет» (18). Все в доме было раз и навсегда определено, у всех вещей были свои места, «…тетки не могли видеть беспорядка: чуть цветы раскинутся в вазе прихотливо, входила Анна Васильевна, звонила девушку в чепце и приказывала собрать их в симметрию. Если оказывалась книга в богатом переплете лежащею на диване, на стуле, – Надежда Васильевна ставила ее на полку…» (18).
Такой же неподвижностью характеризуется и жизнь старой княгини, к которой заезжали Райский с Татьяной Марковной. «Княгиня была востроносая, худенькая старушка, в темном платье, в кружевах, в большом чепце, с сухими, костлявыми, маленькими руками, переплетенными синими жилами, и со множеством старинных перстней на пальцах». Райский видел «расчищенную дорожку, везде чистоту, чопорность, порядок»; но «жилым пахло только в одном уголке, где она гнездилась» (81).
Другой тип старого человека представляет отец Софьи Беловодо-вой Николай Васильевич Пахотин. Его женили на двадцать пятом году, Софье тоже двадцать пятый год, то есть Пахотину не менее сорока девяти лет. Это был «очень красивый, сановитый старик, с мягкими, почтенными сединами» (14). Николай Васильевич прекрасно одевался, следил за собой. В один из вечеров он вышел, «сияющий белизной жилета, моложавым видом и красивыми, душистыми сединами» (23). Сам он «никогда не называл себя стариком», предпочитая говорить «люди наших лет» (24).
Уважения к «почтенным сединам», однако, автор не выказывает, описание героя пронизывают сатирические нотки. После смерти супруги Пахотин «…вдруг спохватился, что молодость его рано захвачена была женитьбой и что он не успел пожить и пожуировать. Он повел было жизнь холостяка, пересиливал годы и природу, но не пересилил… <…> У него, взамен наслаждений, которыми он пользоваться не мог, явилось старче- ское тщеславие иметь вид шалуна…» (14). Отношение окружающих к Пахотину было пренебрежительным: «Не знавшие его почтительно сторонились, а знакомые, завидя шалуна, начинали уже улыбаться и потом фамильярно и шутливо трясти его за руку» (14). И даже в глазах сестер он был «…пустой, никуда не годный, ни на какое дело, ни для совета, старик и плохой отец…» (17). Пахотин, несмотря на прожитые годы, реальной жизни не знал; «…когда около него возникал важный вопрос, требовавший мысли или воли, старик тупо недоумевал, впадал в беспокойное молчание и только учащенно жевал губами» (15). Будучи представителем старинного дворянского рода, Пахотин умел держать себя в обществе, но «Свет, опыт, вся жизнь его не дали ему никакого содержания, и оттого он боится серьезного как огня. Но тот же опыт, жизнь всегда в куче людей, множество встреч и способность знакомиться со всеми образовали ему какой-то очень приятный, мелкий умок…» (15). Такая старость не вызывает уважения и не означает наличия жизненного опыта.
Внутренний мир героев Гончарова во многом характеризует интерьер. Размеренная, устоявшаяся жизнь Молочковых и сестер Пахотиных требовала покоя, полумрака и порядка. В комнатах Пахотина – напротив: «Старые предания мешались там с следами современного комфорта. Подле тяжелого буля стояла откидная кушетка от Гамбса, высокий, готический камин прикрывался ширмами с картинами фоблазовских нравов, на столах часто утро заставало остатки ужина, на диване можно было найти иногда женскую перчатку, ботинку, в уборной его – целый магазин косметических снадобьев» (18). Беспорядочная жизнь Пахотина обуславливала и «полный беспорядок» в доме.
Возраст Татьяны Марковны Бережковой назван довольно точно: «Высокая, не полная и не сухощавая, но живая старушка… даже не старушка, а лет около пятидесяти женщина, с черными, живыми глазами и такой доброй и грациозной улыбкой…» (60). Во второй приезд Райского, через пятнадцать–шестнадцать лет, во время ссоры с Тычковым Бережкова заявляет: «Меня шестьдесят пять лет Татьяной Марковной зовут» (377).
Еще в первый приезд племянника Татьяна Марковна называла себя старухой: «На тебе ключи, на вот счеты, изволь командовать, требуй отчета от старухи…» (65). Но она показалась Райскому красавицей, «…и в самом деле была красавица» (60). Позднее: «Она хотя постарела, но постарела ровною, здоровою старостью: ни болезненных пятен, ни глубоких, нависших над глазами и ртом морщин, ни тусклого, скорбного взгляда! Видно, что ей живется крепко, хорошо, что она если и борется, то не дает одолевать себя жизни, а сама одолевает жизнь и тратит силы в этой борьбе скупо. Голос у ней не так звонок, как прежде, да ходит она теперь с тростью, но не горбится, не жалуется на недуги. Так же она без чепца, так же острижена коротко, и тот же блещущий здоровьем и добротой взгляд озаряет всё лицо, не только лицо, всю ее фигуру» (154–155). Райский-художник подмечает ее «старческую красоту».
Не боится своего возраста и Тит Никоныч, называя его старостью, но это, как и у Татьяны Марковны, здоровая старость. Тит Никоныч «…не душился, не молодился, а был как-то опрятен, изящно чист и благороден видом, манерами, обхождением. Одевался всегда чисто, особенно любил белье и блистал не вышивками какими-нибудь, не фасонами, а белизной. Всё просто на нем, но всё как будто сияет» (69). В первый приезд Райского Титу Никонычу «…было лет пятьдесят, а он имел вид сорокалетнего свежего, румяного человека благодаря парику и всегда гладко обритому подбородку» (69).
Жизнь Татьяны Марковны наполнена движением, и это не только физическая подвижность, но и умение пересматривать сложившиеся правила, трезво оценивать и принимать новые явления. Конечно, Татьяна Марковна во многом строит свою жизнь, опираясь на традиции и стереотипы. «Она говорит языком преданий, сыплет пословицы, готовые сентенции старой мудрости <…> и весь наружный обряд жизни отправляется у ней по затверженным правилам» (222). За ней «незримо рисуется прошлое целого рода, опыт поколений она органически впитала, чтобы передать наследникам; она – хранительница родового гнезда, обычаев, традиций, норм» [5, с. 113]. Но герой видел: «Сквозь обветшавшую и иногда никуда не пригодную мудрость у нее пробивалась живая струя здравого практического смысла, собственных идей, взглядов и понятий» (222). Сложившиеся жизненные правила не превратились у бабушки в неподвижно застывший свод. Природная логика помогала ей делать правильный выбор «между стариной и новизной, между преданиями и здравым смыслом» (223).
Гончаров выступал за плавное, поступательное развитие и в жизни человека, и в жизни государств – как «сторонник естественной, органической эволюции всех форм общественности и культуры на их собственной исторической почве» [3, с. 27], а «человеческий прогресс – главная идея всего творчества Гончарова» [4, с. 435]. Райский во многом выражал авторские взгляды на прогресс: герой «приветствовал смелые шаги искусства, рукоплескал новым откровениям и открытиям, видоизменяющим, но не ломающим жизнь, праздновал естественное, но не насильственное рождение новых ее требований» (358). Райский видел, что у бабушки «под старыми, заученными правилами таился здравый смысл и житейская мудрость и лежали семена тех начал, что безусловно присвоивала себе новая жизнь, но что было только завалено уродливыми формами и наростами в старой» (359). Все это позволяло Татьяне Мар- ковне передавать накопленный веками опыт внучкам, придавало смысл ее жизни.
Конечно, Гончаров не осуждает ни уютную старость Молочковых, ни замершую жизнь сестер Пахотиных. Однако для гармоничной старости необходимо движение. Секрет здоровой старости, конечно, заключался и в том, что Татьяна Марковна «ладила с жизнью и переваривала всё это вместе, и была так бодра, свежа, не знала скуки, любила жизнь, веровала, не охлаждаясь ни к чему, и всякий день был для нее как будто новым, свежим цветком, от которого назавтра она ожидала плодов» (223). Для Райского бабушкина «старческая красота» – это «красота ее характера, склада ума, старых цельных нравов, доброты» (303). Красота старости, по Гончарову, – это способность изменяться, умение на основе веками проверенных истин выстраивать новые правила и передавать накопленный опыт потомкам. Поэтому за Татьяной Марковной в «Обрыве» видится – «…еще другая, исполинская фигура, другая великая “бабушка” – Россия» (772).
Список литературы Красота старости в романе И.А. Гончарова "Обрыв"
- Васильева С.А. Человек и мир в творчестве И.А Гончарова / Тверской гос. ун-т. Тверь, 2000. 184 с.
- Гончаров И.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Т. 7. СПб.: Наука, 2004. 773 с.
- Котельников В.А. Гончаров как цензор // Русская литература 1991. № 2. С. 24-51.
- Краснощекова Е.А. И.А. Гончаров: мир творчества. СПб.: Пушкинский фонд, 1997. 492 с.
- Старосельская Н.Д. Роман И.А. Гончарова "Обрыв". М.: Худож. лит., 1990. 223 с.