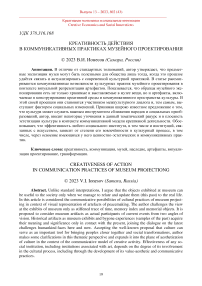Креативность действия в коммуникативных практиках музейного проектирования
Автор: Ионесов В.И.
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Статья в выпуске: 2 (43) т.13, 2023 года.
Бесплатный доступ
В отличие от стандартных толкований, автор утверждает, что предметные экспозиции музея могут быть полезными для общества лишь тогда, когда это прошлое удаётся связать и актуализировать с современной культурной практикой. В статье рассматриваются коммуникативные возможности культурных практик музейного проектирования в контексте визуальной репрезентации артефактов. Показывается, что образцы музейного экспонирования есть не только хранимые и выставляемые в музее вещи, но и артефакты, включаемые в конструирование креативной среды и коммуникативного пространства культуры. В этой своей проекции они становятся участником межкультурного диалога и, тем самым, выступают фактором социальных изменений. Принимая широко известное предложение о том, что культура может служить важным инструментом сближения народов и социальных преобразований, автор, вводит некоторые уточнения в данный тематический ракурс и в плоскость эстетизации культуры в контексте коммуникативной модели креативной деятельности. Обосновывает, что эффективность любого социального института, в том числе и институций, связанных с искусством, зависит от степени его вовлечённости в культурный процесс, в том числе, через освоение имеющихся у него ценностно-эстетических и коммуникативных практик.
Креативность, коммуникация, музей, наследие, артефакты, визуализация проектирование, трансформация
Короткий адрес: https://sciup.org/142240389
IDR: 142240389 | УДК: 378.316.168
Текст научной статьи Креативность действия в коммуникативных практиках музейного проектирования
Мир меняется, наследие остаётся. В этой ситуации обостряется противоречие между наследием прошлого и современностью, т.е. смыслом того, кому и чему служит наследие и того, как оно участвует в трансформациях современной культуры. Иначе говоря, встаёт вопрос: как сделать наследие современным, притягательным и конструктивным для настоящего. Поскольку только в этом случае наследие может быть эффективным ресурсом культурной политики, выполняя свою охраняющую функцию для культуры.
Едва ли не самыми репрезентативными площадками культурной ретрансляции социальных ценностей являются объекты музейно-выставочной деятельности. В культурных практиках музейного проектирования ярко артикулируются коммуникативные возможности предметного мира социума.
Музейные артефакты позиционируются в качестве актуальных участников культурных практик в двух ракурсах видения. Исторические артефакты как экспонаты музея и опыт пережитого (образцы прошлого) обретают свои смыслы и значения лишь в соприкосновении с настоящим, включаясь в диалог по самым последним вызовам бытия. Музей как своего рода классификатор культуры служит важнейшим институтом сохранения и визуализации исторической памяти.
Музей в проекциях меняющейся культуры:
может ли прошлое быть современным
В культуре музей выступает в самых разных проекциях. Так, музей это: 1) место коллекционирования и сохранения исторически значимых артефактов; 2) институт репрезентации социальных ценностей; 3) витрина образцов художественно-эстетического творчества; 4) механизм ретрансляции и передачи памяти (опыта); 5) технология культурной коммуникации; 6) объект социокультурного проектирования и креативной практики. Как же сделать меморативные объекты и музейные технологии эффективным инструментом культурной политики?
В своём недавнем исследовании культурной миссии современного музея Клэр Бишоп (вслед за В. Беньямином) различает два вида историй: одну, как хранительницу сакраментальной памяти (наследия), увековечивающая триумфы, и вторую как способ переквалификации и идентификации запросов сегодняшнего дня, выискивающий «в прошлом источник настоящего исторического момента», что и есть «определяющая мотивация нашего интереса к прошлому». Исследовательница обращает внимание на то, что «вместо того чтобы думать о музейных коллекциях как хранилищах сокровищ, их можно переосмыслить как общественные архивы» [1, с. 72], то есть своего рода ресурсно-
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations консалтинговые центры культуры, визуализирующие альтернативы развития и побуждающие нас к активной преобразовательной социальной практике.
Однако в современной музейной политике всё ещё сохраняется доминирование лишь первой охранительной функции музея. Именно с этим связан отрыв сакрально-оберегаемого мира музейных ценностей от насущных требований сегодняшнего дня.
В этой связи, необходимо различать наследие как 1) меморативное хранилище историй и ценностей прошлого и наследие как 2) субстрат настоящего, современного, причём самого насущного. Прошлое в своей культурноценностной проекции обретает свою конструктивную функцию через его широкое и ответственное вовлечение в актуальную практику современности.
Но что значит охранять? Охранять наследие следует понимать как возможность соединять, согласовывать, сочленять прошлое, настоящее и будущее. Без актуального настоящего, прошлое теряет всякое значение. Прошлое удерживается в культуре посредством современного, ибо нельзя охранять охраняемым. То, что охраняет должно быть отзывчивым, подвижным и своевременным . Ведь прошлое не живёт прошлым, оно таковым (прошлым) становится посредством и ради самого актуального настоящего.
Музейное проектирование как культурная практика
Представляется также важным трактовать музейное проектирование как культурную практику, генерирующую новые ценностные установки и значения в системе отношений прошлого и настоящего. В культурной практике предметной репрезентации конструируется коммуникативное пространство диалога вещи (экспоната) и человека (зрителя). При этом важно отличать культурную практику от других видов культурной деятельности людей.
Под культурной практикой понимается актуальный способ (образец) приложения (реализации) освоенных человеком/группой знаний (опыта), посредством которого осуществляется коммуникативный эффект смещения перспектив культурной деятельности [3-4]. В этой связи, не любой вид культурной деятельности правомерно определять как культурную практику. Содержательными компонентами культурной практики выступают: а) совместная проектная деятельность или соучастие, направленная на включение в культуру; б) необходимость в переменах, реорганизации, обновлении сложившихся культурных стереотипов; в) освоение, принятие и продвижение новых культурных установок (идей, проектов); в) публичная репрезентация и визуализация культурных ценностей; г) смещение и трансформация границ (перспектив) культурного поля; д) конструирование и продвижение новой модели взаимодействия (поведения); е) расширение коммуникативного пространства культуры; ж) креативность действия [3].
Однако в своей основе все эти проекции обусловлены взаимодействием между социальными и предметными артикуляциями культуры. Иначе говоря, речь идёт об отношении человека и вещи [3; 5]. Люди создают вещи и вклады- вают в них не только свою энергию (деятельность), но и своё видение мира, ценностные представления, чувственно-художественные переживания, социальный опыт. Ведь всякое веществование, по существу, есть приближение мира [5, с.316].
Следовательно, есть несколько причин рассматривать музей как культурную деятельность и креативную практику. Во-первых, музей выступает как институт культивирования опыта и образцов социальной практики посредством включения выставляемых артефактов в диалог с людьми. Во-вторых, предметные экспозиции музея могут быть полезными для общества лишь тогда, когда это прошлое удаётся креативно связать и актуализировать с настоящей жизнью. В-третьих, оставляя и выставляя артефакты только в качестве экспонатов прошлого мы, тем самым, консервируем и даже умертвляем их, лишая их функциональной сопричастности с современностью. В-четвертых, креативные практики музея культивируют коммуникативную мобильность и гражданскую дипломатию.
Об эстетизации культуры и креативности действия
Трудно не признать, что музейные практики и шире, креативные индустрии являются едва ли не самыми репрезентативными площадками для культурной ретрансляции социальных ценностей. При этом складывающиеся новые формы взаимодействия искусства и экономики расширяют возможности для культурной политики, делая её более результативной и социально-значимой. Экономику и искусство сегодня во многом объединяет креативность действия. Ведь как заметил Дмитрий Сергеевич Лихачёв: «Жизнь – это прежде всего творчество». В условиях быстро меняющейся реальности именно креативность действия становится движущим механизмом социальных преобразований. Но возникает вопрос, на что направлена художественная деятельность способна ли она существенно изменить экономику, политику, образование? Чем она управляет, какой частью социальной реальности? Когда культура становиться политикой, а политика культурой? Могут ли традиции быть современными? Чем измеряется продвижение культуры и её художественных институций? Ответы на эти вопросы определяют наше понимание формата и степени практической вовлеченности культуры в социальные изменения.
Значение данной когнитивной установки усиливается тем, что современность всё отчётливее позиционируется как эпоха битвы за культуру или эпоха сопротивления культур. Вот почему актуальным призывом сегодняшнего дня может быть лозунг: «Внимание на культуру!». Ориентация на культуру позволяет на многое пролить свет и найти возможности для решения насущных вызовов конфликтующего мира. Больше того, наука о культуре сегодня, по существу, служит эффективным методологическим инструментарием в диагностике и объяснении структурных пертурбаций и вызовов глобализации. Если раньше (до 70-х гг. 20 в.) приобщение к культуре рассматривалось как фактор развития личности, то на современном этапе – как фактор развития экономики (обще- ства), городов и регионов, а следовательно, как стратегия перемен и национальной безопасности. Современная культура открывает нам также новый опыт и переживание. Только через практику соучастия и креативности действия культура во многом оправдывает своё стремление служить человеку и успевать надлежащим образом меняться. В мире, где всё привязано к культуре, кто первым генерирует культурную реальность и владеет искусством управления изменениями, тот и контролирует социальные приоритеты, характер преобразований и добивается успеха [4].
Искусство в этом процессе перекодирования культурных смыслов и ценностей оказывается «сердцем трансформации» [6]. Поэтому здесь актуализируется ещё одна прокламация: «Внимание на искусство!». Роль искусства, и шире культуры сегодня трактуется в гуманитарном знании по-разному. В одном случае, размываются какие-либо границы искусства, в другом – искусство освобождается от каких-либо социальных обязательств и этических норм, в третьем – искусство преобразуется в контекст, отрываясь от самого произведения (арт-объекта). Кто-то даже заявляет о смерти искусство. Имею в виду Артура Данто. Хотя как признаёт известный теоретик художественной культуры: тот факт, что в современной культуре «всё в принципе может быть искусством, из этого еще не следует, что всё в действительности есть искусство». При этом, само «определение – что есть искусство – устанавливается миром искусства» [1].
Сегодня очевиден переход от узкого, сегментированного понимания искусства к её онтологическим проекциям. Внедрение новых креативных практик, «эстетических пространств» и арт-технологий вписывается и обуславливается рядом теоретических и прикладных разработок. К первым следует отнести: а) контекстуализм; б) интертекстуальность; в) пост- и недавно заявивший о себе метамодернизм. Ко вторым, ориентированным на арт-креативные практики, прикрепляются: а) сетевое искусство или net-art; б) бриколаж; в) ready made; г) DIY (do it yourself / сделай сам) и даже в известной мере д) нейроэстетика.
В процессе эстетизации культуры велика роль музыки. А.Ф. Лосев рассматривал музыку как высшую форму откровения в искусстве в силу того, что именно музыка есть идеальное воплощение движения жизни. Иными словами, благодаря музыки мы можем услышать и прочувствовать реальный жизненный процесс в потоке своего становления, здесь и сейчас.
В отличие от музыки в других видах искусства – скульптуре, архитектуре, живописи, литературе и пр., есть что-то утяжеляющее или урезывающее, недостающее. Визуальный арт-объект обременен материей, формой-образом, а значит, несет на себе некую печать постоянства и неподвижности. Слово также отягощено постоянством своей грамматической структуры, идеи и текста, то есть императивно заданными границами. Музыка же актуализирует энергию предельной свободы и независимости в потоке чистого становления и потому отстранена от онтологического затвердения и неподвижности. Здесь властвует стихия неудержимого становления, «изменчивость в постоянстве», то есть во- площается сама онтологическая сущность культуры. Не случайно, Ницше связывал рождение мифа именно из духа музыки.
Джону Леннону приписывается замечательное по своей точности определение: «Всё, что отнимает жизнь, возвращает музыка». Очевидно, музыкализа-ция культуры в критических ситуациях социального преодоления, испытания и надлома, больше, чем просто эстетический порыв в художественном освоении реальности – это, прежде всего, онтологический принцип, способ реорганизации культурной жизни и привнесения определенности в неопределенность бытия.
«Нам песня строить и жить помогает». Музыка позволяет снимать боль, преодолевать невзгоды. Как известно, ни одна победа в революциях, войнах, социальных преобразованиях (Великая Французская революция, Октябрьская социалистическая революция, ВОВ, Молодежная революция, перестройка, постсоветская Россия) не обходилась без музыкального сопровождения. Я бы сказал даже так: там, где нет музыки, там жди неприятностей, потерь и краха. Думается, помимо всего прочего, проблема нашей современности – недостаток музыки, вернее музыкального сопровождения того, что так быстро и драматично меняется. Где искать поддержку, как не в музыке? Но много ли написано песен, симфоний, опер и иных музыкальных сочинений о драме современности, тревогах, овладевших думами и чувствами людей?
Становится очевидным, что путь преобразования культуры лежит не столько на стандартах поведения, сколько на художественном преображении, эстетизации культуры и синтезе искусств. Эстетизация культуры может рассматриваться как парадигма позитивных изменений и сценарий конструирования новой коммуникативной среды. При этом важно сосредоточится не столько на знании как таковом, сколько на креативном использовании знания, его социальном проектировании и включении в культуру. Ибо в сегодняшнем мире как точно заметил Стив Джобс «мало обладать выдающимися качествами, надо ещё уметь ими пользоваться».
Заключение
Таким образом, артефакты музея как меморативные объекты не есть лишь экспонаты для себя и сами по себе, но они обретают свою культурную ценность лишь через коммуникативную включенность и в окружении, и посредством тех, кто в них нуждается. Без этого коммуникативного эффекта и онтологического сцепления стирается социальная значимость музейных экспонатов как культурных ценностей. Вещь в культуре становится ценностью, лишь оторвавшись от своей, замкнутой на себя, предметности, прикрепившись к другому. Примечательно, что самое ценное мы определяем как бесценное. Это позволяет нам допустить, что музей оживает и прирастает своими связями с тем культурным миром, который лежит в стороне от него, в сфере, большой и беспокойной современной жизни. Креативное практика в музейной политике состоит в умении согласовывать пространство и время, человека и вещь, традиции и инновации, а порою, искусно соединять несоединимое.
Список литературы Креативность действия в коммуникативных практиках музейного проектирования
- Бишоп К. Радикальная музеология, или так ли "современны" музеи современного искусства? М.: OOO "Ад Маргинем Пресс", 2014. 96 с.
- Данто А. Что такое искусство? М.: "Гараж"; Ad Marginem, 2017. 168 с.
- Ионесов В.И. Коммуникативные преобразования в миротворческих практиках музейного проектирования // Модернизация культуры: порядки и метаморфозы коммуникации. Материалы III Международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2015. С. 47-52. EDN: VAQEAD
- Ионесов В.И. Об эстетизации культуры и креативности действия в меняющемся мире // Мировоззренческие основания культуры современной России. Сборник научных трудов ХIV Международной научной конференции. Магнитогорск, 2023. С. 52-56. EDN: PSUCQE
- Хайдеггер М. Вещь // М. Хайдеггер. Время и бытие / Пер. с франц. В.В. Бибихин. М.: Республика, 1993. 448 с.
- Художественные парадигмы в эпоху социальной турбулентности", Междунар. науч.-практ. форум: в 2 т. Материалы Междунар. науч.-практ. форума (Самара, 2017/2018) / СГИК; под ред. В.И. Ионесова. Самара: СГИК; М.: ООО "Издательство "Согласие", 2019 (Т.1, с.806; Т.2. с.684).