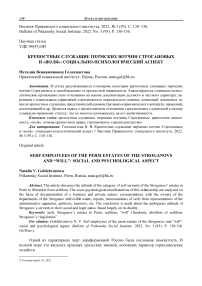Крепостные служащие пермских вотчин Строгановых и «воля»: социально-психологический аспект
Автор: Голохвастова Н. В.
Журнал: Вестник Прикамского социального института.
Рубрика: Наука и образование
Статья в выпуске: 3 (93), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается отношение категории крепостных служащих пермских вотчин Строгановых к освобождению от крепостной зависимости. Анализируются социально-психологические проявления этого отношения на основе документации делового и частного характера: переписки с владельцами управлений строгановского нераздельного имения, донесений, докладных записок крепостных служащих представителей административно-управленческого аппарата, прошений, воспоминаний и др. Делается вывод о неоднозначном отношении строгановских служителей к своему социально-правовому статусу, что во многом основывалось на его двойственности.
Крепостные служащие, пермские вотчины Строгановых, крепостная зависимость, «воля», отмена крепостного права, строгановское «законодательство»
Короткий адрес: https://sciup.org/14126326
IDR: 14126326 | УДК: 94(47).081
Текст научной статьи Крепостные служащие пермских вотчин Строгановых и «воля»: социально-психологический аспект
Одной из характерных черт дореформенной России была сословная замкнутость. В полной мере это касалось крупных уральских имений, носивших характер горнозаводских хозяйств.
В пермских вотчинах Строгановых, в которых находились, помимо пашенных и лесных угодий, соляные промыслы и металлургические заводы, особое положение занимала категория людей, называвшихся в официальных документах «дворовыми» или «крепостными служителями». Они явственно выделялись из массы крепостного населения по своему образовательному уровню, характеру занятий, условиям труда и быта, по своим социально-психологическим установкам. Одним из основных отличий служащих от других крепостных были их специфические место и роль в системе управления вотчиной: они были главным механизмом этой системы.
Специфичность этой социальной категории порождала их двойственное положение, связанное, с одной стороны, с занятием «свободными» профессиями, нефизическим трудом, довольно высоким уровнем образования, материальными и социально-юридическими привилегиями, приобщением к власти, с другой – со статусом крепостного, заключавшего в себе все «прелести» юридической зависимости личности, ее несвободы.
Отношение к освобождению от крепостного состояния, которое Строгановы, надо отметить, узаконили в своих вотчинах уже в первой половине XIX в. при определенной выслуге лет1, было у служащих все-таки не так однозначно, как об этом ранее говорилось в некоторых исследованиях («все они стремились к освобождению от крепостной зависимости» [1, c. 141]), хотя существование этого стремления в сознании крепостных служащих представляется, на первый взгляд, вполне логичным.
Служащие знали, что в соответствии со строгановским «законодательством», отпуск «на волю» и соответствующее пенсионное обеспечение положены им после определенной (довольно большой) выслуги лет [2, c. 153–168], следовательно, им ничего не оставалось, как спокойно ждать наступления этого времени и «высшего соизволения» владельца. Ускорить события пытались немногие крепостные служащие, и для этого должна была появиться веская причина. Так, служитель Фёдор Воронин просит графа С. Г. Строганова дать ему свободу, поскольку найти место на «вольной службе» (где он уже находился на протяжении нескольких лет и успел узнать ее выгоды) крепостному очень сложно, да и нельзя «заслуживать того личного уважения, доверия и, наконец, иметь тех прав и преимуществ, коими с превосходством пользуются лица свободного состояния». Причем служить «на воле» Воронин пошел только потому, что был отставлен от господской службы. Поверенному Строгановых в г. Перми Адриану Пушкину свобода необходима потому, что его трем сыновьям, освобожденным от крепостного состояния, но являющимся детьми крепостного, грозит жалкая участь – быть обращенными в работников при казенных садах, а это, по мнению А. Пушкина, даже хуже, чем его положение у Строгановых. Приказчик Павловского завода Пётр Калинин просит «отпускной» для своего сына, чтоб он мог продолжить изучение химии в лаборатории Московского университета, которое начал в закрывшейся Московской Земледельческой школе, где обучалось довольно много детей крепостных служащих. Пенсионер Илья Рогов, также заботясь о лучших перспективах для своего сына Александра, считает, что последний найдет лучшее применение себе как юрист «на воле», а не в имении Строгановых, где, конечно же, не могло быть разнообразной и широкой юридической практики, а поэтому просит отпустить молодого крепостного на свободу2. Отказ в получении «вольной» был обычным явлением и воспринимался служащими в массе своей как естественный: «хозяину виднее».
Следовательно, в основе отношения большинства представителей административноуправленческого аппарата строгановских вотчин к вопросу о «воле», тесно связанного с отношением непосредственно к владельцам, лежал принцип социального компромисса.
Значительнейшим событием, переворотом в общественной, правовой, экономической жизни России явилась отмена крепостного права. Канун «великой реформы» и период ее реализации можно считать определенным индикатором, наиболее четко проявившим некоторые специфические черты социальной психологии этого «отряда» строгановских крепостных.
Из деловой переписки управления Пермского нераздельного имения Строгановых с владельцем известно, что в период, предшествовавший отмене крепостного права, внимание служащих майората было приковано к газетам, оповещавшим о подготовке «великой реформы» и ходе ее проведения в западных и северных губерниях России1.
Известие об отмене крепостной зависимости, дошедшее до далекой уральской глубинки, конечно, взволновало крепостное население, в том числе и служащих, но последних – ненадолго. «Между служителями Усольского округа, – писал в донесении главноуправляющему майората управляющий упомянутым округом И. В. Глушков, – распространились слухи и толки об уничтожении крепостного состояния. Вскоре затем было получено <...> обнародование в газетах, и как оно возвещено, во-первых, под именем улучшения быта крепостных людей, а, во-вторых, с условиями выкупа земли, то и нескромные надежды на безусловную вольность миновали, и служители ждут теперь царских распоряжений о преобразовании крепостного состояния спокойно и наибольшая часть – равнодушно»2. Управляющий Билимбаевским округом майората Строгановых П. С. Шарин сообщал главноуправляющему имением В. А. Волегову, что у него «люди совершенно спокойны, ибо они знают, что <...> на соседственных заводах скорее хуже, чем лучше»3. Старший приказчик Добрянского и Софийского заводов Строгановых А. И. Тунёв по этому же поводу доносил: «Служители <…>, некоторые хотя и с нетерпением, но смирно, а другие – с трепетом, ожидают перемены»4. В массе своей служащие были либо инертны к своему будущему освобождению, либо даже боялись его: боялись, в первую очередь, потерять собственную исключительность среди крепостных, оказаться в одном ряду с крестьянами и мастеровыми; но больше всего боялись потерять свою материальную базу, опеку хозяина, т. к. далеко не все были уверены в собственных силах, для того чтобы занять достаточно прочное положение на вольной службе. Помощник главноуправляющего майоратом Павел Бушуев писал в Главную Санкт-Петербургскую контору Строгановых в 1861 г.: «Высочайше утвержденное положение дворовым людям кроме личной свободы не дало никаких материальных обеспечений в будущем их устройстве. При ограниченном жаловании, производимом от владелицы за службу, едва достаточном только на содержание, никто из служителей, сколько мне известно, не мог сделать сбережений... У всех служащих одна надежда, что владелица их не оставит, и дай Бог, чтоб эта надежда их оправдалась»5. Для большинства служащих, особенно для представителей административно-управленческого аппарата, как нам кажется, «воля» была лишь символической целью, основанной на явном противоречии между достаточно высоким уровнем их самосознания и унизительностью (де-юре – бесправием) положения крепостного.
Из этого правила были редкие исключения. Например, вышеупомянутый А. П. Пушкин, все-таки отпущенный Строгановыми «на волю» еще до 1861 г., стал проповедником так называемой «настоящей реформы», активным распространителем идей о «неполном» освобождении крепостных («духом, но не телом»), т. к. это освобождение производилось хоть и с землей, но не безвозмездно. Пропагандируя свое «учение», имевшее также и религиозную окраску (идея мессии), Пушкин неоднократно открыто обращался с критикой реформы к губернскому начальству, министру внутренних дел, в Святейший Синод и к самому императору, за что деятельность его была жестоко пресечена [3, c. 100–101; 4, c. 14].
Однако пример А. П. Пушкина, как мы уже подчеркивали, не является типичным. Вот как описал в своих воспоминаниях бывший крепостной служащий Строгановых А. Я. Власов торжества на Билимбаевском заводе по поводу освобождения «служителей» в майорате: «В этот день, составляющий эпоху в нашей жизни, – день, давно ожидаемый дворовыми людьми, – большая часть служащих с утра собрались в правлении и от души приветствовали друг друга с прекращением обязательных отношений к помещице, с наступлением совершенной свободы». Правда, сразу после этого они пошли к управляющему, чтоб выразить ему «искренние чувства глубокой благодарности» как представителю бывшей госпожи [5, c. 37].
Более того, служащие, многие из которых были заняты на разных ступеньках административно-управленческого аппарата вотчин, по долгу своих профессиональных обязанностей и по своему самосознанию (считали себя приближенными к власти, к хозяину) являлись непосредственными проводниками политики владельцев по отношению к другим категориям крепостного населения – крестьянам и мастеровым, особенно в такой непростой период, каким был канун реформы.
Для сравнения следует отметить, что поведение, например, строгановских крепостных крестьян в это время было отнюдь не инертным. Вообще, несмотря на относительную социальную стабильность в строгановских вотчинах, «острые углы» имели место, и даже в отношении крестьян к самим хозяевам, не говоря уже об административно-управленческом аппарате. Так, накануне отмены крепостного права крестьяне Верх-Юсьвенского ведомства Инь-венского округа Пермского нераздельного имения графов Строгановых позволяли себе такие высказывания в адрес владельца: «Господин-то наш за всякую малость, вероятно, хочет брать с нас деньги, – ещё мало мы ему платили, когда умрём, так тогда и за могилу <...> возьмёт деньги, совсем он уже нас разорил, чёрт он, а не господин»; «...помещик прежде, чем отпустить своих крепостных на волю, намерен разными поборами довести их до нищенства»; «…помещик из своих выгод не желает уволить своих крепостных на волю»1 и т. п. Отношение крестьян к представителям вотчинного управления было, судя по всему, еще более негативным. В служащих, особенно в тех, кто непосредственно на местах осуществлял исполнение распоряжений хозяина и правительства, крестьяне видели главное зло. Так, передавая в апреле 1858 г. в Главное управление майората сведения о «движении умов» среди крестьян Иньвенского округа, управляющий Василий Гилёв сообщал: «На усть-мечкорской мельнице помольцы между собой толковали, что они с мая месяца будут казёнными, что об этом Главный управляющий, бывши в Кувинском заводе, в конторе читал бумагу; тогда они знать не будут нынешнее начальство, а у них будет своё начальство – казённое; ...это объяснил мне мельник... На замечание его, что мужики толкуют неладно, они ему сказали, что он, видно, заединщик с начальниками»; далее В. Гилёв указывал на то, что среди строгановских крестьян было распространено мнение, что «от Графа есть бумага, да начальники затаива-ют»2. Многие крестьяне ожидали, что если они станут «казенными», то тогда «по-старому заживут хорошо – будут, где захочут, чистить и палить лес и сеять на новину, ныне господское начальство не позволяет ни расчищать, ни костров жечь, а тогда им никто не укажет»3. Несмотря на общность крепостного статуса, крестьяне ощущали, что вотчинные управленцы являются по отношению к ним чуждой социальной группой. Яркий пример резко отрицательного отношения крестьян к служащим – слова крестьянина д. Мучаковой Верх-Юсь- венского ведомства Василия Софронова, обращенные к представителю власти, хотя и простому обмерщику, Александру Желнину: «Правление твоё я знать не хочу и пошёл бы ты с ним к чёрту, ваш брат (курсив наш. – Н. Г.) всяко старается грабить то нас да деньгами то набивать себе карманы…»1. Очевидно, враждебно относились к вотчинному управлению крестьяне всех округов и ведомств. В 1858 г. неповиновение действиям правления оказали крестьяне и Очерского округа, а также, что интересно, Ильинского, о которых в январе 1858 г. В. А. Волегов с уверенностью писал, что «они совершенно спокойны и, по-видимому, не желают перемены», и привел как пример отношения всех строгановских крестьян к владельцу и его управлению слова зажиточного крестьянина Филатовского ведомства Петра Орлова: «...Все хорошие мужики не хотят уходить от графа, наш-то нам ещё лучшего, слава Богу, нам и здесь хорошо, и начальство своё знаем». Диссонансом этому звучит отзыв ильинских крестьян о начальстве, относящийся к июню того же года: «...Когда будем вольные, так тогда и в правление то твоё...» (далее употреблено скверное слово)2. Причиной волнений, вспыхнувших весной 1861 г. среди вотчинных крестьян в с. Ёгва, были слухи о фальсификации помещиками и местной администрацией царского манифеста и о существовании подлинного законоположения. Крестьяне отказались платить владельческие повинности, не признавали Положение 19 февраля, утверждая, «что есть ещё другое, которое от них скрыто начальством» [6, c. 63]. Не следует думать, что крестьяне «подняли голову» и «прозрели» только в преддверии освобождения. Как указывает К. С. Маханёк, еще в 1824 и 1832 гг. иньвен-ские крестьяне выступали против вотчинников и их административно-управленческого аппарата: первоначально они предъявили требования к владелице «о перемене всех членов правления», а потом подали жалобу царю на излишнюю тяжесть повинностей и жестокость сельских начальников «с присовокуплением прошения об освобождении их от подданства государыни графини» [7, c. 155].
В период подготовки преобразований, в начале июля 1859 г., именно в управления – Главное и окружные – Пермского нераздельного имения графов Строгановых были присланы, еще до их официального утверждения, проекты документов о проведении реформы в частных горнозаводских хозяйствах, в разработке которых в составе специального комитета принимал самое активное участие граф С. Г. Строганов: «Проект положения об улучшении быта горнозаводского населения частных имений в губерниях Пермской, Вятской, Вологодской, Самарской и Казанской» и «Особое мнение пяти членов Комитета уральских заводовла-дельцев». Члены управлений должны были подробно изучить эти проекты, во-первых, чтобы четко представлять, какую миссию возлагает на них владелец, как, по мнению графа, необходимо непосредственно осуществлять реформы в вотчинах; во-вторых, «управленцам» необходимо было высказать свое мнение, замечания по конкретному содержанию документов, которые способствовали бы оптимальному внедрению новшеств на практике [3, c. 84, 101].
Служительская элита отнеслась к этому поручению с полной ответственностью и рвением. В августе 1861 г. в центре строгановского майората – с. Ильинском был созван Совет управляющих, который выработал документ, содержавший общие принципы и практические меры по реализации реформы в строгановских имениях; причем уже в нем имели место явные отступления от закона отнюдь не в пользу зависимого населения вотчин – крестьян, мастеровых и низших «дворовых» [3, c. 96–98]. И спустя много лет бывшие крепостные «управленцы», также служа у Строгановых и продолжая проведение реформы в жизнь, жестко стояли на страже интересов владельцев, открыто ущемляя права населения горнозаводских вотчин, даже если эти права защищали, основываясь на нормативно-правовых актах, государственные органы и должностные лица.
Особенно ярко демонстрирует это «служение» история о наделении землей (покосами и лесными участками для заготовки дров) заводских мастеровых и бывших «дворовых» Добрянского округа, длившаяся до октября 1917 г. Когда после длительной подготовки, неоднократной переделки и утверждения главноуправляющим майората дополнительный и выкупной акты по этому вопросу были представлены на рассмотрение земскому начальнику 6-го участка, неожиданно 29 апреля 1913 г. поверенный графа С. А. Строганова, также выходец из крепостных, П. В. Сюзёв сделал заявление о приостановке всей процедуры, причиной которой явилась очередная попытка поставить во главу угла интересы владельца в ущерб интересам заводского населения. Как подчеркивает С. Г. Шустов в своем исследовании о майорате Строгановых, «в том, что ни по одному строгановскому заводу мастеровые так и не смогли юридически закрепить за собой землю, был серьезный “вклад” служащих Главного управления имения» [3, c. 275–276].
Таким образом, отношение строгановских служащих к вопросу о «воле», к предстоящей перемене их правового статуса и их поведение в период осуществления отмены крепостного права основывались, в первую очередь, на их особом, во многом привилегированном социально-экономическом положении в вотчинах. Большинство служащих плохо представляли себе свое будущее после отмены крепостного права, в массе своей хотели, по возможности, сохранить статус-кво, остаться в прежней, исключительной роли в системе управления горнозаводского имения. В психологии строгановских служащих и в их деятельности в период проведения «великой реформы» более четко проявились, на наш взгляд, черты консерватизма.
Список литературы Крепостные служащие пермских вотчин Строгановых и «воля»: социально-психологический аспект
- Дашкевич Л. А. Формирование технической интеллигенции в горнозаводской промышленности Урала дореформенного периода (конец XVIII в. – 60-е гг. XIX в.): дис. … канд. ист. наук. Свердловск, 1989.
- Мезенина Т. Г. Пермские владения Строгановых в XVIII – первой половине XIX в.: особенности пространственной и социально-экономической организации: моногр. Нижний Тагил, 2011.
- Шустов С. Г. Пермское нераздельное имение графов Строгановых во второй половине XIX – начале XX вв.: моногр. Пермь, 2008.
- Харитонова Е. Д. Пермский мыслитель Адриан Пушкин // Мысль. 1993. Декабрь. № 4. С. 14.
- Власов А. Я. Воспоминания и служба старика из дворовых. СПб., 1907.
- Побережников И. В. Общественные настроения в уральской деревне XVIII–XIX вв.: опыт классификации слухов // Уральский исторический вестник. 1995. № 2. С. 58–73.
- Маханёк К. С. Организация управления крепостными крестьянами в вотчинных имениях Урала. (По материалам Пермской губернии) // Из истории Урала: сб. ст. Свердловск, 1960. С. 145–156.