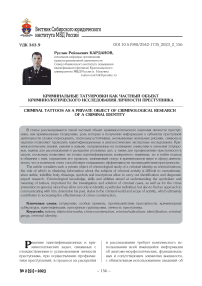Криминальные татуировки как частный объект криминологического исследования личности преступника
Автор: Карданов Р.Р.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 2 (51), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается такой частный объект криминологического изучения личности преступника, как криминальные татуировки, роль которых в получении информации о субъектах преступной деятельности сложно переоценить, поскольку устойчивые, несмываемые нательные рисунки, символы и надписи позволяют проводить идентификационные и диагностические экспертные исследования. Криминологические знания, умения и навыки, направленные на понимание символики и значения татуировок, важны для расследования и раскрытия уголовных дел, а также для профилактики преступности в целом, поскольку позволяют не только идентифицировать конкретного индивида, но и найти подход в общении с ним, определить его прошлое, занимаемый статус в криминальном мире и сферу деятельности, что в конечном счете способствует повышению эффективности противодействия преступности.
Татуировки, особые приметы, противодействие преступности, криминальная субкультура, идентификация, преступные группировки, личность преступника
Короткий адрес: https://sciup.org/140301934
IDR: 140301934 | УДК: 343.9 | DOI: 10.51980/2542-1735_2023_2_156
Текст научной статьи Криминальные татуировки как частный объект криминологического исследования личности преступника
Решение идентификационных и криминологических задач, связанных с отождествлением и установлением личности преступника, при осуществлении профилактики преступлений, в процессе их раскрытия и расследования требует комплексного использования всей имеющейся информации об анатомо-морфологических, функциональных и сопутствующих элементах внешности, с обязательным использованием сведений об особых приметах (заметных признаках) облика правонарушителя [1].
Потребность в самовыражении реализуется различными способами, среди которых на сегодняшний день широкую популярность приобрели татуировки – перманентные рисунки на теле, являющиеся неотъемлемым инструментом идентификации человека. Татуировки традиционно являются значимым объектом криминологического исследования личности преступника, поскольку выступают важным источником сведений как об особенностях внешнего вида и личности ее носителя, так и о его социальном окружении, в том числе о принадлежности к определенному статусу в преступном мире.
Появление и развитие татуировок как явления характерно для криминальной, тюремно-лагерной субкультуры. Криминальная субкультура – это прежде всего совокупность альтернативных по отношению к традиционной культуре норм и ценностей, которые часто могут быть выражены в форме нательной живописи, то есть татуировок как отличительных знаков и ориентирующих символов для представителей преступного общества. Криминальная субкультура выступает в качестве инструмента интегрирующего криминальную среду, в том числе посредством татуировок. Именно в рамках криминальной субкультуры постепенно формировались соответствующие правила, а нательные картинки стали признаваться как орудие коммуникации и дифференциации, изобретались новые символы и особые, часто неприметные, но важные детали рисунка [2]. Ведь, как справедливо отмечают А.С. Сергиенко и П.В. Тепляшин, «наказание создает образ несправедливого общества, включая его ценности и установки. Образовавшаяся ниша заполняется образами и вполне реальной организацией «справедливого» пенитенциарного пространства. Появляется моральная основа для культивирования соответствующих правил криминальной субкультуры» [13, с. 101].
Итак, представляется возможным рассматривать криминальные татуировки как частный объект криминологического исследования личности преступника.
В первую очередь необходимо обратиться к субкультуре в местах лишения свободы, поскольку именно данное явление отрицает официальные моральные принципы и нормы, негативно воздействует на личность осужденного, стимулирует девиантное поведение, предстает механизмом противодействия процессу исполнения наказания. Криминальная субкультура способна радикально трансформировать восприятие социальной иерархии, общественной и государственной системы. По этой причине она предусматривает нанесение татуировки в целях выделения и поощрения начинающих преступников и многоопытных «героев» криминального мира. Татуировки могут быть использованы и как своеобразные санкции для провинившихся преступников, что чаще всего происходит в местах лишения свободы.
Впервые на распространение специфических татуировок среди сторонников криминальной субкультуры обратил внимание Ч. Ломброзо, указывав, что татуировки тесно связаны с умственными способностями их носителей, к числу которых относил прирожденных преступников. В качестве примера он приводит высказывания осужденных: «Татуировка для нас как фрак с орденами: чем больше татуированный, тем больший авторитет имеешь среди приятелей, тогда как не татуированный, напротив, не имеет влияния» [8].
В контексте криминальной субкультуры татуировки выполняют ряд взаимосвязанных функций:
– коммуникативно-идентификационную, обеспечивающую своеобразную форму идентификации «своих» и «чужих» и установление доверительного общения для представителей преступного мира;
– адаптивно-психологическую, облегчающую представителям криминального мира процесс вхождения в ранее незнакомые им преступные группы или тюремные сообщества;
– агитационную, обеспечивающую вовлечение в преступную среду молодежи посредством создания «красивых» мифов о воровских сообществах и романтизации преступной жизни;
– ценностно-эстетическую, создающую предпосылки для внедрения в сознание носителей татуировок определенных художественных ценностей, предпочтений и представлений о красоте.
Уголовная татуировка является одновременно и знаковой системой общения, и средством стигматизации и украшения. Так, например, в криминальной субкультуре восьмиконечные звезды являются символами, указывающими на авторитетность преступника; изображение герба символизирует известность данного лица во всех регионах Российской Федерации. У лидеров преступных групп часто встречается татуировка кинжала, воткнутого в голову, на правой ноге и «колокольчика» на левой.
В контексте влияния криминальной субкультуры на динамику уголовной тату-символики следует отметить одну значимую тенденцию, наметившуюся в последние годы: в отношении к татуировкам все более отчетливо отражается борьба традиционалистских и реформаторских групп в преступном мире. Традиционалисты отстаивают «чистоту и незыблемость» воровских законов, что находит отражение в их отношении к правилам нанесения татуировок на тело. Реформаторы преступного мира, напротив, легко приспосабливают эти законы к потребностям сегодняшнего дня, учитывая изменившуюся в стране социальную обстановку. В итоге у многих членов преступных сообществ татуировки уже не полностью соответствуют ранее установленным «воровским законам», даже если они в целом их соблюдают и чтут [12].
В научной литературе к настоящему времени накопилось немало сведений о значении и роли татуировок в преступном сообществе и ряд достаточно эффективных подходов к классификации и определению уголовной символики татуировок. Татуировки характеризуются как «наглядное хроническое клеймо судимости», их символика связана непосредственно с процессом формирования различных преступных типов личности в местах лишения свободы [5].
В настоящее время подавляющее большинство лиц, осужденных к лишению свобо- ды и находящихся в исправительных учреждениях, имеют на теле татуировки, причем количество нательных символов криминальной тематики увеличивается с возрастанием числа судимостей. При этом уголовные татуировки чаще встречаются среди лиц мужского пола и наиболее характерны для отбывающих наказание в исправительных колониях строгого и особого режима.
Основными мотивами, которые преследуют лица, наносящие на тело уголовную тату-символику, являются: неписаное правило принятия в криминальную субкультуру, стремление к почестям, тщеславность, следование негласным традициям, приверженность ценностям преступного мира и др.
Анализ изображений на телах представителей криминальных групп позволил современным экспертам выделить ряд наиболее распространенных видов информации, которую можно получить посредством трактовки скрытых или открытых всем значений и смыслов:
-
– о месте и времени отбывания наказания;
-
– о судимости (судимостях) и составе преступления, за которые осужден;
-
– о положении лица в преступной среде;
-
– об основных интересах и сферах деятельности;
-
– информация, раскрывающая отношение к жизни и окружающим;
-
– о близких связях, эстетических вкусах;
-
– информация, раскрывающая скрытые намерения и наклонности.
Такие идентификационные свойства татуировок, как индивидуальность, относительная устойчивость, сопротивляемость изменениям, наглядность, рефлекторность, выделяемые в научной литературе [10], служат целям идентификации личности преступника. Индивидуальность татуировок заключается в совокупности уникальных свойств, присущих каждому нестираемому элементу на теле, – форма, размер, расположение, цвет, качество выполнения работы и прочие внешние характеристики образуют комплекс элементов, формирующих конкретный рисунок, представляющий собой «формулу», по которой происходит отождествление конкретного лица. Относительная устойчивость характеризуется неизменностью татуировки на протяжении длительного времени – она сохраняется на теле человека даже после его гибели.
В результате исследования татуировок с учетом их фиксированных смысловых значений можно получить большой объем криминологически значимых сведений персонифицированного характера: от конкретных значимых для личности дат до личных качеств и индивидуальных культурных ценностей. Даже если татуировки не нанесены в строгом соответствии с воровскими традициями, они могут нести важную информацию об определенных психологических особенностях и социальных установках личности потерпевшего, подозреваемого или уже осужденного преступника. Многие татуировки на теле имеют уникальный характер, личностно-окрашенную и биографически обусловленную символику. Кроме того отдельные, совсем незначительные на первый взгляд изображения на теле человека, могут «говорить» о нем гораздо больше, чем объемные, но скорее чисто декоративные композиции на других участках тела.
Иными словами, все татуировки могут нести весьма значимую информацию о личностных особенностях и преступных установках их носителя [7]. Эта информация может быть использована как экспертами, следователями, так и сотрудниками пенитенциарных заведений. Так, татуировка может стать весомым доказательством в уголовных делах по ст. 210.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии, как это произошло в деле Ш.Т. Озманова, которому 7 октября 2020 г. Московским городским судом вынесен обвинительный приговор. Учитывая, что указанная статья действует чуть менее четырех лет, а практика ее применения лишь начинает складываться и наблюдается увеличение количества осужденных по данной статье (в 2020 г. – 8 осужденных, за 1 полугодие 2022 г. – 7), можно прогнозировать востребованность дальнейших методических разработок в данном направлении в целях расширения соответствующих идентификационных признаков, позволяющих выявлять на основе татуировок главарей преступных групп и сообществ.
В целях идентификации по татуировкам членов преступных сообществ и отличия их от всех остальных граждан должен осуществляться комплексный анализ всех нательных надписей и изображений с определением объединяющих их признаков, указывающих на общность их содержания. В рамках такого комплексного анализа должны быть учтены все возможные виды татуировок по их направленности и исходному назначению, которые принято подразделять сигналь-но-обособительные, стратификационно-информационные, личностно-установочные, сексуально-эротические, сентиментальные (памятные), профессиональные и тюремные (воровские) [11]. Указанные виды татуировок могут дать взаимодополняющую информацию при использовании их значений в комплексном анализе личности носителя.
Процедура идентификации и анализа татуировок лидеров преступных сообществ строится на установлении изображений и их соотнесении с ранее установленными значениями и общепризнанными классификациями, разработанными при исследовании татуировок уголовного мира. Такой анализ должен доказательно раскрыть в татуировках символы, свидетельствующие об авторитете и лидерстве подозреваемого лица в преступном сообществе (преступной организации). При этом при анализе татуировок необходимо дифференцировать традиционные «воровские» тату-символы от разного рода «художественных татуировок», получивших распространение в том числе в преступной среде за последние десятилетия.
Ввиду многообразия видов так называемых «тюремных татуировок» для получения относительно достоверной криминологически значимой информации о личности преступника одной из важнейших задач является разработка классификаций татуировок, позволяющих выявлять на их основе максимально возможный объем информации, имеющей конкретное значение для расследования, раскрытия и профилактики преступлений [6].
Все тюремные татуировки принято разделять на три основные группы:
-
1) означающие самоутверждение и/или подражание кому-либо (из числа значимых и популярных для преступных групп лиц). Данная группа раскрывает личностные ценности и преступные ориентации субъекта;
-
2) татуировки, связанные с какими-либо памятными местами или личностно значимыми событиями, имевшими место в жизни носителя. Данная группа может раскрывать автобиографические детали;
-
3) татуировки, связанные с уголовным прошлым или желанием носителя подчеркнуть свой «уголовный статус» в криминальных группах. Данная группа позволяет определить реальные организационные и финансовые возможности их носителя [12].
Как правило, наибольший интерес в контексте криминологического исследования личности преступников представляют татуировки с «воровской атрибутикой», относимые к третьей группе: «перстни», «пауки», «купола», «демоны», «кресты», а также различные тюремные аббревиатуры. Они могут многое «рассказать» не только об истинном статусе их владельца в уголовной среде, но и предоставить важную информацию для прогноза дальнейших действий подозреваемого или выстраивания стратегии взаимодействия с ним в рамках оперативных, следственных мероприятий.
В научной литературе особое внимание уделяется критериям и методам, определяющим основные отличия «уголовных» татуировок от разного рода художественных нательных изображений [4]. Основными такими критериями выступают достаточно строгие правила локализации изображений на теле представителя преступных сообществ и повторяемость основных видов рисунков и ракурсов изображений ввиду их особого, устойчивого в рамках уголовного мира символического содержания и смыслового значения.
Такого рода «нательные записи», как правило, наносятся в полном соответствии с воровскими канонами при отбывании их носителя в местах лишения свободы. Даже если они выполнены кустарным способом и имеют не вполне ясные очертания, они тем не менее становятся источником значимой для ведения расследования информации.
Однако следует признать, что сама идея разработки некой универсальной классификации утопична в силу множественности правил, условий, техники нанесения татуировок, а также разнообразия рисунков и отличительных знаков преступного мира.
Особое место и значение в современной криминологии имеет систематическая классификация татуировок, распространенных среди несовершеннолетних и молодых преступников. В этой связи представляется целесообразным разработать особую классификационную группу татуировок, объединяющих представителей тех или иных молодежных преступных группировок, в том числе экстремистских, которые получили широкое распространение в последнее десятилетие среди несовершеннолетних лиц. Подобные группировки, как правило, имеют отличительную символику, прямо или косвенно отражающую цели, ценности и убеждения их членов. Наличие татуировок в среде подростков с аддиктивным поведением может осознанно (или нет) использоваться ими как дополнительный канал коммуникации для сообщения вовне своих мировоззренческих взглядов и повышения своей значимости в привычной для них среде общения [3].
Тематическая направленность татуировок, зафиксированных на телах несовершеннолетних правонарушителей и молодых преступников, более разнообразна, что неизбежно затрудняет процесс их исследования и классификации. В силу возрастных особенностей все надписи, рисунки, изречения и аббревиатуры, которые наносят на тело представители молодежных преступных группировок, как правило, имеют более откровенную и более ярко выраженную символику, что позволяет применять к ним более расширенные трактовки и расшифровывать те криптограммы, которые предпочитают накалывать себе более возрастные и опытные преступники.
Следует отметить, что татуировки несовершеннолетних правонарушителей зачастую наносятся ими более хаотично, под воздействием тех или иных сиюминутных эмоций и импульсов, под влиянием массовой моды и т.д. Таким образом, диагностика татуировок указанных лиц, включая трактовку отдельных символов, требует учета всех возможных особенностей подросткового сознания и молодежных установок.
При анализе молодежных криминальных татуировок следует учитывать ряд наиболее характерных для этих возрастных групп особенностей:
– наличие броской, «кричащей» символики, зачастую в ущерб смысловому значению татуировки; имеет место смешение и нагромождение всевозможных форм и образов;
– нанесение на тело всевозможных надписей, в том числе сентиментальных и юмористических, и аббревиатур (БЖСР!, МАГ, ЮДА, СЛОН и др.);
– нанесение татуировок в виде лаконичных дат-цифр или отдельных букв, в том числе «разорванные» татуировки (например, БР+АТ), по которым специалисты с определенной долей вероятности могут вычислять так называемых сообщников, соучастников преступлений;
- использование татуировок для отстаивания лидирующих позиций среди сверстников. В этой связи в специальных исследованиях верно указывается, что «попытки создания репутации «крутого» парня не заканчиваются в исправительном учреждении, поскольку продолжающийся процесс гендерной самоидентификации (идентичности) заставляет несовершеннолетнего либо совершеннолетнего, но молодого осужденного, использовать подобные психологические приемы для приобретения более высокого уровня неформальных привилегий – как в исправительном учреждении, так и за его пределами» [14, с. 89].
При верном подходе к анализу и классификации такой символики татуировка помо- гает не только найти и идентифицировать всех субъектов преступного деяния, но и определить их типичные защитные реакции и поведенческие установки, а также спрогнозировать их возможные действия в случае вероятного межличностного конфликта, ареста и т.п.
Таким образом, татуировки, в отличие от других особых примет правонарушителей, выступают источником уникальной и криминологически значимой информации о личности преступника, что дает возможность специалистам правоохранительных органов не только идентифицировать неизвестного человека, получать сведения о физических и психологических особенностях носителя татуировки, но и относительно точно прогнозировать индивидуальные реакции и поведение указанных лиц в тех или иных ситуациях. В настоящее время существуют множество различных инструментов и методик, позволяющих успешно идентифицировать носителя конкретной татуировки, а также исследовать смысловое содержание перманентных рисунков и символов на теле для выявления, расследования и предотвращения преступных действий. Одним из таких инструментов является содержательно-символический анализ татуировок, основанный на сведениях, полученных при изучении криминальной субкультуры.
Анализ татуировок имеет важное значение для криминологического исследования личности преступника и задает направление дальнейшей розыскной и следственно-экспертной деятельности, а также в некоторой степени позволяет определить и правильно оценить общие ориентации и установки субъектов преступной деятельности и в зависимости от этого спланировать дальнейшие действия по расследованию и раскрытию уголовных дел.
Список литературы Криминальные татуировки как частный объект криминологического исследования личности преступника
- Анфиногенов, В.А. Субкультура осужденных и ее влияние на их поведение в условиях изоляции: дис. … канд. юрид. наук / В.А. Анфиногенов. – Ставрополь, 2016.
- Бронников, А.Г. Татуировки осужденных, их классификация и криминалистическое значение (альбом) / А.Г. Бронников. – М., 1980.
- Бухна, А.Г. Татуировка у подростков с аддиктивным поведением как дополнительное средство коммуникации / А.Г. Бухна, А.Г. Бухна // Девиантология. – 2022. – Т. 6. – N 2 (11).
- Давыдов, Е.В. Возможности отождествления человека по особым приметам – татуировкам / Е.В. Давыдов, В.Ф. Финогенов // Современные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: материалы VI Всероссийской научно-практ. конф. – Саратов, 2018.
- Дубягина, О.П. Культ Тату. Криминальная и художественная татуировка / О.П. Дубягина, Ю.П. Дубягин, Г.Ф. Смирнов. – М., 2003.
- Зубов, В.В. Уголовная ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии: критический взгляд / В.В. Зубов // Пробелы в российском законодательстве. – 2021. – Т. 14. – N 2.
- Кондратюк, С.В. Занятие высшего положения в преступной иерархии: конкретизация конструктивных признаков / С.В. Кондратюк // Законность. – 2021. – N 8.
- Ломброзо Ч. Человек преступный: пер. с итал. / Ч. Ломброзо. – М., 2018.
- Малюченко, Л.Г. Значение татуировок на теле человека при производстве габитоскопической (портретной) и лингвистической экспертиз / Л.Г. Малюченко // Академическая публицистика. – 2022. – N 5-1.
- Пилявец, В.В. Криминалистическое значение татуировок: научно-практическое пособие / В.В. Пилявец, В.В. Шарун. – Калининград, 2006.
- Пирожков, В.Ф. Законы преступного мира молодёжи / В.Ф. Пирожков. – Тверь, 1994.
- Руденко, И.Н. Татуировки в преступном мире и современной моде / И.Н. Руденко // Вестник магистратуры. – 2018. – N 1-2 (76).
- Сергиенко, А.С. О системе смысловой регуляции субъекта в контексте коррекционного воздействия на делинквентную личность /А.С. Сергиенко, П.В. Тепляшин // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. – 2016. – N 4.
- Тепляшин, П.В. Маскулинная идентичность несовершеннолетних, отбывающих лишение свободы: постановка вопроса, содержательная характеристика и перспективы уголовно-исполнительного регулирования / П.В. Тепляшин // Вестник Томского института повышения квалификации работников ФСИН России. – 2022. – N 1(11).