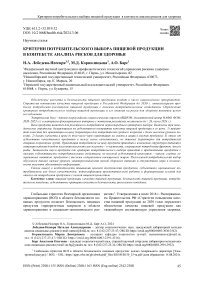Критерии потребительского выбора пищевой продукции в контексте анализа рисков для здоровья
Автор: Лебедева-Несевря Наталья Александровна, Корнилицына Мария Дмитриевна, Барг Анастасия Олеговна
Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk
Рубрика: Оценка риска в гигиене
Статья в выпуске: 3 (47), 2024 года.
Бесплатный доступ
Обеспечение качества и безопасности пищевой продукции входит в число национальных приоритетов. Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 г. актуализирует проблему потребления россиянами пищевой продукции с низкими потребительскими свойствами. Определение критериев потребительского выбора пищевой продукции и его влияния на риски для здоровья является целью исследования. Эмпирическая база - данные всероссийских социологических опросов (ВЦИОМ, Аналитический центр НАФИ, ФОМ, 2020-2023 гг.) и материалы фокусированных интервью с жителями российских мегаполисов (n = 26, весна 2024 г.). Цена продукта является для российского потребителя первоочередным критерием выбора. Выделены три поведенческие стратегии, базирующиеся на субъективном восприятии качества пищевой продукции и ее цены: 1) приоритет качества без ориентации на цену (характерно для потребителей среднего возраста с более высоким уровнем дохода); 2) баланс качества и цены (в том числе через ориентацию на скидки и акции в местах продажи); 3) отказ от субъективно качественных продуктов в пользу менее качественных, но дешевых (характерно для потребителей старших возрастных групп). Ориентация потребителя на цену продукта приводит к изменению структуры питания в ситуации падения доходов населения или роста цен на рынке - в частности, сокращению потребления фруктов, мяса и рыбы. Значимость вкуса продукта как критерия потребительского выбора приводит к предпочтению продуктов с низкими «объективными» потребительскими свойствами, но высокой субъективной ценностью - чипсов, сладких газированных напитков, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров. Рискогенный потребительский выбор обусловлен также низким уровнем заинтересованности темой здорового питания и отсутствием веры в возможность получить объективную информацию. Сделан вывод о необходимости повышения ценовой доступности продуктов, субъективно оцениваемых потребителями как более качественные; интенсификации просветительской работы и формирования условий для отказа от потребления продуктов с низкой пищевой ценностью.
Пищевая продукция, качество пищевой продукции, безопасность пищевой продукции, потребительское поведение, субъективные критерии качества и безопасности, рискогенное поведение
Короткий адрес: https://sciup.org/142242533
IDR: 142242533 | УДК: 613.2+32.019.52 | DOI: 10.21668/health.risk/2024.3.06
Текст научной статьи Критерии потребительского выбора пищевой продукции в контексте анализа рисков для здоровья
Глобальная стратегия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области безопасности пищевых продуктов полагает безопасность пищевых продуктов «приоритетным вопросом в области здравоохранения и социально-экономического раз- вития»1. Утвержденная в июле 2016 г. Распоряжением Правительства РФ «Стратегия повышения качества пищевой продукции до 2030 года» определяет обеспечение качества пищевой продукции как «важнейшую составляющую укрепления здоровья, увеличения продолжительности и повышения качества жизни населения»2. Причины усиленного внимания к проблеме качества и безопасности пищевой продукции связаны с наличием в обороте продукции с нарушенными потребительскими свойствами (фальсифицированной пищевой продукции, продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям) и пищевой продукции с низкими потребительскими свойствами (имеющей низкую пищевую и биологическую ценность, содержащую трансжиры и пр.). Контроль за оборотом некачественной и фальсифицированной продукции является в нашей стране функцией Роспотребнадзора, Россельхознадзора и ряда других органов государственной власти. Потребитель обычно не в состоянии распознать фальсификат и, как правило, не делает сознательного выбора в его пользу3. Но покупка пищевых продуктов с объективными низкими потребительскими свойствами, являющихся, однако, согласно формальному подходу, безопасными, есть результат потребительского выбора, в основе которого лежит «потребительское» [1] или «субъективно воспринимаемое» качество [2], «субъективная потребительская полезность» [3].
Субъективно воспринимаемое качество пищевых продуктов определяется двумя группами факторов – 1) внутренними (описывающими то, как потребитель воспринимает внутренние свойства продукта (вид, запах, состав, калорийность и пр.)) и 2) внешними (описывающими то, как потребитель воспринимает изменяемые свойства продукта – цену, марку, производителя и пр.). В рамках модели «Поиск / Опыт / Доверие» (Search / Experience / Credence) в структуре воспринимаемого качества выделяют «поисковое качество» (можно определить до покупки – например, внешний вид или заявленный производителем состав продукта), «потребительское качество» (можно определить только после потребления – например, вкус продукта) и «качество на доверии» (его потребитель самостоятельно определить не может и доверяет другим – например, как в случае с полезностью органических продуктов, декларируемой в средствах массовой информации) [4]. Детализация потребительских критериев качества пищевой продукции позволяет выделить свыше 50 частных критериев (в том числе цена, запах, вкус, содержание витаминов и минералов, лег- кость приготовления, страна происхождения, степень соответствия потребностям людей с диабетом / детей / беременных женщин и пр.), имеющих неодинаковую значимость для различных групп потребителей [5]. Например, исследование, проведенное Аналитическим центром НАФИ в октябре 2022 г., показало, что а) полезность продуктов больше важна для людей в возрасте 55 лет и старше; б) вкус продукта более значим для мужчин, людей среднего возраста и без высшего образования; в) на цену продукта скорее ориентируются россияне предпенсионного и пенсионного возраста, потребители с низким уровнем материального благополучия4.
Предпочтения потребителя динамичны, они изменяются под влиянием социально-экономической ситуации, социокультурных контекстов, рекламы, моды и пр. Закрепление в обществе новых социальных норм и ценностей также трансформирует запрос потребителя по отношению к пищевой продукции [6]. Так, распространившийся в мире в последнее десятилетие тренд на экологически дружественное потребление [7] привел к включению «экологичности» в число приоритетных потребительских критериев: по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2021 г. 55 % опрошенных россиян учитывали при выборе товаров их «экологичность», а 64 % респондентов предпочли бы приобрести товар более дорогой, но «безопасный для экологии»5.
Потребительский выбор является ограниченно рациональным [8], зачастую – импульсивным, недальновидным, ориентированным на сиюминутные выгоды, а не на долгосрочные эффекты [9]. При покупке продуктов питания покупатель, как правило, действует «привычно» или основывается на собственном интуитивном суждении [10]. Декларируемые ценности могут не определять реального потребительского поведения (например, признание здоровья ключевой жизненной ценностью может сочетаться с «нездоровым» режимом и рационом питания, выбором продуктов с низкой пищевой ценностью).
Цель исследования – выявить субъективные потребительские критерии качества и безопасности пищевой продукции, находящейся в обороте на российском рынке, и определить их связь с поведением, рискогенным для здоровья человека.
Материалы и методы. Исследование основано на вторичном анализе данных всероссийских репрезентативных социологических опросов населения («Отечественные и импортные продукты питания», Фонд «Общественное мнение», август 2020 г., n = 1000; «Здоровье и питание россиян», ВЦИОМ, май 2021 г., n = 1600; «Тренды потребления россиянами продуктов питания», Аналитический центр НАФИ, октябрь 2022 г., n = 1600; «Продукты питания: отечественные или импортные?», ВЦИОМ, апрель 2023 г., n = 1600), а также анализе фокусированных интервью с жителями российских мегаполисов (критериальная выборка, n = 26), проведенных специалистами ФНЦ МПТ УРЗН в марте – апреле 2024 г.
Результаты и их обсуждение. Потребительские критерии качества и безопасности пищевой продукции не тождественны критериям потребительского выбора, но имеют зоны пересечения. Согласно результатам формализованных опросов, цена продукта является для российского потребителя первоочередным критерием выбора. По данным Аналитического центра НАФИ, в 2022 г. 82 % россиян ориентировались при покупке продуктов, прежде всего, на цену (в группе потребителей в возрасте 35–44 лет таковых 87 %, 55 лет и старше – 86 %). Значимость цены также подтверждается согласием 88 % респондентов с утверждением «При покупке продуктов я обращаю внимание на скидки, акции, спецпредложения»6. Данные ВЦИОМ демонстрируют, что в 2020 г. цена входила в число трех ключевых критериев при выборе продуктов питания у 52 % респондентов, в 2021 г. – у 59 % (причем, в возрастной группе 18–24 года и социально-статусной группе «материальное положение плохое / очень плохое» в 2021 г. доли потребителей, ориентирующихся на цену продукта, были выше среднего значения по выборке и составляли 67 и 68 % соответственно)7. Повышение значимости цены товара при понижении уровня дохода потребителя доказано также на зарубежных выборках [11, 12].
Анализ интервью показал, что при использовании категории «цена» потребители вне зависимости от возраста и пола высказывают суждение о более дорогих продуктах питания как наиболее качественных: «Цена равно качество» (жен., 19 лет, г. Новосибирск), «Гречка дорогая – более качественная. Она более чистая. А дешевая, ее начинаешь мыть, одна шелуха летит» (жен., 77 лет, г. Нижний Новгород), «Что дороже – то лучше. В этом уже я убедилась» (жен., 83 года, г. Пермь), «.. зависит от цены, конечно. Если товар дороже, он будет каче- ственнее. Дешевое будет не такое качественное» (муж., 22 года, г. Пермь)8. Однако именно цена является для многих фактором, ограничивающим доступность качественных продуктов питания: «Качество, зачастую, это именно дороговизна […] Поэтому приходится покупать дешевое, а это не совсем качественно» (жен., 21 год, г. Новосибирск).
В целом, говоря о цене продуктов питания в сопряжении с качеством, потребители, давшие интервью, разделяются на три группы: 1) выбирающие более качественные, по их мнению, продукты, без ориентации на цену ( «Конечно же, не покупаем очень дорогие продукты, но на качестве стараемся не экономить» (жен., 46 лет, г. Пермь )); 2) ищущие баланс между качеством и ценой ( «Рыбу и мясо я покупаю по скидкам […] визуально смотрю, чтобы вид устраивал меня. Мясо – это дорогой продукт, рыба тоже, соответственно, все это берется в… больших сетевых магазинах. …и, как правило, на скидку» (жен., 51 год, г. Новосибирск )); 3) отказывающиеся от более качественных, по их мнению, продуктов, в пользу менее качественных, но дешевых («Если пенсия позволяет, мы покупаем хорошие продукты, а нет, то… ищем подешевле» (жен., 78 лет, г. Нижний Новгород), «Если какой-то продукт продается уцененный, да, покупают наши пенсионеры, да, покупают малоимущие, в том числе и я покупаю эти продукты, зная, что он не полезный. Но я и такие же, как и я, которые получают очень небольшие зарплаты, не могут покупать… такое питание, которое бы было нормальным» (жен., 49 лет, г. Пермь)) . Таким образом, ограниченная покупательная способность россиян является первым фактором, влияющим на выбор пищевых продуктов более низкого субъективного качества.
Ориентация потребителя на цену продукта приводит к изменению структуры питания в ситуации падения доходов населения или роста цен на рынке. Исследование ФОМ показало, что рост цен на продукты питания заставляет 27 % россиян уменьшить количество приобретаемых продуктов, 22 % – отказаться от покупки некоторых продуктов. Четверть потребителей экономят на мясе, птице, по 18 % – на сыре и колбасах, рыбе и морепродуктах, 14 % – на фруктах9. Зарубежные исследования показывают, что «здоровые» продукты питания (healthy food) в среднем стоят дороже, чем «нездоровые» (unhealthy food) [13], а в ситуации социальноэкономического кризиса цены на них растут быстрее [14].
Качество продуктов питания в сознании потребителей тесно сопряжено со свежестью продукта: «Качественный – это свежий. Вот для меня качество – это свежесть.» (жен., 64 г., г. Нижний Новгород). Свежесть интерпретируется через дату производства / срок годности и внешний вид. При этом для некоторых участников интервью, без уточняющих вопросов интервьюера, данные характеристики качества казались вполне исчерпывающими: «На свежесть продукции смотришь в первую очередь, даты изготовления. А больше… на что там смотреть?» (муж., 63 года, г. Нижний Новгород), «[Свежесть определяю] по внешнему виду…. только внешний вид» (жен., 71 год, г. Пермь), что может свидетельствовать о непритязательности или невысокой осведомленности о способах оценки качества пищевой продукции. Если обратить внимание на контексты интервью, то можно заметить, что материальное положение этой группы опрошенных не позволяет им выбирать товары высокой ценовой категории.
Оценка качества пищевой продукции, связанная с определением свежести, реализуется потребителями несколькими способами: 1) определение указанного срока годности, если есть такая возможность, на упаковке (по данным Аналитического центра НАФИ, среди всех потребителей, обращающих в той или иной степени внимание на упаковку товара (а это 89 % выборки), 92 % смотрят на дату производства и срок годности товара10); 2) восприятие продукта органами чувств через оценку цвета, запаха, консистенции; 3) обращение к лицам, продающим продукт: «[При определении свежести опираюсь] только на слова продавцов, которые нам говорят, что все свежее» (муж., 67 лет, г. Нижний Новгород). Интересно, что в количественном опросе ВЦИОМ (2021 г.) критерии «качество продукта» и «свежесть продукта» предлагались респондентам отдельно. В результате 53 % опрошенных сказали, что в первую очередь обращают внимание на качество продуктов, и 37 % – на свежесть11.
Стоит отметить, что качество, в том числе свежесть, в группах продуктов питания оценивается различно. Например, специфические критерии оценки имеют: а) рыба и мясо – определенный внешний вид ( «Ну, желтый налет на рыбе, жир всплыл,…условно говоря. Свежую рыбу сразу видно от не свежей» (муж., 67 лет, г. Нижний Новгород), «Смотрю, если хороший цвет у рыбы, блестит чешуя, значит, она более-менее пригодна» (жен.,
71 год, г. Пермь )), консистенция ( «… если это не замороженная продукция – по консистенции» (жен., 50 лет, г. Пермь )); б) овощи и фрукты – зрелость ( «Наверное, насколько они зрелые, созревшие, насколько нет каких-то там проявлений гнилости какой-то… испорченности» (жен., 46 лет, г. Пермь )), размер ( «Ну.. внешний вид там в основном. Окраска, форма. Для некоторых сейчас размер, потому что иногда бывают продукты какого-то нереального размера, начинаешь сомневаться в их качестве» (жен., 50 лет, г. Пермь )), тактильное восприятие ( «Мягкое яблоко или, там, твердое», (жен., 21 год, г. Новосибирск )). При этом овощи и фрукты потребителям сложнее всего оценить в магазине на «качественность», в том числе потому, что отсутствует этикетка с описанием продукта: «Там нет состава, поэтому я не могу нигде почитать, из чего он там состоит у меня, я смотрю и визуально понимаю, хочу ли я взять этот фрукт или овощ, или там, нравится он мне, не нравится» (жен., 51 год, г. Новосибирск).
Отношение к продуктам с истекающим сроком годности неодинаково в группах с различным уровнем материального благополучия. Согласно опросу Аналитического центра НАФИ, при ответе на вопрос «Если в магазине Вы видите продукты по сниженной цене, но у которых через несколько дней истечет срок годности, Вы станете их покупать или не станете?» 25 % опрошенных сказали, что рассмотрят покупку таких продуктов в первую очередь. Доля тех, кто не станет покупать такие продукты, в группе хорошо обеспеченных респондентов на 8 % выше, чем в среднем по выборке (36 против 28 % соответственно). Более того, если для малообеспеченных потребителей продукт с истекающим сроком годности – это повод обратить внимание (в силу более привлекательной цены), то для россиян с высоким уровнем достатка – это повод избавиться от продукта, даже если он еще пригоден к употреблению. Таким образом, выбор товара более низкого качества, операцио-нализируемого через свежесть, в том числе связан с его большей ценовой доступностью.
Качество продуктов питания в сознании потребителей имеет тесную связку с местом происхождения – как страной, регионом производства продукта, так и конкретным производителем. Например, согласно опросу ФОМ, в 2016 г. 14 % россиян полагали, что качество российских продуктов питания ниже, чем импортных12. Опрос НАФИ в 2022 г. показал, что доля респондентов, оценивающих качество им- портных продуктов выше, чем отечественных, почти не изменилась и составила 15 %. Чем моложе респондент, тем чаще он говорит о низком качестве российских продуктов питания, по сравнению с импортными, – 24 % в группе 18–24 года, 27 % – в группе 25–34 года и лишь 8 % в группе 60 лет и старше. Предпочтение отечественных продуктов как более качественных, характерное для старших возрастных групп, прослеживается и в интервью: «Желательно надо брать наши, свои фрукты, российские» (муж., 67 лет, г. Нижний Новгород), «Мы зарубежные товары никуда не берем. У нас всегда производитель свой» (жен., 77 лет, г. Нижний Новгород).
Потребители полагают более качественными: а) продукты, выращенные в домашних условиях, на собственных огородах (« Свое, что вырастили на огороде, конечно, я хочу сказать, то качественно» (жен., 64 года, г. Нижний Новгород )); б) фермерские продукты, не проходящие промышленной обработки ( «Молоко мы покупаем у частных лиц, свежее коровье» (муж., 63 года, г. Нижний Новгород )); в) продукты, произведенные в регионе проживания информанта ( «Мы понимаем, какие производители недалеко от нас, в Пермском крае. Вот я надеюсь, что все производственные процессы, которые на молококомбинатах, соблюдены» (жен., 46 лет, г. Пермь )). Ключевой аргумент здесь – «натуральность», интерпретируемая широко как отсутствие в продукте компонентов искусственного происхождения, неиспользование антибиотиков и гормонов в процессе его производства, естественность среды: «… “ешки” какие-то, добавки, наверное, с этим я буду осторожна, с пальмовым маслом. Я не буду брать продукты» (жен., 51 год, г. Новосибирск), «Мясо, оно должно быть выращено без всяких антибиотиков, без всяких… Ну, то есть, как бы, все должно быть натурально» (жен., 49 лет, г. Пермь). Однако причины выбора локальной продукции не всегда связаны с их большей «натуральностью» и иногда являются иррациональными: «Интервьюер: А почему именно они вам кажутся наиболее качественными? Информант: Не знаю. Наверное, своя… ближе к телу» (жен., 63 года, г. Нижний Новгород ). Ориентацию на местных производителей, потребление фермерских продуктов можно назвать трендом, активно формирующимся во всем мире с середины 2010-х гг. [15] и «окрепшем» в пандемию [16].
«Натуральность» продукта может трактоваться не только как показатель его качества, но и как показатель безопасности. Для некоторых потребителей безопасный продукт – это тот, что не содержит генно-модифицированных организмов и культур, ис- кусственных химических добавок: «Безопасные продукты питания – это чтобы они не содержали всяких химических красителей, в первую очередь, ГМО и так далее и тому подобное» (жен., 49 лет, г. Пермь), «Для меня безопасные продукты питания – это те продукты, которые содержат меньшее количество химии или меньшее количество сахара, ну и также которые содержат в себе меньшее количество ГМО» (жен., 19 лет, г. Новосибирск). В целом для отечественных потребителей характерен крайне высокий уровень настороженности по отношению к генно-модифицированным продуктам. По данным ВЦИОМ, в 2020 г. 66 % россиян были согласны с утверждением «Генно-модифицированные продукты питания (содержащие ГМО) крайне опасны для организма человека. Однако от населения скрывают эту информацию», 17 % затруднились однозначно отнестись к этому суждению, и только 20 % респондентов заявили, что, по их мнению, генно-модифицированные продукты питания безвредны для людей13. В 2022 г. 44 % россиян были согласны с тем, что «Продукты с ГМО вызывают рак»14. Чем меньше населенный пункт, в котором проживает респондент, тем скорее он согласится с данным утверждением (р < 0,001, Фи = 0,194).
Базовым критерием потребительского выбора, тесно связанным с качеством пищевой продукции, является ее безопасность, трактуемая: а) широко – как пригодность к употреблению ( «Небезопасные [продукты] – это значит, которые не пригодны для еды» (жен., 71 год, г. Пермь)) и б) более узко – как не несущая относительно быстрых негативных последствий для здоровья (отравления, аллергической реакции) ( «[Безопасный продукт] – это который не может вызвать, например, боли в животе, если я его съела» (жен., 83 года, г. Пермь); «[Небезопасные продукты] можешь съесть, у тебя в лучшем случае заболит живот, а в худшем произойдет отравление …бактериями» (жен., 42 года, г. Новосибирск)) . Основной операциональный критерий безопасности – свежесть продукта, определяемая на основе срока годности или визуально. При этом а) безопасная продукция может быть «вредной» (« Допустим, бургер – это вредная еда. Ну, в принципе, я считаю ее безопасной, да? То есть она и свежая, и из овощей, из мяса сделана. И она, в принципе, по-моему, безопасная, но она вредная» (жен., 24 года, г. Пермь)) ; б) безопасная продукция может быть некачественной (« ну, к примеру, овощи, морковка давно лежит, она уже дряблая, но она безопасна, можешь ее использовать, отварить, приготовить что-нибудь» (жен., 71 год, г. Пермь)) .
Опрос ВЦИОМ, проведенный в 2019 г., показал, что только 17 % россиян при выборе и покупке сельскохозяйственных растительных продуктов ориентируются на их безопасность. С другой стороны, критерий «свежесть» оказался значим для 48 % респондентов (самый частый выбор среди всех вариантов ответа)15, что в целом подтверждает тезис о приоритетной ориентации потребителей на безопасность продукции даже при условии отсутствия этому вербального подтверждения.
Важным критерием потребительского выбора является вкус продукта [17]. Согласно данным опроса жителей Европейского Союза, представленных компанией Euromonitor International, в 2022 г. 51 % европейских потребителей ориентировались в своем выборе на вкус продукта16. Опрос, проведенный в октябре 2022 г. в Португалии, показал, что вкус продукта имеет принципиальное значение для 58 % респондентов17. Результаты количественных исследований значимости вкуса среди прочих критериев потребительского выбора россиян выглядят неоднозначными. Так, согласно опросу ВЦИОМ, в 2021 г. только 17 % респондентов включили вкусовые качества в число трех основных ориентиров при выборе продуктов питания. Всероссийский опрос, проведенный в 2021 г. научно-исследовательским центром социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС, напротив, показал, что для 51 % потребителей вкусовые качества входят в число приоритетных критериев [18]. Данные Аналитического центра НАФИ показывают, что в группе людей 35–44 года в 2022 г. 64 % респондентов ориентировались в своем выборе на вкус продукта.
Значимость вкуса продукта как критерия потребительского выбора приводит к предпочтению продуктов с низкими «объективными» потребительскими свойствами, но высокой субъективной ценностью – чипсов, сладких газированных напитков, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и пр.: «Кока-кола, энергетики, да, это не без греха. Вкус нравится сильно» (муж., 23 года, г. Новосибирск). Причем, в ходе опроса ВЦИОМ 43 % опрошенных сказали, что «скорее согласны» с утверждением «вкусная еда не бывает полезной». Важно, что потребители осознают ограниченную пищевую ценность потребляемых продуктов, называя их «вредными» или «бесполезными» («Вредные – это где очень много соли, жира, типа чипсов, колы, всякие палочки, сухарики и вот фастфуды мно- гие – это вредная еда» (жен., 71 год, г. Пермь)), маркируют их потребление как несоответствующее нормам здорового питания (например, через использование слов «грех», «грешим»: Хочется колбаски и селедочки хочется. И грешим бывает, и конфеточки едим» (жен., 78 лет, г. Нижний Новгород)), но привлекательный вкус продукта оказывается базовой доминантой при принятии решения о покупке («Я очень люблю всякие вот эти вредные штучечки вкусненькие с добавлением всяких “ешек”… Мне очень сложно себя сдерживать» (жен., 27 лет, г. Новосибирск)).
Вкус является важным критерием при выборе пищи быстрого приготовления (фастфуда) в качестве одного из основных способов питания. Так, по данным ВЦИОМ, в 2022 г. 25 % российской молодежи в возрасте от 18 до 24 лет как минимум раз в неделю посещали заведения быстрого питания. Больше половины (65 %) делали это, желая сэкономить время, а 23 % – потому что «это вкусно»18. В возрастной группе 35–44 года второй по популярности причиной посещения заведений фастфуда стал вариант «дети просят / детям нравится», что демонстрирует привлекательность вкуса еды быстрого приготовления не столько для взрослых, сколько для детей.
Ориентация потребителя на вкус продукции (без учета ее пищевой ценности, содержания витаминов и минералов) приводит к распространению потребительского поведения, несущего риски для здоровья. Систематическое потребление сладких газированных напитков, фастфуда (в частности – курицы и картофеля, жаренных во фритюре, гамбургеров и пр.) достоверно увеличивает риск ожирения [19], в том числе у детей и подростков [20]. Потребление избыточного количества добавленного сахара связано с развитием кариеса и у взрослых [21], и у детей [22].
Суждения потребителей о вкусе продуктов во многом основаны на собственном предыдущем опыте («Я беру в основном марку макарон, которые мне нравятся, просто которые я уже ела, я знаю, что они вкусные» (жен., 24 года, г. Пермь)). В целом опыт является важным элементом механизма стабилизации («опривычивания, хабитулизации») потребительского выбора. Так, большинство россиян (90 %) стараются покупать продукты марок и производителей, которых «знают». Среди людей среднего возраста, женщин и потребителей с доходом выше среднего доля сторонников «консервативных» решений выше, чем в среднем по выборке19. В высказываниях информантов хабитуализированность [23] их собственного потребительского поведения проявляется через использование слов «привычка», «жизненный опыт» («Ну, как-то уже давно берешь его, как бы привыкли к этому маслу. Так что берем его» (жен., 64 года, г. Нижний Новгород)). Привычное потребление, с одной стороны, упрощает выбор, с другой стороны, воспринимается как способ снижения рисков: «Покупаешь фактически одно и то же,...понимаешь, что это уже не испорченный продукт, одно и то же ешь, вроде как на организм и на здоровье не влияет так сильно. Как говорится, ни отравления, ничего нет. Поэтому я одно и то же стараюсь покупать, как говорится, чтобы не подвергнуться риску отравления» (муж., 64 года, г. Нижний Новгород).
Помимо привлекательного вкуса и более низкой цены, рискогенный потребительский выбор определяют следующие причины:
– низкий уровень заинтересованности в теме, отсутствие мотивации вникать в информацию о характеристиках продукта («[До разбора состава продукта] Нет, никогда до этого не доходила, я в этом плохо разбираюсь, этим надо очень предметно заниматься < ... > Я знаю, что многие калории высчитывают, там еще что-то, но это не для меня.» (жен., 64 года, г. Нижний Новгород)) ;
– отсутствие веры в возможность получить объективную информацию о продукции, ощущение отсутствия выбора, ограниченности ассортимента продукции ( «Мы идем в магазин и покупаем то, что есть. И в большинстве случаев мы покупаем кота в мешке, а мы не знаем, что это, что мы едим» (жен., 49 лет, г. Пермь)) ;
– оценка риска для здоровья, связанного с потреблением пищевой продукции с возможным содержанием вредных веществ, как низкого («Вот что зимой продается огурцы и помидоры, у них, говорят, много ядов. Но никто же от этого не умер. Все же едят» (жен., 64 года, г. Нижний Новгород)) ;
– нехватка времени, особенности образа жизни («Зачастую бывает не хватает времени, допустим, что-то заготовить, это занимает у меня много времени. И какие-то задания, связанные с учебой, они заставляют на бегу съедать, а вот такая еда на бегу зачастую она именно не очень хорошая в плане, не знаю, насыщения питательными веществами» (жен., 21 год, г. Новосибирск)) .
Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, критерии качества и безопасности пищевой продукции в сознании потребителей во многом пересекаются. В ча- стности, «свежесть» продукта, не истекший (и не истекающий в ближайшее время) срок его годности свидетельствуют, что продукт является качественным и безопасным. «Натуральность» продукта, оцениваемая по наличию / отсутствию в его составе искусственных химических добавок, генно-модифицированных организмов и культур также маркирует для потребителя одновременно и качество, и безопасность. В связи с этим представляется неоправданным в рамках формализованных эмпирических исследований предлагать потребителям для оценки критерий «качество пищевой продукции» без его дополнительной операционализации.
Во-вторых, критерии качества пищевой продукции и критерии ее выбора совпадают не полностью. Цена является для россиян приоритетным ориентиром при выборе продуктов питания. Предпочтение более дешевого продукта для потребителя часто означает снижение запроса на качество. Значимым мотивом выбора продукции с низкой пищевой ценностью является привлекательный вкус, который не расценивается потребителями как критерий качества.
В-третьих, медиатором оценки продукта как качественного является доверие потребителя производителю и поставщику. Так, местные производители пищевой продукции воспринимаются как «свои», «близкие» и, соответственно, заслуживающие большего доверия, по сравнению с производителями из других регионов или стран.
В-четвертых, повседневные практики покупки продовольственных товаров хабитуализированы, определяются привычкой выбирать один и тот же продукт, которая основана на различных мотивах – незаинтересованности в теме «правильного питания», желании таким образом снизить риски для здоровья, особенностях образа жизни и пр. Высокая степень «опривыченности» потребительских практик выводит вопрос оценки качества и безопасности пищевой продукции из пространства повседневной рефлексии.
Задача снижения распространенности рискогенного потребительского поведения требует следующих решений:
-
1) повышения ценовой доступности «натуральных» продуктов, расширение ассортимента фермерских продуктов, доступных потребителям со средним и низким уровнем материального благополучия;
-
2) интенсификации просветительской работы, направленной на формирование общественного мнения о безопасности генно-модифицированной продукции, о том, что полезная и «здоровая» еда может быть вкусной;
-
3) формирование условий для отказа от потребления продуктов с низкой пищевой ценностью учащейся молодежью, в том числе за счет расшире-
- ния ассортимента в пунктах питания средних специальных и высших учебных заведений.
Ограничения исследования. Первичные эмпирические данные, положенные в основу исследования, носят качественный характер. Выборка соответствует требованию репрезентативности, предъявляемому к качественным исследованиям.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Список литературы Критерии потребительского выбора пищевой продукции в контексте анализа рисков для здоровья
- Fernqvist F., Spendrup S., Tellstrom R. Understanding food choice: A systematic review of reviews // Heliyon. -2024. - Vol. 10, № 12. - P. e32492. DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e32492
- Grunert K.G. Food quality and safety: consumer perception and demand // European Review of Agricultural Economics. - 2005. - Vol. 32, № 3. - P. 369-391. DOI: 10.1093/eurrag/jbi011
- Борцова Е.Л., Лаврова Л.Ю., Калугина И.Ю. Изучение зависимости между системой ценности потребителя и качеством пищевой продукции // Российское предпринимательство. - 2017. - Т. 18, № 19. - С. 2841-2848. DOI: 10.18334/rp.18.19.38356
- Girard T., Dion P. Validating the search, experience, and credence product classification framework // Journal of Business Research. - 2010. - Vol. 63, № 9-10. - P. 1079-1087. DOI: 10.1016/j.jbusres.2008.12.011
- Petrescu D.C., Vermeir I., Petrescu-Mag R.M. Consumer understanding of food quality, healthiness, and environmental impact: A cross-national perspective // Int. J. Environ. Res. Public Health. - 2019. - Vol. 17, № 1. - P. 169. DOI: 10.3390/ijerph17010169
- Measuring consumers attitudes towards health and taste and their association with food-related lifestyles and preferences / A. Saba, F. Sinesio, E. Moneta, C. Dinnella, M. Laureati, L. Torri, M. Peparaio, E. Saggia Civitelli [et al.] // Food Quality and Preference. - 2019. - Vol. 73. - P. 25-37. DOI: 10.1016/j.foodqual.2018.11.017
- Yan M., Hsieh S., Ricacho N. Innovative food packaging, food quality and safety, and consumer perspectives // Processes. - 2022. - Vol. 10, № 4. - P. 747. DOI: 10.3390/pr10040747
- Decoy effect in food appearance, traceability, and price: Case of consumer preference for pork hindquarters / L. Wu, P. Liu, X. Chen, W. Hu, X. Fan, Y. Chen // Journal of Behavioral and Experimental Economics. - 2020. - Vol. 87, № 3. -P. 101553. DOI: 10.1016/j.socec.2020.101553
- Институциональный анализ ограниченной рациональности современных россиян / И.В. Розмаинский, А.А. Ив-лиева, П.С. Ким, А.Э. Подгайская // Журнал институциональных исследований. - 2017. - Т. 9, № 4. - С. 101-117. DOI: 10.17835/2076-6297.2017.9.4.101-117
- Thagersen J., J0rgensen A.-K., Sandager S. Consumer decision making regarding a "green" everyday product // Psychology & Marketing. - 2012. - Vol. 29, № 4. - P. 187-197. DOI: 10.1002/mar.20514
- Steenhuis I.H., Waterlander W.E., de Mul A. Consumer food choices: the role of price and pricing strategies // Public Health Nutr. - 2011. - Vol. 14, № 12. - P. 2220-2226. DOI: 10.1017/S1368980011001637
- Nistor L. Between price and quality: The criteria of food choice in Romania // Sociologicky casopis. - 2014. -Vol. 50, № 3. - P. 391-418. DOI: 10.13060/00380288.2014.50.3.103
- Neighborhood prices of healthier and unhealthier foods and associations with diet quality: Evidence from the MultiEthnic Study of Atherosclerosis / D.M. Kern, A.H. Auchincloss, M.F. Stehr, A.V.D. Roux, L.V. Moore, G.P. Kanter, L.F. Robinson // Int. J. Environ. Res. Public Health. - 2017. - Vol. 14, № 11. - P. 1394. DOI: 10.3390/ijerph14111394
- Healthy food prices increased more than the prices of unhealthy options during the COVID-19 pandemic and concurrent challenges to the food system / M. Lewis, L.-M. Herron, M.D. Chatfield, R.C. Tan, A. Dale, S. Nash, A.J. Lee // Int. J. Environ. Res. Public Health. - 2023. - Vol. 20, № 4. - P. 3146. DOI: 10.3390/ijerph20043146
- Kim S.-H., Huang R. Understanding local food consumption from an ideological perspective: Locavorism, authenticity, pride, and willingness to visit // Journal of Retailing and Consumer Services. - 2021. - Vol. 58, Iss. C. -P. S0969698920313382. DOI: 10.1016/j.jretconser.2020.102330
- Timpanaro G., Cascone G. Food consumption and the Covid-19 pandemic: The role of sustainability in purchasing choices // J. Agric. Food Res. - Vol. 10. - P. 100385. DOI: 10.1016/j.jafr.2022.100385
- Liem D.G., Russell C.G. The influence of taste liking on the consumption of nutrient-rich and nutrient-poor foods // Front. Nutr. - 2019. - Vol. 6. - P. 174. DOI: 10.3389/fnut.2019.00174
- Покида А.Н., Зыбуновская Н.В. Культура питания российского населения (по результатам социологического исследования) // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2022. - № 2. - С. 13-22. DOI: 10.35627/22195238/2022-30-2-13-22
- Contribution of obesity in the association between fast-food consumption and depression: A mediation analysis / A. Shafiee, S. Aghajanian, E. Heidari, M. Abbasi, K. Jafarabady, S. Baradaran, M. Bakhtiyari // J. Affect. Disord. - 2024. -Vol. 362. - P. 623-629. DOI: 10.1016/j.jad.2024.07.036
- Jakobsen D.D., Brader L., Bruun J.M. Association between food, beverages and overweight/obesity in children and adolescents - A systematic review and meta-analysis of observational studies // Nutrients. - 2023. - Vol. 15, № 3. - P. 764. DOI: 10.3390/nu15030764.21
- Леонтьев В.К. Кариес зубов - болезнь цивилизации // Биосфера. - 2010. - Т. 2, № 3. - С. 392-396.
- Павловская Е.В. Влияние избыточного потребления сахара на здоровье детей // Вопросы практической педиатрии. - 2017. - Т. 12, № 6. - С. 65-69. DOI: 10.20953/1817-7646-2017-6-65-69
- Ильиных С.А. Потребительское поведение: статусность, рискованность, хабитуализация // Общество: социология, психология, педагогика. - 2017. - № 9. - С. 9-12. DOI: 10.24158/spp.2017.9.1