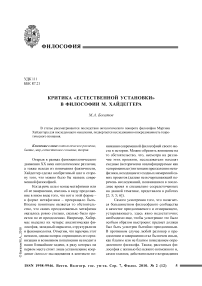Критика «естественной установки» в философии М. Хайдеггера
Автор: Богатов М.А.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются последствия онтологического поворота философии Мартина Хайдеггера для последующего мышления, подвергается исследованию опосредованность теоре- тического познания.
Онтологическое различие, бытие, мир, естественное сознание, теория
Короткий адрес: https://sciup.org/14974402
IDR: 14974402 | УДК: 111
Текст научной статьи Критика «естественной установки» в философии М. Хайдеггера
Открыв в рамках феноменологического движения ХХ века онтологическое различие, а также исходя из понимания фактичности, Хайдеггер сделал необратимый шаг в сторону того, что можно было бы назвать современной философией.
Когда речь шла о конце метафизики или об ее завершении, имелось в виду продолжение в ином виде того, что вот в этой форме – в форме метафизики – прекращало быть. Вполне понятным является то обстоятельство, что самих преодолеваемых метафизик оказалось ровно столько, сколько было проектов по ее преодолению. Например, Хабермас выделил их четыре: аналитическая философия, западный марксизм, структурализм и феноменология. Отметим, что перечень этот неполон, однако вопрос о принципах его организации и возможном пополнении не входит в наши ближайшие задачи, в ряду которых на первом месте стоит лишь установление координат данного исследования в контексте по- нимания современной философией своего места в истории. Можно обратить внимание на то обстоятельство, что, несмотря на различие этих проектов, исследователи находят сходные (исторически квалифицируемые как «современные») интенции преодоления метафизики, исходящие из сходных намерений самих проектов (далеко не исчерпывающий перечень исследований, появившихся в последнее время и специально сосредоточенных на данной тематике, представлен в работах [2; 3; 5; 6]).
Самого усмотрения того, что полагается большинством философского сообщества в качестве преодолеваемого и отмирающего, устаревающего, здесь явно недостаточно; необходимо еще, чтобы усмотрение это было особым образом выстроено: предмет должен был быть усмотрен бытийно преодоленным. В противном случае любой разговор о преодолении и завершении стал бы ничем иным, как благим или не благим пожеланием определенного философа. Также, расстанься философия с жизнью без всякого возможного и, самое главное, действительного возрождения в ином способе собственного бытия, никто бы не заметил, как она исчезла, это было бы воистину абсолютное английское прощание. Но этого не случилось, поскольку именно в форме преодоления метафизики наметилось особое место современной философии. Не является случайным здесь и то обстоятельство, что имя этого места так или иначе связано с учением бытия, с онтологией.
Понимающая свое место философия отныне преимущественно выступает в качестве онтологии . Чтобы понять этот тезис, нам недостаточно будет обратиться к истолкованию термина «онтология» как оно проводилось в XIX веке; нас даже не удовлетворят региональные онтологии, вводимые Гуссерлем в качестве теоретических эйдетических дисциплин для отдельных фактических наук (как это представлено в § 7–9 «Идей I» [4, с. 34– 38]. Всего этого будет недостаточно, поскольку тезис о преимущественно онтологическом характере философии не заимствует понятие онтологии из предшествующей традиции (иначе это было бы ничем иным, как сведением целого к части), но формирует собственное понимание онтологии. Поскольку это определение по большей части ситуативно – что связано со спецификой современного места философии – то дать подробную, сколь угодно детально развернутую дефиницию онтологии не представляется возможным. Попробуем проследить за этим пониманием, взяв за исходную позицию лишь одну из возможных путеводных нитей, предлагаемых средствами фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера.
Вводя различие между бытием и сущим (в дальнейшем: между бытием и бытующим 1), Хайдеггер предоставляет философии единственно причитающееся ей ныне место: область бытийных изысканий .
У любой науки имеется соответствующая ей фактическая предметная область или возможная предметная область (если таковые еще и отсутствуют у молодых наук, то в любом случае появятся – это дело времени, пытливости ученых умов и терпеливости финансирующих организаций). Само наличествова-ние этих предметных областей свидетельствует об эффективном действии того, что Хайдеггер именует «опредмечивающей установкой» (или
«объективирующей установкой» – вариант, встречающийся в других работах), которая тем эффективнее, чем менее обращается к основывающей ее саму возможности быть 2.
Отныне любая попытка философии утвердиться в той или иной предметной области обречена на провал вследствие вступления в недобросовестную конкуренцию с эффективными науками. Любое слово философии в рамках региональной предметности может быть веским отныне не потому, что говорит философия, но лишь потому, что она в своем высказывании вступила на чуждую ей территорию. Таким образом, пестуемая мыслителями начала Нового времени претензия философии на роль объединяющей остальные науки разумной хозяйки отныне осуществима лишь как реализованная случайным образом и по причине собственного невежества.
Если бы Хайдеггер довольствовался подобной отрицательной констатацией, мы бы не смогли усмотреть в ней ничего, кроме негативной критики вида «философия – это не то и не то, и всякая надежда на то, что философия – это что-то, необоснованна». Однако сама эта негативность есть не что иное, как обратная сторона предпринятой Хайдеггером продуктивной, очищающей и обустраивающей место философии критики, проистекающей из проведения онтологического различия. Философия не является наукой, поскольку наличие у науки предмета уже спровоцировано действием вполне определенной и весьма ограниченной объективирующей бытующее в предмет установки. Установка эта выступает конститутивной для той или иной предметной области отдельных наук; она эффективна в той мере, в какой некритично принимается ее основополагающая роль. Вот именно в этом смысле философия не может быть наукой. И еще большой вопрос, понимала ли себя сама философия когда-либо наукой в таком вот качестве; и, если это случалось, то была ли это философия? В любом случае, Хайдеггер отказывает нам в возможности положительного ответа впредь заявлением собственной позиции – в той мере, в какой она проводит линию продуктивной критики, обустраивая место современной философии.
Все, предстающее в опредмечивающей установке как возможные или действитель- ные предметы возможных или действительных наук, может быть названо принадлежащим определенным образом усмотренной онтической сфере, сфере бытующего. Онти-ческое измерение, трансформируемое объективирующей установкой предметных наук, – специфическое, далеко не случайное измерение, но лишь одно из возможных, имеющих место в мире бытований, ограниченных определенным историческим периодом (начиная с Нового времени и совершенно-завершенное, точнее даже – исполненное 3 в эпоху техники).
Мир – это место различия бытующего и бытия. Специфическое отношение к бытующему, которое выстраивается исходя из принципиального игнорирования бытия и, соответственно, различия, претендует на тотальное господство, фиксируемое в положении: все, что есть – предметно . Но поскольку такое отношение выявлено, следует обратиться к нему сразу по двум различным поводам:
-
1. Почему оно является в качестве необходимого и заявляет права на тотальное господство, не будучи при этом единственным и даже в этой своей неединственности не обладая явными онтологическими преимуществами перед иными способами понимания?
-
2. Что имеет место помимо предметности? (Иначе: где располагается источник усмотрения предметной неисключительности и предвзятости объективирующей установки?)
В рамках данной статьи мы обратимся к разработке первого вопроса.
То, что мы назвали объективирующей установкой, может быть описано (без претензии на исчерпывающую полноту) следующим образом. В объективирующей установке полагается «естественным», что восприятие человека схватывает единичные предметы, например: я смотрю на стол, беру в руку ручку, придвигаю к себе лист бумаги и т. д. Передо мной в этом ряду действий предстают отдельные предметы: стол, ручка, лист бумаги. Более того, имеется еще такой предмет (пусть и имеющий особый статус, но отдельный ото всего остального), как сам я. Соответственным образом строится возможное знание обо мне и об этих предметах: что такое ручка? что такое лист бумаги? что такое стол? кто такой я (что такое «я»)?
Сама интенция подобных вопросов кажется «естественной» настолько, что мы даже не ставим методологический контрвопрос о правомочности подобного спрашивания.
Хайдеггер обращает наше внимание на то, что полагание мира как состоящего из отдельных предметов (и соответствующая постановка вопросов об устройстве мира как о множестве различных предметностей) есть действие своего рода искажение восприятия, которое, на дотеоретическом уровне, возможно лишь вследствие поломки того или иного бытующего, а на теоретическом – как принципиальная установка на обоснованность; в этой же связи «зеркальным» образом по отношению к предметности встает вопрос о субъективности. Но прежде чем обратиться к рассмотрению поломки и обосновывающей предметность установки, поддерживаемой и воспроизводимой науками в эпоху техники, необходимо коснуться в самом необходимом для нашего рассмотрения масштабе того, что такое дотеоретический уровень бытования.
Хайдеггер берет за основу феноменологии, как известно, уже не сознание, но бытие, и потому его проект принято называть феноменологической герменевтикой. Характерной чертой герменевтики Хайдеггера является его принципиальное исключение вопроса сознания как такового. То, что у Гуссерля выступало своеобразием сознания, у Хайдеггера изначально предстает своеобразием мира, в котором человек бытует. Дотеоретическое – это не один из уровней «работы» сознания, зачастую им самим не замечаемый, но это присущее самому миру бытование, которое лежит в основе любой теории о мире и человеке. Дотеоретическое измерение позволяет миру быть и человеку быть в мире, но особенность его состоит в том, что оно именно незаметно, то есть не схватывается никакой теорией. И эта несхватываемость – не некоторое упущение со стороны человека, а онтологическая особость мирности мира: дотеоретичес-ким способом мир бытует, и способ этот никогда не может стать предметом какой-либо науки или теории. То, что позволяет нам быть в мире, принципиально избегает попытки сделать его предметом той или иной науки, поскольку не может быть предметом рассмотрения, служа условием, обеспечивающим всякое возможное рассмотрение и делающим его возможным (или невозможным) 4. Если бы мы все же задумали науку, которая обратилась бы к дотеоретическому измерению бытования, то это была бы странная наука, лишенная предмета и, соответственно, никаким образом не могущая засвидетельствовать собственную эффективность. Такая наука была бы наукой в другом смысле, чем мы говорим слово «наука», мы скорее оказались бы в ситуации до-сократиков, когда «ученый» такой науки оказывается перед миром совершенно неподготовленным, так, будто он может все сразу и ничего конкретно. Знание здесь не отсоединено от действительности в любой из возможных форм собственной фиксации – быть здесь значит знать; возможность не быть отсутствует – в силу того простого обстоятельства, что применить стратегию не быть дотеоретически невозможно – мир всегда «поглотит» такую возможность. Такой наукой только и может быть отныне философия в ХХ веке, но об этом речь ниже.
Дотеоретический уровень бытования не предметен, в нем отсутствует тот способ данности, который присущ предметам, когда мы говорим о них, что они «даны». Дотеорети-ческий уровень обеспечивает смысловую наполненность предметности как таковой 5, данности как таковой, а также альтернативных им способов понимания бытующего (для самого Хайдеггера такой «утраченной» или, точнее говоря, подверженной неслучайному забвению альтернативой выступает греческая античность). Единственный способ что-либо узнать об этом уровне – это быть-в-нем . Речь здесь идет скорее о том, что Аристотель в самом начале «Метафизики» называет опытом, нежели искусством, – опытом, который не передается и которому нельзя обучиться, поскольку этот опыт тождественен тому, кто его получил. Способ обращения с бытующим на дотеоретическом уровне Хайдеггер называет «озабоченным обращением» (поглощенным обращением – см. ниже). Обращение это всегда находится в рамках той или иной целости мира, которая раскрывается для обращенного бытия в качестве структуры отсылок одного предмета к другому, а потому бытующее имеет характер подручности . Можно сказать, используя словарь иного философского направления, что на дотеоретическом уровне человек не отчужден от самого себя, однако понять это он не способен, а потому дотеоретический уровень – это такая форма неотчужденности, которая делает возможными как (теоретическое/идеологическое) отчуждение, так и его сознательное (революционное) преодоление.
Но здесь для Хайдеггера впоследствии заявит о себе трудность, которая не так резко обозначилась бы, останься дотеоретический уровень за сознанием и не имей он онтологического статуса как особости мироустройства. Мир наполняется искусственными (технически изготовленными) вещами, заставляется ими. И в этом смысле дотеоретический уровень в эпоху техники, во второй половине ХХ века, уже существенно отличается от начала ХХ века. Таким образом, онтологиза-ция дотеоретического уровня в рамках проблематики мира с неизбежностью вводит в исследование его историю. Дело в том, что техника формирует дотеоретический уровень особым образом. Такой дотеоретический уровень бытования в эпоху техники уже не может быть рассмотрен посредством феноменологического опыта, минующего обращение к «теории» и науке, поскольку является уже их опосредованным продуктом; и здесь человек изначально бытует в мире отчужденным образом. В эпоху техники отчуждение становится условием восприятия мира, лишенного поглощающей человека целостности.
На дотеоретическом уровне, где умение быть осуществляется раньше собственного понимания, все же может случаться опредмечивание подручного, его выведение из скрытого характера подручного бытования в простое наличие. Это происходит с обращением, которое, если можно так сказать, находясь в пределах значимой целостности отсылок, упирается в то, с чем никак обратиться уже не получается , или: с тем, к чему никак не обратиться . Этот «сбой» в озабоченном (поглощенном) обращении Хайдеггер называет поломкой.
Бытующее становится для меня важным в своей отдельности в качестве предмета, когда оно действительно выключается из целостности, в которую прежде было включено, и, находясь в пределах которой, я к нему обратился; лишь когда оно утрачивает связь с целостностью, я могу увидеть его отдельным. Целостность эта и есть мирность мира, его «значимость» (Bedeutungsganzheit). Выключение из целостности в таком случае обозначается через поломку: пристальное разглядывание отдельного бытующего обращает его в предмет постольку, поскольку бытующее, отделившись (поломавшись), требует особого к себе внимания. «Естественным» способом бытования вещей на дотеоретическом уровне является их незаметность, и, соответственно, неотделенность от той целостной связности, в которой они нам впервые встречаются. Условием встречи какого-либо бытующего является его включенность в некую целостность свя- зей и отсылок (ручка отсылает к процессу письма, письмо отсылает к размышлениям над статьей, размышления над статьей отсылают к беседам и прочитанным книгам, и т. д.). Вся эта целостность отсылок есть не что иное, как предшествующая всякой возможной «включенности» забота о существовании того, кто им следует, без эксплицитного выявления возможного «субъекта» этого бытийствования: здесь само бытие озабочено собой 6 – без распадения на субъектно-объектные отношения.
Соответственно, появление отдельного предмета в горизонте бытийствования, который становится средоточием последнего, есть свидетельство определенной поломки, выклю-ченности. Мир не состоит из отдельных предметов , мир – это всегда целостность различных связей, не данных способом данности отдельного предмета. Мир вообще не дан. Хайдеггер употребляет для обозначения того, что мы могли бы назвать способом данности мира, старонемецкий глагол «welten» («мировать»), который переводчики в данном контексте предлагают понимать как «значит» (мир не дан, он значит). В этом смысле, когда мир перестает значить, тогда то, чем он значил, встречается нам как просто данное , наличное, предмет . В предмете момент противостояния (немецкое gegen -, в русском пред -) указывает как раз на то, что бытующее, ставшее предметным, утратило связь с целостностью, в которой оно о себе заявило.
Это слово – welten – как способ бытия мира (мир мирит) означало в немецком языке «вести насыщенную жизнь». Можно сказать, что способ «естественной» данности мира – это «поглощение», «умиление»7. Лишь там, где это поглощающее умиление невозможно (соответственно: нарушено ), – там мы встречаемся с предметами.
Так в общих чертах можно показать неестественность якобы «естественной» установки, полагающей мир состоящим из отдельных предметов и конфигураций их различных множеств. Отсюда, открывается необходимость исследования условий дискурсивности (которой занимался Мишель Фуко), «иррациональности» общества (в исследованиях Франкфуртской школы), феноменов техники и субъективности, проводимых всегда в рамках той или иной критики.