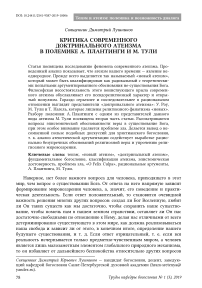Критика современного доктринального атеизма в полемике А. Плантинги и М. Тули
Автор: Лушников Димитрий Юрьевич
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Теизм и атеизм: полемика и возможность диалога
Статья в выпуске: 1 (3), 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию феномена современного атеизма. Проведенный анализ показывает, что атеизм нашего времени - явление неоднородное. Прежде всего выделяется так называемый «новый атеизм», который может быть квалифицирован как радикальный с теоретическими попытками аргументированного обоснования несуществования Бога. Философская несостоятельность этого воинствующего крыла современного атеизма обуславливает его псевдорелигиозный характер и открытый популизм. Гораздо серьезнее и последовательнее в рациональном отношении выглядят представители «доктринального атеизма»: У. Роу, М. Тули и Т. Нагель, которые лишены религиозного фанатизма «новых». Разбору полемики А. Плантинги с одним из представителей данного вида атеизма М. Тули посвящена вторая часть статьи. Рассматриваются вопросы эпистемической обоснованности веры в существование Бога, при этом особое внимание уделяется проблеме зла. Делается вывод о несомненной пользе подобных дискуссий для христианского богословия, т. к. анализ атеистической аргументации содействует выработке рационально безупречных обоснований религиозной веры и упрочению религиозного мировоззрения.
Теизм, «новый атеизм», «доктринальный атеизм», фундаментальное богословие, классификация атеизма, эпистемическая достоверность, проблема зла, «o felix culpa», рациональные аргументы, а. плантинга, м. тули
Короткий адрес: https://sciup.org/140294833
IDR: 140294833 | DOI: 10.24411/2541-9587-2019-10006
Текст научной статьи Критика современного доктринального атеизма в полемике А. Плантинги и М. Тули
списка. При этом, даже сама постановка вопросов о добре и зле, необходимости нравственного совершенства становится неуместной, а жизнь человека сводится лишь к обеспечению комфортного существования и отправлению естественных потребностей. Очевидно, что религиозное мировоззрение гораздо интереснее, ответственнее и интеллектуально привлекательнее, нежели атеистическое. И тем не менее атеизм, существующий с незапамятных времен, набирает все большую силу в современном мире в рамках возникшего в начале XXI века т. н. «нового атеизма».
Исследования «нового атеизма» как явления жизни современного секулярного общества в отечественной1 и западной2 аналитической теологии делает очевидным тот факт, что употребление слова «новый» мало подходит для характеристики данного феномена. И действительно, что может быть «нового» в отрицании Бога? Какое новое положительное содержание может возникнуть «из веры в ноль»? Является ли «новый атеизм» качественно своеобразным, не имеющим примеров в истории феноменом? «На самом ли деле “новый атеизм” способен выставить такие счета религиям, по которым им, привыкшим иметь дело с атеизмом “старым”, уже очень трудно будет заплатить?»3.
Для цели данной статьи, которая прежде всего состоит в выявлении логической несостоятельности и психологической неосуществимости атеистического мировоззрения, на конкретном примере полемики теиста Алвина План-тинги и атеиста Майкла Тули необходимо дать определение понятию «нового теизма», выявив его существенные признаки.
Как и у всякого общественного движения, точная дата возникновения «нового атеизма» трудно определима. С уверенностью можно говорить лишь о первом десятилетии XXI века, как о времени окончательного становления и оформления «нового атеизма». Исследователи этого феномена связывают его вызревание с публикациями книг4 четырех авторов-атеистов, которых впоследствии назовут «четырьмя всадниками нового атеизма»5. По мнению Райана Крэгана (Ryan Cragun), эти книги не были началом движения, но стали «неким автокаталитическим проявлением расцвета движения как в США, так и на международном уровне»6. Само же название, или ярлык, «новый атеизм», который пришелся по вкусу атеистическому сообществу, по-видимо-му, был придуман журналистом Гэри Вульфом (Gary Wolf) в его статье «Церковь неверующих», опубликованной в журнале Wired в 2006 году.
Одной из самых ярких выдающихся черт «нового атеизма» является его радикальность и воинствующий богоборческий характер, с чертами квазирелигиозности и квазицерковности. Новые атеисты не просто нейтральные наблюдатели, излагающие свои аргументы в пользу не-существования Бога — они, занявшие позицию «публичных интеллектуалов», страстно, почти с евангельским рвением, пытаются заставить своего слушателя захотеть не верить в Бога. Они не только стараются убедить человека в лживости главных религиозных догматов, но и доказать несовместимость общечеловеческой культуры с религией. Однако, как справедливо отмечает Грегори Гансл (Gregory Ganssle), «аргумент “непривлекательности” вовсе не тождественен и не означает аргумента о Его несуществовании»7. Уже здесь обнаруживаются проблемы с рациональностью и логической состоятельностью позиций «новых атеистов». Акцентируя внимание на проявлениях невежества, безнравственности и лицемерия в среде верующих, «новые атеисты» пытаются тем самым обосновать не-существование Бога. Очевидно, что здесь ими допускается логическая ошибка «Abusus non tollit usum»8: если кто-то из христиан злоупотребляет в вере, нарушая учение и моральные требования христианства, т. е. отходит от идеала, это не означает, что плохи сами идеалы, и тем более не обосновывает небытия источника этих идеалов9. Отсутствие логической последовательности и взвешенной аргументации у «новых атеистов» компенсируется комбинацией эмоций и словесной риторики. Они всячески пытаются создать впечатление глубокого умствования. Будучи интеллектуально развитыми и образованными, они жульничают, заменяя часто серьезный разговор на пустые словопрения. Часто атеисты или по неведению, или по глупости — а скорее намеренно, — для критики христианства прибегают к высмеиванию положения таких форм религиозности, какие самим христианством признаются ложными, а значит, в известной мере псевдорелигиозными и атеистическими. Карикатурно представляя христианство и религиозную веру10, «новые атеисты» атакуют его эмоционально и упрощенными лозунгами, часто допуская при этом логические ошибки11.
При всем акценте на беспристрастность и научную рациональность, которые декларируются «новыми атеистами», следует отметить, что их аргументы против существования Бога не являются интеллектуальными, хотя они всячески пытаются доказать обратное, умело манипулируя аудиторией12. Присущая «новым атеистам» напористость, переходящая в истеричную агрессию, свидетельствует в том числе и об ущербности их позиции с психологической точки зрения: «Во всех книгах “новых атеистов” прослеживается какая-то странная настороженность или напряженность, которая, как правило, сопровождает не победителей, а (людей) отчаявшихся»13.
Но справедливости ради стоит отметить, что отнюдь не все современные атеисты ведут себя подобно «четырем всадникам»: встречаются взвешенные, рационально аргументированные, со следами саморефлексии позиции, требующие, в свою очередь, ответной реакции со стороны христианского богословия. К таким атеистам можно отнести Уильяма Роу (William Rowe) и Майкла Тули (Michael Tooley), о которых Чарльз Талиаферро (Charles Taliaferro) и Чед
Майстер (Chad Meister) упоминают как о «дружественных»14, в силу того, что они не проявляют открытой враждебности к богословским традициям, и вполне допускают разумность носителей религиозного мировоззрения, хотя и считают теизм ложным15. Такая атеистическая критика религии может оказать — и оказывает — благотворное влияние на развитие христианского богословия, являясь неким побуждающим мотивом к выработке твердой, рационально защищенной позиции христианской веры16.
Для дальнейшей конструктивной критики «нового атеизма» необходимо определить основные его положения и дать их качественную характеристику. В одной из немногих саморефлексивных книг, написанных «новыми атеистами», выделяются основные положения «веры» «новых атеистов»: 1) отрицание сверхъестественного; 2) безусловное доверие к науке; 3) последовательная критика религии. В самом деле, «новые атеисты» отрицают как существование Бога, так и любую иную реальность вне природного мира. За всеми ответами они обращаются лишь к эмпирическим наукам, создавая и всячески усиливая конфликт между религией и наукой, используя последнюю как инструмент борьбы с религией. Степень критики религии у «новых атеистов» колеблется от полутолерантного отношения к некоторым формам религии (П. Майерс (P. Myers)), через критику некоторых аспектов (С. Харрис (S. Harris)), до полного отрицания всего, что связано с религией (В. Стенджер (V. Stenger), К. Хитченс (C. Hitchens))17. Современные отечественные теологи — критики «нового атеизма», прежде всего В. К. Шохин и В. В. Слепцова, предлагают более расширенную версию основных положений «нового атеизма», выделяя семь основных его признаков18, из которых особо выделим открытый популизм и апелляцию не столько к интеллектуалам, сколько к «широким массам», с активным использованием общественных площадок и СМИ, а также, вопреки декларируемому сциентизму, наличие веры в строении сознания «новых атеистов», т. е. его псевдорелигиозный характер.
Таким образом, если так мало нового в «новом атеизме», то как можно его классифицировать, учитывая, что за формальным и общим определением атеизма как отрицания божественного или Абсолюта существуют различные его формы и варианты? Само слово «атеизм» становится обычным на рубеже XVII–XVIII веков. Но лишь в XIX веке теоретические атеистические точки зрения формулируются как системное толкование мира или мировоззрение от имени разума. Атеизм имеет долгую историю, в которой осознавал себя не как нечто единое, но принимал различные формы, в соответствии с основополагающими на данный момент мотивами. В релевантной философской и богословской литературе по вопросу атеизма предпринимались разные, часто не согласующиеся между собой попытки классификации. «Попытки классификации различных атеизмов сопровождаются значительными неточностями, так как нет никакого однозначного нормативного языкового употребления слова “атеизм”, а только попытки определить направленность»19. По сравнению с совершенно разными теизмами негативный термин «атеизм» не поддается более точному определению. По мнению В. Каспера, содержание понятия «атеизм» нельзя выводить исключительно из анализа обеих составляющих слова («теизм» и «а-»). Понимание атеизма только как отрицания (монотеистического) теизма и рассмотрение, к примеру, пантеизма как атеизма было бы сужением и, одновременно, непозволительным расширением термина. Поэтому под атеизмом В. Каспер предлагает понимать противоположность любого утверждения о существовании Бога и Божественного, а это означает существование не только различных форм представлений о Боге, но и различных форм атеизма20. Также вызывает затруднение тот факт, что понимание атеистом определенного теизма ни в коей мере не идентично направленности и смыслу последнего, и наоборот.
В современной немецкой фундаментальной теологии можно выделить две классификации атеизма по критерию рецепции их учебниками по данной богословской дисциплине: Ганса Вальденфельза21 и Августа Вухерер-Гульден-фельда22, соответственно заимствованные и отчасти доработанные Вольфгангом Клаусницером23 и Кристофом Бёттихаймером24.
Г. Вальденфельз, прежде всего, предлагает различать практический атеизм, встречающийся у людей, которые вопреки своему теоретическому принятию существования Бога живут так, как будто Его нет, и теоретический атеизм, который обнаруживается у людей, считающих невозможным достоверное познание о Боге либо отрицающих Его существование. В рамках последнего Вальденфельз проводит следующую дифференциацию на пять типов:
– частный, или негативный атеизм, где даже термин «Бог» теряется или отсутствует;
– агностический, или скептический атеизм, где возможность познания Бога оспаривается;
– догматический, или «анти-теизм», где существование Бога отрицается;
– доктринальный атеизм, где осуществляются попытки аргументированно обосновать не-существование Бога;
– постулируемый, или гуманистический атеизм, где востребованно постулируется не-существование Бога во имя человека.
С психологической точки зрения Вальденфельз выделяет «воинствующий» атеизм, который отстаивает свои убеждения страстно, с воинствующим энтузиазмом, и т. н. «беспокойный» («ищущий»)25 атеизм, в котором люди страдают от того, что не могут поверить в Бога, испытывают чувство подавленности из-за невозможности найти божественное26.
Классификация Вальденфельза27 показывает нам, что атеизм следует рассматривать как многообразное сложное явление в современной жизни. Таким образом, с учетом его классификации, «новый атеизм» можно охарактеризовать как теоретический, доктринальный и воинствующий.
А. Вухерер-Гульденфельд, с точки зрения истории религии, разделяет атеизм по смысловому содержанию на три группы:
– религии называют атеистами тех, кто поклоняется другим богам, а не их собственному;
– религии называют атеистическим все, что отрицает монотеизм, т. е. трансцендентного, единого, личного, всеведущего, всемогущего и всеблагого Бога;
– атеистами являются те, кто радикально отрицает божественное или сомневаются в нем, полагая, что могут рационально объяснить веру в божественное.
Последняя группа формируется на основании трех разных подходов:
– рационально-эмпирический тип, скептического и агностического менталитета. Это путь английского эмпиризма (Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм), где предлагалось искать критерии действительного познания в эмпирических данностях или логических взаимосвязях, когда места для мета-эмпирических предметов не оставалось. Результатом этого стало появление скептического агностицизма (Д. С. Милль, Г. Спенсер) и позитивизма (О. Конт);
– материалистически-мировоззренческий, с категориально-доктринальной аргументацией. Представлен решительными материалистами французского Просвещения (Ж. О. Ламетри, Д. Дидро, П. А. Гольбах). Спустя 100 лет эта линия выродилась в вульгарный материализм Г. Бюхнера, Я. Малешотта и К. Фохта. Согласно этому подходу, «гипотеза Бога» была признана устаревшей. Реальность предлагалось объяснять с помощью передовых наук, поскольку под единственной реальностью предлагать понимать вечную материю, подчиненную закону самодвижения. Этой попытке объяснить мир при помощи разума пришел на помощь дарвинизм, заменивший собой идею Творения, принятый на веру как мировоззрение;
– гуманистически-эмансипационный, с постулярной мотивацией, инициированный в значительной степени атеистическим гуманизмом Л. Фейербаха и опершимся на него историческим материализмом К. Маркса. Постулатные мотивации этого типа атеизма, при всех прочих расхождениях, разделяли Ф. Ницше, З. Фрейд, Ж.-П. Сартр28.
Отметим, что «новый атеизм» наиболее соответствует материалисти-чески-мировоззренческому типу, с элементами гуманистически-эмансипа-ционного.
К. Бёттихаймер, дорабатывая классификацию А. Вухерер-Гульденфель-да, предлагает следующую схему. Он выделяет прежде всего теоретический и практический виды атеизма.
Теоретический, или аргументированный, ставит своей целью признание себя с научной или философской точки зрения. Область этого типа атеизма разделяется на негативный, подразумевающий даже утрату самого термина «Бог», и позитивный, где сущность или существование Бога, или Его аргументированно-рациональная познаваемость эксплицитно отрицается. Этот позитивный атеизм может выражаться как:
– скептически-агностический, который подвергает сомнению как возможность истинного познания Бога, так и категорический атеизм. Он проявляет сдержанность до тех пор, пока познаваемость Бога (а не Его существование) не будет подвергнуто отрицанию. Для него религиозные вопросы остаются без ответа и потому являются бессмысленными;
– постулируемый, утверждающий небытие Бога во имя автономии субъекта. Это — гуманистический атеизм свободы, часто опирающийся на проблему зла;
– догматический, или анти-теизм, который априори абсолютно отрицает существование Бога29.
Практический атеизм в целом подразумевает поведение и действия, обусловленные атеистическими убеждениями, но вовсе не обязательно имеет их в своей основе. В то же время, теоретическое признание существования Бога вовсе не влечет за собой практических проявлений религиозности. В практическом атеизме Бёттихаймер выделяет три основных направления:
– этический, где Бог не нужен, поскольку человек воспринимает себя автономно;
– индифферентный, подразумевающий равнодушие и отсутствие интереса к вопросу о существовании Бога. В рамках такого атеизма человек не только безбожен, но и оказывается неспособным принять Бога. Он живет без Бога, и у него нет даже чувства, что ему чего не хватает. Для него вопрос о смысле жизни не является идентичным вопросу о Боге;
– «тревожный атеизм». Представители его ошеломлены «молчанием Бога», бессмысленностью мира. Для них Бог не вписывается в картину мира.
Отдельное место в классификации Бёттихаймера занимает «новый атеизм», который он относит к практическому, поскольку для него новыми являются не столько аргументы, сколько способ их подачи и сочетание их друг с другом. По его мнению, это происходит, как правило, в спорах, без разбора и ненаучно. Поэтому «новый атеизм» оценивается им, по преимуществу, как публицистический феномен.
Таким образом, учитывая представленные выше классификации атеизма, можно охарактеризовать феномен «нового атеизма», как он представлен у «четырех всадников», теоретическим, доктринальным, с попытками аргументированного обоснования не-существования Бога. Он вбирает в себя также черты материалистическо-мировоззренческого (т. к. многое принимается на веру), и гуманистически-эмансипационного типов. Слабость же философской аргументации делает его вполне попадающим в раздел догматического атеизма. По своему характеру он может быть также охарактеризован как «воинствующий», или богоборческий атеизм. Особо отметим его популистский характер.
А. Плантинга считает, что «новые атеисты» в своей интеллектуальной компетенции значительно уступает «старым» — Б. Расселу и Дж. Маки. Уступают они и другим современным атеистам, лишенным религиозного фанатизма «новых» — Т. Нагель, М. Тули30 и У. Роу.
В настоящей статье будет частично рассмотрена полемика А. Плантин-ги и М. Тули. Данная полемика31 была опубликована в сборнике «Знание о Боге» («Knowledge of God»)32, вышедшем в 2011 году в серии «Great Debates in Philosophy». В своей статье «Существует ли Бог» М. Тули задается вопросом, можно ли эпистемически оправдать бытие Божие? Его ответ — отрицательный. Он считает, что вера в Бога как основной базисный аргумент — неосновательна и неоправданна.
В защиту своей позиции Тули приводит аргументы против существования Бога, которые разделяет на три группы: априорные аргументы и два вида апостериорных, среди которых одни связаны с моральными претензиями (аргументы от наличия зла и «очевидного сокрытия Бога»), другие — не связаны с моральными требованиями. В априорных аргументах, в свою очередь, Тули выделяет три вида: 1) утверждение о бытии Божием когнитивно «несущественно», т. к. не является ни истиной, ни ложью (т. е. не имеет значения для познания. — Д. Л. ); 2) концепт Бога имеет «имплицитное противоречие», т. е. бытие Божие логически невозможно; 3) более скромный — по мнению Тули — когда утверждается, что существование Бога априори менее вероятно, чем Его небытие.
Согласно первому виду, теизм должен быть отвергнут не потому, что он является ложным, а потому, что сама идея существования Бога лишена всякого познавательного смысла. Впервые этот аргумент был сформулирован Альфредом Айером (Alfred Ayer;) в книге «Язык, истина и логика» (1936) и назван «принципом достоверности когнитивного контента»33. Согласно А. Айеру, в теизме нет когнитивного содержания, т. к. существование Бога не подвергается проверке. Ни истинное, ни ложное для познания не имеет никакого смысла, в то время как эмпирический опыт с количественными феноменальными свойствами обладает когнитивной значимостью. (По нашему мнению, если следовать логике Тули, вполне можно допустить аналогичное утверждение применительно к противоположной идее — не-существования Бога, которая, поскольку непроверяема, то так же гносеологически бесполезна и не имеет когнитивного значения.)
Второй вид аргументации строится на логических противоречиях, которые усматриваются автором в совместном признании некоторых предикатов идеи Божества, входящих в конфликт друг с другом внутри самого понятия о Боге. Таковых противоречий Тули выделяет четыре:
-
1) Всеведение и неизменяемость: знание Бога о реальности предполагает Его изменение, вместе с изменением содержания знания об изменяющейся реальности.
-
2) Проблема «вневременного агента». Может ли Бог, существующий вне времени, приводить к существованию тот или иной мир «во времени»? Тули говорит о связи причинности со временем, для него то, что не лежит во времени, не может войти в причинно-следственные связи.
-
3) Всеведение, нравственное совершенство и неопределенный мир. Другими словами, проблема согласования всеведения Божия и человеческой свободы. Тули знает объяснения теистов — Бог находится вне времени, что позволяет Ему знать о любом событии в любой точке временн о го ряда. Но это объяснение он считает некорректным, поскольку неопределенность Вселенной исключает всеведение. Недетерминированность мира (обусловленная человеческой свободой. — Д. Л. ), исключает всеведение (т. к. невозможно знать о результатах свободного изменения, их нельзя предсказать. — Д. Л. ).
-
4) «Парадоксы всемогущества». Здесь Тули вспоминает старые схоластические споры, включая классический о возможности создания камня, который Сам Бог не в силах будет поднять34.
Отметим, что Тули сам дает оценку этим аргументам35. Из них он положительно оценивает первый и второй и опровергает третий и четвертый.
К третьей группе автор относит т. н. аргумент логической вероятности, который он называет «атеизм как проигранная позиция». Идея состоит в том, что атеизм — это позиция по умолчанию. Отсутствие положительной основы или доказательства бытия Божия является обоснованием атеизма. Подавляющее большинство людей не верит в гномов и фей, но делают это не потому, что есть положительные доказательства против их существования, а потому, что нет положительных доказательств в поддержку их существования. Так же и с Богом — если нет положительных доказательств в поддержку Его существования, маловероятно36, что Он существует, полагает Тули37. Теисты опровергают этот аргумент тем, что вера в Бога, в отличие от веры в водяных и ведьм, которая случайна, является безусловной и необходимой. (Согласно эпистемологической концепции Плантинги — является «базовым веровани-ем»38. — Д. Л.). На это Тули отвечает — логически можно предположить бытие трех априори равновероятных существ: 1) всемогущего, всеведущего и всеблагого; 2) всемогущего, всеведущего и злого; 3) всемогущего, всеведущего и безразличного в нравственном отношении. Априорная вероятность того, что Бог существует, равняется одной третьей, а того, что не существует — двум третям. Следовательно, при отсутствии положительной причины существования Бога разумным будет предположить Его не-существование. Поэтому атеизм принимается по умолчанию.
Апостериорный аргумент без моральной поддержки опирается на противопоставление понятий нематериального разума и физической реальности. Основной тезис — наше настоящее знание о природе мира, предполагающее маловероятность существования нематериальных разумов в целом, делает маловероятным существование Бога. Эту мысль Тули обосновывает следующим образом. Во-первых, он указывает на тождественность телесного и сознательного состояний. Например, человека сильно ударили по голове, он потерял сознание и недвижим. Приходя в себя, он не может поведать о том, какова была деятельность его сознания в период беспамятства. Во-вторых, повреждения мозга влекут повреждения сознания и личности, делая невозможным наличие сознательных состояний. Следовательно, способность мыслить, помнить, чувствовать не принадлежит нематериальному разуму, иначе бы ущерб, нанесенный головному мозгу, не влиял бы на состояние сознания. В-третьих, психические расстройства происходят вследствие заболеваний головного мозга — инсульта, опухоли, болезни Альцгеймера и проч. Следовательно, психологические способности напрямую зависят от некоторых областей головного мозга. В-четвертых, неясно, как оценить пусть ограниченные, но рациональные способности животных. Следует ли их наделить нематериальными разумами или связать эту рациональность с чем-то, что «находится в» или «зависит от» головного мозга.
Таким образом, психологические способности человека находятся не в материальном разуме, а в сложных неврологических связях, а процессы психические идентичны мозговым и постулируются физикой.
С этим выводом Тули не согласен, поскольку не все, по его мнению, может постулироваться физикой (цвета, звуки, запах и т. д.). Однако, по его мнению, этот крайний вывод не меняет картины в целом, поскольку принцип тождественности телесного и сознательного сохраняется. «Состояния сознания либо идентичны физическим процессам, либо зависимы от физических процессов. Поэтому маловероятно, что есть нематериальные умы, а значит, если Бог бестелесен и сознателен, маловероятно, что Он существует»39.
Апостериорные аргументы с моральными претензиями (аргументы от наличия зла и «очевидного сокрытия Бога») Тули считает наиболее сильными. Аргумент об «очевидном сокрытии Бога» основывается на эпистемическом факте, что Его существование не очевидно. Впервые этот аргумент был сформулирован Джоном Шелленбергом, который утверждал, что если бы Бог существовал, он не допустил бы неверия, и если стремления верующих не всегда достигают цели, то Бог не всеблаг, поскольку намеренно отграничивает человека от Себя и от достижения им блага40.
Далее в своей статье Тули защищает мнение о том, что привычно сформулированный аргумент от зла показывает, что существование Бога маловероятно. При этом по форме он различает четыре типа аргументов от зла: дедуктивный, индуктивный, аксиологический и деонтологический, а также вид, который Тули называет «субъективные версии объективных формулиро-вок»41. Наиболее перспективными он признает индуктивный и деонтологиче-ский аргументы.
Дедуктивный аргумент представлен Тули следующим образом:
-
1. Любое всеведущее Существо знает о каждом возможном способе, благодаря которому любое зло может прийти в существование.
-
2. Любое всемогущее существо имеет силу для того, чтобы предотвратить всякое зло.
-
3. Любое нравственно совершенное существо хочет предотвратить всякое зло.
-
4. Любое всеведущее, всемогущее и нравственно совершенное Существо имеет силу, чтобы предотвратить всякое зло, и не хочет допустить всякое зло.
-
5. Если есть существо, у которого есть сила предотвратить всякое зло и которое хочет предотвратить всякое зло, тогда зло не должно существовать.
-
6. Если есть всеведущее, всемогущее и нравственно совершенное существо, тогда зло не существует
-
7. Зло существует.
-
8. Следовательно
-
9. Нет всемогущего, всеведущего и нравственно совершенного существа.
-
10. Если Бог существует, то Он является всемогущим, всеведущим и нравственно совершенным.
-
11. Следовательно
-
12. Бога не существует.
Тули ставит эту форму аргумента под сомнение. Посылка № 3, что нравственно совершенное Существо хочет предотвратить всякое зло, не является бесспорной. Если мир есть лучшее место, где люди развивают свои лучшие качества в борьбе со злом и страданиями, то предотвращение всех страданий сделает мир худшим местом, лишив людей возможности духовного совершенства через борьбу со злом и реагирования на страдания соответствующим образом. При этом отмечается, что ссылка на необходимость зла для возрастания во благе не кажется ему убедительной, так как это обычно мыслят в отношении небольшого зла, и непонятно, где полагается необходимый предел количества и качества зла. Тем не менее, изложенный в терминах объективных моральных оценок данный аргумент не нравится Тули, так как делает логически невозможным существование не только Бога, но и самого зла.
Индуктивный аргумент.
Для Тули аргумент от зла должен быть сформулирован не как дедуктивный, а как индуктивный (вероятностный), который более скромен и исходит из того, что зло, которое действительно существует в мире, делает маловероятным бытие Бога. Индуктивный аргумент отличается от дедуктивного прежде всего своей характеристикой зла. Для аргументации он предлагает рассматривать не абстрактное зло, а конкретное, в наиболее жестоких его проявлениях, например, убийства, изнасилования и т. д.
Аксиологические и деонтологические формулировки аргумента от зла.
Тули считает, что аксиологические формулировки аргумента от зла, как правило, не полны в критическом отношении, так как не указывают на то, каким образом можно добиться хорошего состояния дел и предотвратить плохое, если кто-то действует морально неправильно. Дискуссия о существовании Бога может уходить в сторону от обсуждения проблемы, например, решая вопрос, может ли Бог заслуживать морального порицания, если бы Он не мог создать лучший мир42. Альтернативой аксиологической формулировки является деонтологическая. Вместо использования понятий, которые фокусируются на ценности и положении состояния дел, предлагается сосредоточиться на правильности или неправильности действий, т. е. на том, что должно или не должно быть выполнено.
Субъективные версии объективных формулировок.
Тули предлагает различать субъективные и объективные формулировки аргумента от зла. Он пытается обосновать возможность субъективных формулировок, которые позволяют одновременно доказать, что идея о Боге является иррациональной, не подвергая сомнению объективность моральных ценностей43.
В своей статье-ответе «Reply to Tooley’s Opening Statement»44 А. Плантин-га выдвигает следующий тезис — эпистемологическая вероятность не равна логической вероятности. Эпистемологическая вероятность и эпистемологическая оправданность — также не одно и тоже. У Тули все предложенные описания включают идею логической вероятности (2+1=3), т. е. есть набор гипотез относительно оправдания или не-оправдания моей веры, и набор гипотез относительно моего базисного состояния. Плантинга считает, что Тули объясняет эпистемическую вероятность в терминах логической вероятности. Эпистемическая вероятность — это логическая достоверность, оправданная или не оправданная человеком, выражающая его базисный статус. Для План-тинги бытие Божие имеет определенную степень эпистемической вероятности. Необходимость Бога опровергает аргументацию Тули, так как его концепция изначально предполагает бытие Бога. «Главная идея достоверности веры заключается в доверии к убежденности в правильности моей веры, а значит предполагает достоверность аргументов», — считает Плантинга. Если Тули считает атеизм эпистемически рациональной позицией из-за отсутствия фактов в защиту теизма, то Плантинга говорит об уязвимости обоих позиций априори, но отдает предпочтение теистической, так как она основывается на идее о Боге как о необходимом всесовершенном Существе.
Аргумент от зла признается Плантингой наиболее сложным для преодоления, поскольку оба тезиса — о наличии всемогущего и всеблагого Бога, и о наличии зла в мире — абсолютно несовместимы. Следовательно, наличие зла должно опровергать существование Бога. Для Плантинги решение проблемы зла важно для самого христианского миропонимания, вне зависимости от успешности или провальности а-теологических аргументов. Предлагая свою теорию объяснения зла, он не претендует на всеобъемлющее решение проблемы, считая, что в силу эпистемологической дистанции между Богом и человеком нам никогда не удастся до конца понять суть божественного попущения зла45. Свою концепцию по проблеме зла Плантин-га называет «O Felix Culpa» (счастливая вина)46. Для сотворения мира Бог, актуализируя наш мир, выбирает его из бесчисленного множества других возможных миров, для каждого из которых характерна определенная степень добра и зла. Это принцип «субсидиарности выбора мира». Суть принципа заключается в выборе определенной целесообразности, баланса любви и ненависти, добра и зла. Поскольку совершенствование человека как благо не имеет мыслимых пределов, то, может быть, и не существует «лучшего из миров» для целостного развития человека. Поэтому Божественная мудрость, по мнению Плантинги, состоит в «слабой актуализации» реального благого возможного мира47.
Очень важный момент, на который обращает внимание Плантин-га — утверждение, что мир, в котором существует Бог, значительно нравственнее и лучше, чем мир с Его отсутствием. Если необходимость Божественного присутствия в мире правда, то нет ни одного мира лучше без Его присутствия. В нашем мире великий Божественный замысел обнаруживается в спасении человека, когда Богом совершается все необходимое для обретения человеком подлинного бытия в единстве с Ним. Речь идет о воплощении как кенозисе, крестных страданиях до смерти, непредставимых для нашего воображения, в принятии Иисусом Христом богооставленности и воскресении, побеждающем смерть. «Можно ли вообразить нечто превышающее эту Божественную любовь?» — задается вопросом Плантинга48. Поэтому и нет большего нарушения этического баланса, когда человек отвергается от Бога и ближнего, погрязая в грехах. Отсюда, вывод Плантинги таков: «Бог актуализирует максимально необходимый добрый мир. При этом, какой бы объем страданий ни содержал в себе мир, его превосходит благость Божия»49. Догматы богово-площения и искупления, по мнению Плантинги, превышают остальные человеческие нравственно-гуманистические ценности. В независимости от наличия «превосходных существ» в мире, какой бы привлекательно богатой и безграничной не была их жизнь, общая нравственная ценность их совокупной жизни не превышает воплощения и искупления, а наш мир неизмеримо выше любого другого, в котором не было пришествия Бога. Аналогично, суммарный агрегатный объем всех злодеяний и грехов не может перевесить благо воплощения и искупления, так как ценность Абсолюта несопоставима с тварной ценностью. Поэтому, если Бог актуализирует реально благой возможный мир, то Он создает мир воплощения и искупления, который содержит зло, так как при отсутствии зла необходимости в спасении от грехопадения нет, а значит — нет искупления. Таким образом, необходимым условием искуплением становятся зло и грех, следовательно, последние — необходимые условия совершенного мира. Концепция «счастливой вины» (греха), «O Felix Culpa» — вот почему, по мнению Плантинги, в мире существует зло50.
Сам Плантинга указывает, что можно привести, по крайней мере, три аргумента против его концепции: 1) почему Бог допускает грех со злом? 2) Почему Бог допускает так много страданий и зла? 3) Если Бог допускает страдание человека, чтобы достичь идеального мира с воплощением и искуплением, и не является ли это доказательством Его манипуляции, Его обращения с человеком как с «бессловесной куклой»? В ответ на эти возможные замечания, Плантинга приводит два контрдовода: 1) свободные существа имеют свободу творить зло, от чего и возникают страдания. Нравственное достоинство и совершенство невозможно достичь без наличия свободы, но свобода допускает в том числе и выбор зла, как противопоставление Божественному порядку и Самому Богу. Большая часть страданий в мире — это результат действия свободных тварей в оппозиции Богу и Его ценностям. Естественное или природное зло Плантинга, с одной стороны, считает абсурдным, так как моральные критерии к природному не приложимы, а с другой стороны, причину дисгармонии мирового бытия определяет как следствие греховной жизни человека; 2) Инструментальная ценность страданий заключается в том, что они улучшают наш нравственный облик и готовят к вхождению в Царство Небесное. Они ведут нас к славе вечной, хотя мы и не понимаем «механизма» их действия. И если жизнь христианина — это следование за Христом, подражание Ему, то разделение страданий с Ним становятся условием достижения воскресения из мертвых и победы над смертью.
В заключение Плантинга делает следующий вывод: «“O Felix Culpa” не снимает и никогда не снимет постоянного антагонизма в сложной проблеме зла, но возможно она снимает напряженность человеческого восприятия проблемы и предоставляет средства для более глубокой оценки спасительного смысла страданий»51.
Плантинга прав, когда говорит, что проблема зла, по существу, есть проблема христианская, религиозная52. Для атеистов такая проблема в принципе не должна возникать, так как само существование зла — это противоречие для атеизма. Фрэнк Турек убежден, что «если зло реально, то атеизм ложен»53. Атеистическая позиция, по его мнению, порождает рациональный диссонанс, поскольку непонятно, откуда они вообще берут категорию зла. Когда атеисты говорят, что есть такая вещь, как зло, они необходимо должны предположить и существование такой вещи, как добро, а если это так, то требуется утверждение морального закона, согласно которому добро и зло различаются. Но тогда необходимо обоснование объективного критерия определения того, что хорошо и что плохо. Единственным же достаточным способом утверждения объективного морального закона, является признание бытия его Законодателя, Существа Абсолютного, т. е. Бога54. Подобным образом рассуждает и Чед Майстер: «В отличие от атеиста теист может видеть, что если зло существует, то существуют и объективные моральные ценности, а если есть и они, то они должны иметь некий базис — «некоторое метафизическое основание», которым атеист располагать не может, так как в его мире нет места для благости и мира и тем более для Его Создателя»55.
Итак, существование нравственного закона, предполагающего наличие твердых критериев добра и зла, необъяснимо в рамках атеизма и материализма. Если для Докинза поведение человека — «это танцы под музыку ДНК», если все в природной жизни, природной реальности детерминировано, то категории добра и зла не приложимы, а атеисты иррационально заимствуют моральные и ценностные понятия из мировоззрения, которое отрицают.
заключение
Возникает вопрос, есть ли смысл в дискуссиях, подобных рассмотренной в данной статье, или дебатах между теизмом и атеизмом? Безусловно, есть и прежде всего для христианского богословия. В монологах редко рождаются отточенные формулировки. По мнению одного из видных западных христианских апологетов Н. Гайслера, «всем нам трудно заметить логические несообразности в собственном мышлении. Атеисты служат некоторым корректирующим фактором для выявления несостоятельности рассуждения теистов. Атеологическая аргументация против теизма ставит барьер для слепого догматизирования и помогает сдерживать ту горячность, с которой многие верующие спешат отбросить сомнения»56. Это не означает, однако, что мы, христиане, должны в чем-то поступиться в своих религиозных убеждениях. Нет, но мы, напротив, можем постараться сделать последнее в максимальной степени рационально безупречными. Положительное для христианского богословия в дискуссиях с атеистами — то, что они подвигают нас к концептуальному очищению наших представлений о Боге. С. Эванс и З. Мэнис указывают, что атеистическая критика способна очищать псевдорелигиозные, «идолопоклоннические» наслоения, которые появляются и присутствуют в истинной религии. «Внимательное отношение к критике этих “мастеров подозрения”, которые слишком часто оказываются чересчур верны в своих суждениях, позволяют устранять самообман и ложную религию, которые для индивидуального духовного развития гораздо более опасны, чем любое атеистическое доказательство не существования Бога»57. Итак, самоанализ, к которому могут побуждать критические замечания современного атеизма, без сомнения, имеет важное значение для упрочения религиозного мировоззрения.
Наконец, хочется верить в то, что процессы саморефлексии происходят и на другой, атеистической, стороне. Основанием для этого может служить история как отечественной, так и зарубежной мысли. Достаточно вспомнить о «четырех замечательных обращениях», которые произошли в России в конце XIX — начале ХХ веков, когда четыре ученых-марксиста отказались от своих материалистических убеждений и обратились к христианству: П. Струве, С. Булгаков, Н. Бердяев, С. Франк независимо друг от друга прошли одинаковые стадии внутренней эволюции и окончательно обрели себя в лоне Православной Церкви58. Не менее замечательной можно считать историю одного из самых известных философов-атеистов современности Энтони Флю (Antony Flew), который уверовал в Бога. Как отмечают, с юных лет Флю был предан сократовскому принципу следования за доказательствами, куда бы они не вели. В итоге, именно философские искания длиной почти в целую жизнь привели его разум к доказательству существования Бога59. Вспоминается и Алистер Макграт (Alister McGrat), который ранее был атеистом, а ныне является одним из самых последовательных критиков «нового атеизма» и директором Оксфордского центра христианской апологетики (ОССА).
Приведенные примеры являются практическим подтверждением ранее высказанной в статье мысли о рациональной несостоятельности атеистического мировоззрения. Поэтому можно предположить, что атеизм фундируется волей, которая устремляет человека к достижению экзистенциальной самодостаточности и представляет собой желание автономного бытия. Но когда это страстное влечение — в христианской аскетике называемое гордыней — хоть сколько-нибудь подчиняется требованиям разума, человек отказывается от атеизма, как от мировоззрения, неподходящего ни с теоретической, ни с практической точек зрения, поскольку атеизм не решает главного вопроса — вопроса о смерти. «Это пустое и стерильное мировоззрение… философия без надежды, мировоззрение могилы»60. Атеизм, вместо обладания бытием, оставляет человеку лишь иллюзию его самодостаточности, которая реализуется последним лишь в постоянном достижении случайных, относительных и преходящих жизненных целей.
Список литературы Критика современного доктринального атеизма в полемике А. Плантинги и М. Тули
- Гайслер Н. Атеизм // Энциклопедия христианской апологетики / Пер. с англ. В. Н. Гаврилова. СПб.: Библия для всех, 2004. С. 83-89. - 1184 с.
- Зернов Н. М. Русское религиозное возрождение XX века. Париж: YMCA-PRESS, 1991. 368 с.
- Каспер В. Бог Иисуса Христа / Пер. с нем. Анна Петрова. М.: ББИ, 2005. Х, 444 с.
- Плантинга А. Бог, свобода и зло / Пер. с англ. В. В. Целищева. Новосибирск: ВО «Наука», 1993. 107 с.
- Слепцова В. В. «Новый атеизм» как феномен современного свободомыслия // Вестник Московского университета. 2015. № 1. С. 107-118.
- Слепцова В. В. Особенности критики религии С. Харррисом // Религиоведение. 2014. №4. С. 101-110.
- Слепцова В. В. Перспективы развития «нового атеизма» // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 12 (62): в 4 ч. Ч. IV. 167-171.
- Слепцова В. В. Теологическая критика «нового атеизма» // Вестник ПСТГУ. Сер. I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2016. №3 (65). С. 112-125.
- Слепцова В. В. Философские истоки и специфические черты «нового атеизма» // Религиоведение. 2015. № 3. С. 77-85.
- Лушников Д., свящ. Теизм и «новый атеизм»: к вопросу о полемике А. План-тинги и Д. Деннетта // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2018. № 1 (2). С. 19-32.
- Флю Э., Варгезе Р. Бог есть: как самый знаменитый в мире атеист изменил свои взгляды / Пер. с англ. А. Кучмы. М.: Эксмо, 2019. 192 с.
- Хулап В., прот. «Новый атеизм» в Германии и реакция на него: общий обзор // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2018. № 1 (2). С. 33-46.
- Шохин В.К. В чем все-таки новизна «нового атеизма»? // Вестник ПСТГУ. Сер. I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2016. № 3 (65). С. 149-157.
- Шохин В.К. Феномен атеистического фидеизма // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2018. № 1 (2). С. 6-18.
- Шохин В.К. Философская теология: канон и вариативность. СПб.: Нестор-История, 2018. 496 с.
- Эванс С., Мэнис З. Философия религии: размышления о вере / Пер. с англ. Д. Ю. Кралечкина. М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. 232 с.
- AyerA. J. Language, Truth, and Logic. London: Victor Gollancz, 1936. 254 р.
- Böttigheimer C. Lehrbuch der Fundamentaltheologie. Freiburg: Herder, 2016. 840 s.
- Copan P. Is God a Moral Monster?: Making Sense of the Old Testament God. Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 2011. 256p.
- Cragun R. T. Who Are the "New Atheism"? // Atheist Identities — Spaces and Social Contexts. Boundaries of Religious Freedom: Regulating Religion in Diverse Societies / Eds. L. G. Beaman, S. Tomlins. Cham: Springer, 2015. P. 195-211.
- Ganssle G.E. A Reasonable God: Engaging the New Face of Atheism. Waco, Texas: Baylor University Press, 2009. 202 p.
- Klausnitzer W. Gott und Wirklichkeit: Lehrbuch der Fundamentaltheologie für Sdudierende und Religionslehrer. Regensburg: Frederic Pustet, 2000. 392 s.
- Koterski W.J., Oppy G. Theism and Atheism: Opposing Arguments in Philosophy. Farmington Hills, Michigan: Macmillan Reference USA, 2019. 720 p.
- LennoxJ. C. Gunning for God: Why the New Atheists are missing the Target. Oxford: Lion Hudson, 2011. 248p.
- Meister C. The Problem of Evil // The Cambridge Companion to Christian Philosophical Theology / Ed. C. Taliaferro, C. Meister. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. P. 152-169.
- Plantinga A. God, Freedom and Evil. New York: Harper Torchbook, 1974.
- Plantinga A. Reply to Tooley's Opening Statement // Plantinga A., Tooley M. Knowledge of God. Malden, MA: Blackwell, 2008. P. 151-184.
- Plantinga A. Supralapsarianism, or "O Felix Culpa" // Christian Faith and Problem of Evil / Ed. P. van Inwagen. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing Co, 2004. P. 1-25.
- Plantinga A. The Nature of Necessity. Oxford: Clarendon Press, 1974.
- Plantinga A. Warranted Christian Belief. New York: Oxford University Press, 2000. 528 p.
- Plantinga A. Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, and Naturalism. Oxford: Oxford University Press, 2011. 376p.
- Plantinga A., TooleyM. Knowledge of God. Malden, MA: Blackwell, 2008. 280p.
- Stark R. W. What Americans Really Believe. Waco, Texas: Baylor University Press, 2008. 217 p.
- Taliaferro C., Meister C. Contemporary Philosophical Theology. London, New York: Routledge, 2016. 250p.
- Tooley M. Does God Exist? // Plantinga A., Tooley M. Knowledge of God. Malden, MA: Blackwell, 2008. P. 70-150.
- Turek F. Stealing from God: Why Atheists Need God to Make Their Case. Colorado Springs: NavPress, 2014. 304p.
- Waldenfels H. Contextual Fundamental Theology. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2018. 688 p.
- Wucherer-HuldenfeldA.K., Figl J. Der Atheismus // Handbuch der Fundamentaltheologie. Bd. 1: Traktat Religion / hrsg. von W. Kern, H.J. Pottmeyer, M. Seckler. Tübingen-Basel: A Francke Verlag, 2000. S. 67-77.