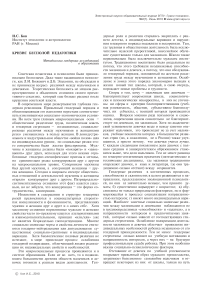Кризис бесполой педагогики
Автор: Кон Игорь Семенович
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Методология гендерных исследований в образовании
Статья в выпуске: 2 (7), 2010 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема кризиса теоретической «бесполости» педагогики, не мешающей распространению в обыденном сознании самого примитивного сексизма (дискриминации по признаку пола). Отмечается, что привычный гендерный порядок и обосновывающая его идеология перестали соответствовать изменившимся социально- экономическим условиям; феминизация школы и вообще всей образовательной системы - одна из сложнейших мировых проблем, которая не имеет на сегодняшний день ни теоретического, ни практического решения. Высказывается суждение об оживленно дебатирующемся вопросе о плюсах и минусах совместного (разнополого) и раздельного (однополого) обучения: задача гендерной педагогики - помощь школе в подготовке мальчиков и девочек к жизни в современном мире.
Гендер, гендерная педагогика, гендерное образование, гендерные различия, гендерные роли
Короткий адрес: https://sciup.org/14821524
IDR: 14821524
Текст научной статьи Кризис бесполой педагогики
Советская педагогика и психология были принципиально бесполыми. Даже такие выдающиеся психологи, как Л.И. Божович и Д.Б. Эльконин, не обсуждали и не принимали всерьез различий между мальчиками и девочками. Теоретическая бесполость не мешала распространению в обыденном сознании самого примитивного сексизма, который еще больше расцвел после крушения советской власти.
В современном мире развертывается глубокая гендерная революция. Привычный гендерный порядок и обосновывающая его идеология перестали соответствовать изменившимся социально-экономическим условиям. По всем трем главным макросоциальным осям – общественное разделение труда, политическая власть и гендерная сегрегация – позиционные, социальноролевые различия между мужчинами и женщинами резко уменьшились в пользу женщин. В доиндустри-альном и индустриальном обществе «война полов» шла на индивидуальном уровне, но социальные рамки этого соперничества были жестко фиксированы. Мужчины и женщины должны были «покорять» и «завоевывать» друг друга, используя для этого веками отработанные гендерно-специфические приемы и методы, но сравнительно редко конкурировали друг с другом на макросоциальном уровне. Соперником мужчины был другой мужчина, а соперницей женщины – другая женщина. Сегодня в широком спектре общественных отношений и деятельностей мужчины и женщины открыто конкурируют друг с другом. Патриархальносентиментальному сознанию этот факт кажется ужасным, но не забудем, что конкуренция – это форма сотрудничества, кооперации.
Изменения в содержании и структуре гендерных ролей преломляются в социокультурных стереотипах маскулинности и фемининности, представлениях мужчин и женщин друг о друге и о самих себе. Хотя массовому сознанию нормативные мужские и женские свойства часто по-прежнему кажутся альтернативными и взаимодополнительными, принцип «или/или» уже не является безраздельно господствующим. Многие социально значимые черты и свойства личности считаются гендерно-нейтральными или допускающими существенные социально-групповые и индивидуальные вариации. Хотя биологические половые различия не исчезают, в мире происходит процесс ослабления гендерной поляризации, облегчающий людям реализацию их индивидуальных свойств и особенностей.
Эти макросоциальные процессы проявляются и в системе образования. Если не во всех, то в подавляющем большинстве древних обществ мальчиков и девочек готовили к разным видам деятельности. Ген- дерные роли и различия старались закреплять с раннего детства, а индивидуальные вариации и нарушения гендерного порядка подавляли и искореняли. Там, где трудовая и общественная деятельность была исключительно мужской прерогативой, внесемейное обучение существовало только для мальчиков. Школа также первоначально была исключительно мужским институтом. Традиционное воспитание было раздельным не потому, что этого требовали неодинаковые способности мальчиков и девочек, а потому, что оно обслуживало гендерный порядок, основанный на жестком разделении труда между мужчинами и женщинами. Ослабление и ломка этого порядка закономерно вызвали к жизни новый тип школы, который, в свою очередь, порождает новые проблемы и трудности.
Споры о том, кому – мальчикам или девочкам — благоприятствует современная школа, социологически и психологически некорректны, в них не уточнены ни сферы и критерии благоприятствования (учебная успеваемость, общение, субъективное благополучие), ни субъекты, с позиций которых производится оценка. Вопреки мнению ряда психологов и социологов, современная школа сознательно не благоприятствует ни девочкам, ни мальчикам. Хотя по академической успеваемости девочки везде и всюду заметно опережают мальчиков, это происходит не за счет мальчиков, учебные показатели которых в большинстве развитых стран (но, к сожалению, не в России) также улучшаются, а просто потому, что девочки учатся лучше. С каждым следующим поколением доля девочек с полным средним и университетским образованием становится выше, чем доля мальчиков. Тем не менее разница по гендерно-сензитивным предметам (математические и технические дисциплины, где мальчики традиционно опережают девочек, и язык и литература, где они традиционно сильно отстают) всюду сохраняется.
Гендерные различия в когнитивных процессах, способностях и склонностях в целом развиваются в направлении, предсказанном эволюционной психологией, но они а) значительно меньше, чем принято думать; б) существенно варьируют с возрастом; в) обусловлены не только природными факторами, но и формирующейся в процессе социализации направленностью интересов; г) имеют много индивидуальных вариаций. Наиболее заметные социально значимые различия между мальчиками и девочками наблюдаются не в трудноопределимых «способностях» и «задатках», а в направленности интересов и предпочитаемых занятий, которые сильно зависят от господствующих гендерных стереотипов. Ослабление поляризации деятельности мальчиков и девочек облегчает проявление индивидуальных особенностей ребенка независимо от его гендерной принадлежности. Тем не менее гендерные стереотипы сильно влияют на учебную мотивацию и направленность интересов, а через них – на будущую профессиональную судьбу ребенка. При этом особенно важны социально-психологические факторы.
Отставание от девочек по учебной успеваемости подрывает привычный образ мужского превосходства, затрагивает болезненное самолюбие мальчиков и отвращает некоторых из них от школы, толкая на путь девиантного и противоправного поведения. Эти проблемы тесно связаны с социально-структурными и этнокультурными различиями. Для мальчиков главный, стержневой процесс их школьной жизни — выстраивание маскулинности, у многих из них, особенно выходцев из менее образованных слоев, учеба занимает подчиненное место, а старательность считается отрицательным качеством. С этим связаны и более критическое, чем у девочек, отношение к школе и учителям, большое количество дисциплинарных конфликтов и т.п.
Одна из сложнейших мировых проблем, не имеющая ни теоретического, ни практического решения, – феминизация школы и вообще всей образовательной системы. Воспитание и обучение мальчиков всегда и всюду считались исключительно мужскими занятиями, эта установка имеет как биологоэволюционные, так и социокультурные (гендерное разделение труда) предпосылки. Нормативный «Мужчина с Большой Буквы» – не только Воин, но и Пророк, Наставник, Учитель. Социальная потребность общества в мужчине-воспитателе материализуется в психологической потребности взрослого мужчины быть наставником, духовным гуру, вождем или мастером, передающим свой жизненный опыт следующим поколениям мальчиков. В традиционных обществах эти отношения, так или иначе, институционализировались, имели свою законную и даже сакральную нишу. В современные формально-бюрократические образовательные институты они не вписываются. Попытки вернуть в школу мужчину-учителя блокируются а) низкой оплатой педагогического труда, с которой мужчина не может согласиться (для женщин эта роль традиционна и потому хотя бы не унизительна); б) гендерными стереотипами и идеологической подозрительностью: «Чего ради этот человек занимается немужской работой? Не научит ли он наших детей плохому?»; в) родительской ревностью: «Почему чужой мужчина значит для моего ребенка больше, чем я?»; г) сексофобией и гомофобией, благодаря которым интерес мужчины к детям автоматически вызывает подозрения в педофилии или гомосексуальности. Хотя директора школ говорят, что в мужчинах нуждаются, они им одновременно не доверяют, единственная востребованная ролевая модель – молодой «мачо». Все это существенно осложняет воспитание мальчиков.
Не имеет однозначного решения и оживленно дебатирующийся вопрос о плюсах и минусах совместного (разнополого) и раздельного (однополого) обучения. Люди, которые одинаково плохо знакомы с психологией и историей образования, считают решающим доводом в пользу раздельного обучения различие мужских и женских способностей. Оставляя в стороне крайнюю сложность самой проблемы способностей, ни одна система образования в мире никогда не строилась на этом основании. Все спонтанные, «естественные» сообщества и группировки детей от 4 —5 до 14 —16 лет, а то и позже, бывают, как правило, однополыми; общества и культуры лишь закрепляли и легитимировали спонтанную сегрегацию. Что же касается школы как института, то первоначально она была создана исключительно для мальчиков, чтобы подго- товить их к внесемейной деятельности, к которой девочки не допускались. Внесемейное женское образование – продукт Нового времени. Выравнивание содержания мужского и женского образования, а затем и совместное обучение стали возможны лишь после того, как женщины получили доступ к традиционно мужским профессиям и достигли в них немалых успехов. Совместное обучение расширяет диапазон общения и совместной деятельности мальчиков и девочек, сближает их интересы, способствует гендерному равенству и облегчает индивидуальный выбор занятий безотносительно к гендерным стереотипам. В то же время оно противоречит тенденции спонтанной сегрегации мальчиков и девочек, осложняет работу учителей и создает психологические трудности в освоении детьми некоторых гендерно-сензитивных предметов. Выходом из этого положения может быть проведение раздельных уроков по этим предметам, чтобы мальчики и девочки могли состязаться в своей среде, не смущаясь присутствием представителей другого пола (как это издавна делают на уроках физкультуры). Создавать ради этого отдельные мужские и женские школы или постоянные однополые классы в рамках совместной школы представляется нецелесообразным, социальнопедагогические издержки (закрепление гендерных стереотипов, усиление буллинга и дисциплинарных проблем в мужских школах и т.п.) окажутся больше приобретений. В обществе, где мужчины и женщины живут и работают на равных, школьная сегрегация мальчиков и девочек может усилить трудности их взрослой социально-психологической адаптации друг к другу в семье и на рынке труда. Характерно, что по результатам общенационального опроса Фонда «Общественное мнение» в 2008 г. в пользу раздельного обучения высказались лишь 9% опрошенных. 76% россиян убеждены, что лучше, когда мальчики и девочки учатся вместе, а 15% не имеют на этот счет определенного мнения. Ослабление поляризации мужского и женского начал в общественном разделении труда — не результат совместного обучения, а одна из его социальных предпосылок. Как бы мы ни рассаживали мальчиков и девочек по классам и партам, ни на структуре семьи, ни на рождаемости, ни на боеспособности вооруженных сил это не скажется. Тем не менее гендерными различиями в школе и классе пренебрегать не следует.
Практически все проблемы российской гендерной педагогики – мировые, они существуют и в других странах. Но если там об этих проблемах думают, спорят и что-то улучшают, то в России их часто либо замалчивают, либо отрицают, либо приписывают глобальным процессам частные, локальные причины (это называется – найти конкретного виновника), либо объявляют все, вызывающее тревогу, влиянием «растленного Запада». Вместо того чтобы ориентироваться в сложном и динамичном современном мире, многие российские политики и идеологи, включая педагогов, мечтают о возвращении в идеализированное воображаемое прошлое. При этом само понятие гендерной педагогики превращается в собственную противоположность; термин «гендер», введенный в науку для того, чтобы отграничить социокультурные аспекты взаимо- отношений мужчин и женщин от природных, отождествляется с биологическим полом, а «природосообраз-ность» и «признание личностного равноправия мальчиков и девочек» превращаются в апологию «наиболее полной реализации способностей учащихся как представителей своего пола». По словам одного директора школы, «мужчина и женщина – это два разных мира. У них по природе разные задачи и назначение. Предназначение мужчины – быть воином, охотником, с точки зрения сегодняшнего дня – хорошим, заботливым отцом. Предназначение женщины – быть матерью».
Увы, если Господь в самом деле предназначил Адаму быть воином и убийцей созданных Им животных, то в Писании об этом почему-то не сказано. О том, что воины – самые заботливые отцы, я тоже ни- чего не слышал; боюсь, что у них нет на это времени, к тому же они рано уходят из жизни – работа у них такая. Возродить в России домостроевский канон жизни невозможно по социально-экономическим причинам. Во-первых, страна не может обойтись без участия женщин в общественном производстве, а это автоматически меняет структуру гендерных ролей. Во-вторых, российская семья не может – и не захочет – существовать на одну мужнюю зарплату. В-третьих, эмансипация российских женщин, включая уровень их образования, зашла слишком далеко, чтобы их можно было вернуть к системе «трех К» (Kinder, Küche und Kirche). Задача гендерной педагогики – не плакать по прошедшим временам, а помогать школе готовить мальчиков и девочек к жизни в современном мире.