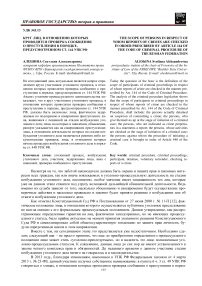Круг лиц, в отношении которых проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ
Автор: Алешина Светлана Александровна
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность
Статья в выпуске: 4 (42), 2015 года.
Бесплатный доступ
На сегодняшний день актуальным является вопрос определения круга участников уголовного процесса, в отношении которых проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ. Анализ уголовно-процессуального законодательства показывает, что в круг участников уголовного процесса, в отношении которых проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, должны быть включены: лица, фактически задержанные по подозрению в совершении преступления; лица, явившиеся с повинной на стадии возбуждения уголовного дела; лица, на которых в заявлении, объяснении, рапорте указывается как на совершивших преступление; лица, в отношении деятельности которых на стадии возбуждения уголовного дела назначается ревизия либо документальная проверка; лица, в отношении которых начата процедура возбуждения уголовного дела в порядке ст. 448 УПК РФ.
Уголовный процесс, возбуждение уголовного дела, участник, задержанное лицо, явка с повинной, проверка сообщения о преступлении
Короткий адрес: https://sciup.org/142233765
IDR: 142233765 | УДК: 343.13
Текст научной статьи Круг лиц, в отношении которых проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ
Несмотря на то, что заботой законодателя должна быть охрана и защита прав и законных интересов всех граждан, так или иначе вовлекаемых в уголовно-процессуальную деятельность на стадии возбуждения уголовного дела, несомненно, особое значение имеет защищенность тех лиц, которые уже на данном этапе ставятся под угрозу возможной дальнейшей обвинительной деятельности. Ведь именно их судьба зависит от того, насколько обоснованно и своевременно будут осуществлены проверочные действия и насколько правильно и законно будет принято решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.
Как отметил Конституционный Суд РФ в Постановлении от 27 июня 2000 г. № 11-П [12], фактическое положение лица, в отношении которого осуществляется публичное уголовное преследование не всегда связано с его формальным процессуальным положением. Данное утверждение, как распространяющее определенные гарантии на лиц, фактически заподозренных, но не имеющих процессуального статуса, было крайне актуально на момент принятия указанного решения Конституционного Суда РФ и символизировало собой общегосударственную тенденцию по защите прав личности, будучи определенным шагом в этом направлении.
Вместе с тем, на сегодняшнем этапе это представляется уже недостаточным. Необходимо сделать следующий шаг – не просто признать, что еще до приобретения определенного процессуального положения лицо может стать «уголовно-преследуемым», но и наделить это лицо полноценным уголовно-процессуальным статусом. К сожалению, данные лица до сих пор не имеют установленного в законе четкого комплекса прав и обязанностей. До недавнего времени о данном участнике стадии возбуждения уголовного дела ничего не говорилось и в законодательстве.
В 2013 году, благодаря изменениям, внесенным в УПК РФ Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ, данный участник получил собственное наименование: в пункте 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ говориться о «лицах, в отношении которых проводится проверка сообщения о преступлении в поряд- 135

ке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ. Однако вопрос о том, какое лицо и с какого момента может наделяться данным статусом остался не решенным.
Пытаясь разрешить данную проблему, Ю.В. Деришев и Е.И. Земляницын, исходя из того «фактически лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, и подозреваемый – одно и то же лицо», что, по их мнению, следует из ч. 1 ст. 49 и ст. 51 УПК РФ, предусматривающих наличие права на защиту только у подозреваемого и обвиняемого, приходят к выводу о целесообразности распространения статуса подозреваемого и на стадию возбуждения уголовного дела. Для этого указанные авторы предлагают установить в ст. 46 УПК РФ следующее определение подозреваемого - «Подозреваемым лицо считается с момента осуществления фактических действий, направленных на его изобличение в совершении преступления до момента предъявления обвинения в установленном законом порядке», а также ввести акт уведомления о начале уголовного преследования, с вынесением которого лицо ставилось бы в статус подозреваемого [5, с. 98].
Вряд ли такой подход можно признать бесспорным. На наш взгляд, невозможность введения фигуры подозреваемого вытекает и из самой уголовно-процессуальной логики – невозможно подозревать лицо в чем-то, что еще не определено. Иначе говоря, нельзя считать, что лицо причастно к совершению преступления тогда, когда еще отсутствуют знания о самом преступлении. Сначала необходимо установить признаки преступления (а это и есть основание для немедленного возбуждения уголовного дела), а лишь затем констатировать подозрение в его совершении конкретного лица.
Учитывая это, попытаемся определить те моменты с которыми следует связывать появление в уголовном процессе такого участника как лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ. Очевидно, что появление этого лица связывается не с вынесением специального «статусо-наделяющего» процессуального акта, а с определенными юридическими фактами.
Во-первых, сюда следует отнести лицо, фактически задержанное по подозрению в совершении преступления.
В силу взаимосвязанных положений норм, предусмотренных п. 11, 15 ст. 5, ст. 46, 144 УПК РФ и других, уголовно-процессуальное задержание – не одномоментное действие, а целый ряд последовательно сменяющих друг друга действий образующих комплексный институт. На сегодняшний день практически устоявшимся является такое толкование уголовно-процессуального законодательства, при котором начало уголовно-процессуального задержания, или иначе – «фактический захват», возможно уже на этапе проверки сообщения о преступлении, тогда как окончание задержания – процессуальное решение с составлением соответствующего протокола – лишь после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела.
Таким образом, фактическое лишение лица свободы передвижения, обусловленное возникшим в отношении него подозрением в причастности к совершению (подготовке) преступления, и фиксация данного лишения свободы в качестве уголовно-процессуального задержания могут иметь место на двух разных стадиях уголовного судопроизводства: первое на стадии возбуждения уголовного дела, второе – на стадии предварительного расследования. Причем придание процессуального статуса «подозреваемого» происходит, в силу требований УПК РФ, лишь в конце – вместе с составлением протокола о задержании и всегда после возбуждения уголовного дела. Таким образом, такой участник как «подозреваемый» на стадии возбуждения уголовного дела отсутствует. С данным выводом соглашаются многие ученые, в частности, Ю.К. Якимович, А.А. Козлова [16, с. 110-111; 7, с. 106] и др.
Правда, некоторые ученые придерживаются иной точки зрения. Так, например, А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский считают, что при задержании по основаниям, указанным в ст. 91 УПК, подозреваемый появляется не в момент составления соответствующего протокола, а уже с момента фактического задержания, которое может иметь место и до возбуждения уголовного дела [14, с. 129]. Аналогичного подхода придерживаются Х.В. Бопхоев, И.В. Круглов, В.Ю. Мельников [3, с. 3; 10, с. 16] и др.
Нам же представляется, что закон не дает оснований для подобных выводов. Пункт 2 части 1 ст. 46 УПК РФ прямо предусматривает, что подозреваемым является то лицо, которое задержано не только в соответствии со статьей 91 УПК РФ, определяющей основания для задержания, но и в соответствии со статей 92 УПК РФ, закрепляющей обязанность составления протокола. Ссылка в данном пункте на ст. 92 УПК РФ и определяет момент приобретения задержанного лица статуса подозреваемого – момент составления протокола.
Основания для фактического захвата лица и для возбуждения уголовного дела различны, поэтому первое не всегда в обязательном порядке повлечет за собой второе. Например, после «захвата»
лица может выясниться, что оно не достигло возраста уголовной ответственности. В этом случае, возбуждение уголовного дела и составление протокола об уголовно-процессуальном задержании будет не только нецелесообразным, но и незаконным, поскольку после этого подозреваемым станет лицо, не подлежащее уголовной ответственности.
Возможна и ситуация при которой ошибочным будет сам «захват». Так, согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, право на задержание лица, совершившего преступление, имеют не только уполномоченные на то представители власти, но и иные лица, в том числе пострадавшие от преступления, или ставшие его непосредственными очевидцами, или лица, которым стало достоверно известно о его совершении [13].
В то же время, Пленум Верховного Суда РФ не отрицает той возможности, когда оценка задерживающими лицами сложившейся ситуации будет ошибочной. Так, в силу его разъяснений, если при задержании, лицо добросовестно заблуждалось относительно характера совершенного задержанным лицом противоправного деяния, приняв за преступление административное правонарушение или деяние лица, не достигшего возраста уголовной ответственности, либо лица в состоянии невменяемости, в тех случаях, когда обстановка давала основания полагать, что совершалось преступление, и лицо, осуществлявшее задержание, не осознавало и не могло осознавать действительный характер совершавшегося деяния, его действия следует оценивать по правилам ст. 38 УК РФ, в том числе и о допустимых пределах причинения вреда.
Таким образом, придание уголовно-процессуального статуса всякому, кто был фактически захвачен по подозрению в его причастности к преступлению, не может быть признано законным. Такой статус лицу может быть придан только после того, как будут установлены: во-первых, признаки преступления, и, во-вторых, признаки его причастности к этому преступлению. Но установление признаков преступления есть достаточное и необходимое основание для возбуждения уголовного дела, а наличие последнего есть необходимое условие для появления подозреваемого.
Отсюда получается, что последовательность действий, заключающихся соответственно в захвате, затем в возбуждении уголовного дела и только после этого в составлении протокола задержания, которым лицу придается уголовно-процессуальный статус подозреваемого, обусловлена практической необходимостью и является гарантией от незаконного и преждевременного привлечения лиц в качестве официального участника уголовного процесса против которого ведется изобличительная деятельность.
Таким образом, фактическое задержание следует рассматривать не как основание для придания лицу особого статуса, подчеркивающего его состояние как лишенного свободы, а как основание для придания ему общего статуса «лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ».
Во-вторых, к лицам, в отношении которых осуществляется проверочная деятельность следует отнести граждан, явившихся с повинной.
Явка с повинной - традиционный институт уголовно-процессуального права, который чаще всего этот институт в науке рассматривается через призму либо повода к возбуждению уголовного дела [11, с. 19-20] либо элемента доказательственного права [6, с. 38-41; 9, с. 170-172]. Исследуется явка с повинной, также с точки зрения составляющей части основания освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием [1, с. 137-142], как обстоятельство, смягчающее наказание [15, с. 211-213] и как обстоятельство, определяющее момент возобновления течения срока давности после его приостановления [8; с. 65].
С точки зрения же темы нашей статьи, явка с повинной должна быть рассмотрена, прежде всего, как начало, момент, когда появляется лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, и как основание для обеспечения защиты данного лица на первоначальной стадии уголовного процесса.
Б.Б. Багаутдинов же полагает, что процессуальный статус лица явившегося с повинной и лица, в отношении которого производится предварительная проверка, является практическим одинаковым, за исключением того, что явившееся с повинной, «приобрело» данный статус добровольно, приняв осознанное и волевое решение сообщить о факте совершенного им преступления [2; с.182].
Действительно, в случае явки с повинной лицо добровольно желает, чтобы в отношении него была осуществлена проверка его сообщения о преступлении уголовно-процессуальными средствами. Однако, мы не можем согласиться с Б.Б. Багаутдиновым в том, что данное обстоятельство определяет различие в их процессуальных статусах, поскольку последние заключаются в определенном наборе

процессуальных прав и обязанностей, которые у данных лиц должны быть одинаковыми. Отличие имеется лишь в добровольности получения данного статуса.
В-третьих, в качестве основания придания лицу статуса участника, в отношении которого про- водится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, следует рассматривать указание на конкретное лицо, как на совершившее преступление в заявлении, объяснении, рапорте.
Согласно данным, полученным нами в ходе изучения уголовных дел, указание на конкретное лицо, как на совершившее преступление содержалось в 65% всех сообщений о преступлениях. При этом, впоследствии в 98% случаев именно этому лицу было предъявлено обвинение. Данная статистика убедительно показывает, что такие лица нуждаются в гарантиях защиты своих прав и законных интересов еще на стадии возбуждения уголовного дела.
В четвертых, к лицам, в отношении которых проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, следует отнести и тех граждан, в отношении деятельности которых на стадии возбуждения уголовного дела назначается и проводится ревизия либо документальная проверка в отношении деятельности конкретного лица. Как отмечает Л.Г. Демурчев, проведение ревизии и документальных проверок как способ собирания доказательств в стадии возбуждения уголовного дела во многом по целям, задачам и порядку проведения похож на проведение судебно-экономической экспертизы в стадии предварительного расследования [4; с. 221].
В-пятых, гарантиями прав лиц, в отношении которых проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, должны наделяться и должностные лица, в отношении которых начата процедура возбуждения уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 448 УПК РФ.
Итак, анализ уголовно-процессуального законодательства показывает, что в круг участников уголовного процесса, в отношении которых проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, должны быть включены: лица, фактически задержанные по подозрению в совершении преступления; лица, явившиеся с повинной на стадии возбуждения уголовного дела; лица, на которых в заявлении, объяснении, рапорте указывается как на совершивших преступление; лица, в отношении деятельности которых на стадии возбуждения уголовного дела назначается ревизия либо документальная проверка; лица, в отношении которых начата процедура возбуждения уголовного дела в порядке ст. 448 УПК РФ.
Список литературы Круг лиц, в отношении которых проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ
- Алещенко С.В. К вопросу о соотношении понятий «явка с повинной» и «добровольное сообщение о совершении преступления». Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 2006. № 8. С. 137-142.
- EDN: KHOIOV
- Багаутдинов Б.Б. Современные проблемы правового регулирования уголовно-процессуальной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела: дис.. канд. юрид. наук. Волгоград, 2008. 242 с.
- Бопхоев Х.В., Круглов И.В. Фактическое задержание и доставление лица, задержанного по подозрению в совершении преступления. Российский следователь. 2005.№ 5. С. 2-5.
- EDN: PFTHCB
- Демурчев Л.Г. Проведение ревизий, документальных проверок и исследований в стадии возбуждения уголовного дела. Теория и практика общественного развития. 2011. № 4. С. 220-223.
- EDN: OYKHUJ
- Деришев Ю.В., Земляницин Е.И. Процессуальное положение лица, в отношении которого проводится предварительная проверка сообщения о преступлении. Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. № 3 (29). С. 95-100.
- EDN: SXVDSV