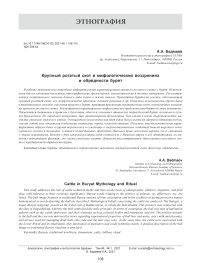Крупный рогатый скот в мифологических воззрениях и обрядности бурят
Автор: Бадмаев А.А.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 1 т.49, 2021 года.
Бесплатный доступ
В работе представлена подробная мифоритуальная характеристика крупного рогатого скота у бурят. Источниками для исследования послужили этнографические, фольклорные, лингвистические и полевые материалы. Рассматривается хозяйственное значение данного вида скота в жизни этноса. Приводится бурятская лексика, обозначающая крупный рогатый скот, его морфологические признаки, половые различия и др. Показаны включенность образа быка в традиционные способы счисления времени у бурят, традиция присвоения охранительных имен, омонимичных названиям крупного рогатого скота. Анализируются традиционные мифологические представления бурят об этих животных. Отмечается бытование в прошлом у булагатов, одного из основных этнических подразделений бурят, племенного культа Буха-нойона. По народным воззрениям, бык символизировал Буха-нойона, был связан с идеей оборотничества, выступал символом мужского начала. Освещается космогоническая идея связи быка с разными сферами обитания (небом, землей, водой) и их объектами (небесными светилами, горой), огненной стихией. Показано, что положительная характеристика образов быка и коровы выражалась в суждениях о сверхъестественных свойствах бычьей шерсти и мочи, коровьего молока и плаценты, а также хозяйственных предметов (бычьего ярма, волосяной веревки зэлэ), связанных с этими животными. Вместе с тем крупный рогатый скот соотносили с Нижним миром и его обитателями, он выполнял медиативную функцию, мог нести символику смерти. Детально рассматривается образ крупного рогатого скота в традиционной обрядности бурят.
Буряты, традиционное мировоззрение, шаманизм, крупный рогатый скот, фольклор, обрядность
Короткий адрес: https://sciup.org/145146237
IDR: 145146237 | УДК: 398.54
Текст научной статьи Крупный рогатый скот в мифологических воззрениях и обрядности бурят
Доместикация крупного рогатого скота в Забайкалье началась в период позднего неолита. В эпоху энеолита со становлением производящего хозяйства скотоводство распространяется на самых северных территориях лесостепной зоны субрегиона, о чем свидетельствуют находки с поселений Харга I, Дворцы и из Фофановского могильника (мог. № 20) [Цы-биктаров, 1999, с. 73, 94]. К началу эпохи поздней бронзы скотоводство становится основной отраслью в хозяйственной деятельно сти населения степной зоны Забайкалья. В дальнейшем традиция разведения крупного рогатого скота проникла в Предбайкалье и Прибайкалье, в Юго-Восточной Сибири она сохраняется вплоть до этнографической современности.
Роль этого скота в хозяйственной жизни аборигенов региона всегда была значительной. Это нашло отражение в традиционном мировоззрении и ритуальной практике бурят. В настоящее время мифологические представления и обрядность существуют в культуре бурят в редуцированном виде, что делает актуальной реконструкцию традиционных знаний, например, о взаимодействии человека с животным миром, ярким представителем которого является крупный рогатый скот. Образы быка и коровы пока не были объектом специального изучения в бурятской этнографии. В публикуемом исследовании анализируются образы крупного рогатого скота в традиционной культуре бурят. В работе дается общая характеристика сложившихся у них представлений о быке и корове, выявляется комплекс традиционных представлений об этих животных, определяется роль крупного рогатого скота в бурятской обрядности. Источни-ковую базу составили этнографические, фольклорные, лингвистические и полевые материалы, в частности этнографо-фольклорные данные, полученные С.П. Балдаевым, П.П. Баторовым, Н.С. Болдоновым, Г.М. Осокиным, Я.С. Смолевым, М.Н. Хангаловым, П.П. Хороших. Исследование проведено на основе структурно-семиотического метода.
Общая характеристика представлений бурят о крупном рогатом скоте
В скотоводческой экономике бурят важное место занимало разведение коров и быков. Традиционной для бурят была аборигенная (мясомолочная) порода крупного рогатого скота пастбищного содержания, отличавшаяся низкорослостью. При невысокой удойности от коровы этой породы получали молоко повышенной жирности, а при ее забое – много мяса и сала. Благодаря содержанию быков и коров в основном обеспечивались потребности населения не только в мясе и мо- локе, но и в сырье для изготовления одежды, обуви, конского снаряжения, утвари и т.д. Продажа на рынке живого скота и выделанных шкур коров и овец была важным источником доходов семьи. Волов обычно использовали как гужевой транспорт; до XIX в. буряты перевозили грузы на повозке с двумя высокими колесами на неподвижной оси – yхэр тэргэ ‘бычья телега, арба’, позднее – на заимствованной у русских крестьянской четырехколесной телеге [Бадмаев, 1997, с. 86]. В качестве ездового животного крупный рогатый скот не использовался.
Традиционным топливом у бурят был аргал ‘сухой помет крупного рогатого скота’. Его даже предпочитали дровам: считалось, что выделяемый при его сжигании дым обладает асептическим свойством и очищает помещение (ПМА). Коровьим навозом буряты, чтобы получать высокий травостой, удобряли утуг ( yтэг ‘искусственный покос’). Размельченный аргал служил теплой подстилкой роженице и скоту при его стойловом содержании. Свежий коровий помет использовался в качестве шпаклевочного материала при строительстве срубных юрт и хозяйственных построек. Несомненно, важное значение этих крупных копытных в хозяйственной жизни этноса нашло отражение в его мифологических суждениях.
По представлениям бурят, благополучной была семья, имевшая собственное домашнее стадо. Соответственно, богатые семьи скотоводов выделялись в бурятском традиционном обществе очень высоким статусом. Такая ментальная установка прослеживается в эпических произведениях, в них герои-богатыри предстают как владельцы бесчисленных стад скота.
В бурятском языке имеются общие наименования домашнего рогатого скота – мал ‘рогатый скот’ и эбэр hyyлтэн ‘с рогами и хвостом’ [Буряад-ород толи…, 2010, т. II, с. 645]; последняя номинация отражает основные морфологические признаки рогатого скота: эбэр ‘рог’; hyyл ‘хвост’. Архаичное значение словосочетания эбэр hyyлтэн ‘знатные люди рода’ указывает на то, что основным богатством бурята-номада, помимо лошадей, был домашний скот – коровы, козы и овцы.
В лексике бурят имеются слова, которые передают различия животных по полу – буха ‘бык-пороз’ и yнеэн ‘корова’. Другие значения слова буха – «могучий, огромный» [Буряад-ород толи…, 2010, т. I, с. 160] – следует рассматривать как эпитеты быка; они показывают, что у бурят это животное ассоциировалось с большой физической силой. В бурятском языке имеется родовое название крупного рогатого скота – yхэр мал . Слово ухэр употребляли в узком значении – «корова, вол, кастрированный бык» [Буряад-ород толи…, 2010, т. II, с. 358].
Буряты особенно ценили такие качества местной породы крупного рогатого скота, как сила, бесстрашие (когда нападали волки, коровы обычно защищали те- лят), стойкость к невзгодам, неприхотливость. В бурятской лексике чрезмерное упрямство передается как характерная черта этих животных: Yхэрэй шэхэндэ уhашье шудха, тоhошье шудха – сэсэншье болохогyй, тэнэгшье болохогyй ‘Хоть воду, хоть масло лей в уши скотины – все равно она не станет ни мудрой, ни глупой’ [Там же]. С образом быка связывали неуклюжесть, неловкость в движениях: Yхэр жороо ‘бычья иноходь’ [Там же].
В загадках акцент делается на наличие у скота рогов и ушей: Урайhан дyрбэн хyн ерээ, хоёрын дахатай, хоёрын дахаугэй ‘С юга четыре человека пришли, двое из них в шубах, двое без шуб (два рога коровы, два уха)’ [Фольклор…, 1999, с. 118, 120]; Урдаhаа дyрбэн хyн ерэбэ: хоёрынь дуутай, хоёрынь дуугyй нюсэгэ-эн ‘С юга пришло четверо, и при них две с голосами и две без голоса и голые (скотина, ее уши и рога)’ [Болдонов, 1949, с. 122–123]. Крупный рогатый скот отождествляется с иголкой (очевидно, это указание на наличие у него рогов) и сердцем: Хyхэ yхэр дyрэеэ шэрээ ‘Сивый бык тащит свою веревку’ (иголка с ниткой) [Фольклор…, 1999, с. 118, 121]; Улаахан буруу сагаан больторготой ‘Красненький теленок с белым ошейником’ (сердце) [Болдонов, 1949, с. 124–125].
Язык бурят включает слова, которые обозначают различные звуки, издаваемые крупным рогатым скотом: зоходоон ‘пронзительное, протяжное мычание (быка)’, моороон ‘мычание (коров и телят)’.
Важное хозяйственное и символическое значение крупного рогатого скота получило отражение в народном календаре. Буряты придерживались 12-летнего цикла, каждый год которого соответствовал определенному животному – знаку зодиака; в нем был yхэр жэл ‘год быка/вола’. В их календаре, учитывающем смену фаз луны, выделяли yхэр hара ‘месяц быка/ вола’, в сутках – yхэр саг ‘час быка/вола’ (отсюда в пространстве юрты, поделенном на 12 зон в соответствии со знаками зодиака, вычленяли отдельную секцию под знаком быка).
У бурят было принято при совершении обряда имянаречения давать ребенку охранительные имена, омонимичные названиям крупного рогатого скота. Круг таких номинаций достаточно широк: Моорог-шоон ‘издающий мычание (бык)’, Боодээ ‘корова’, Буха ‘бык’, Буруу ( н ) ‘годовалый теленок’, Тугал ‘теленок’, Yнеэн ‘корова’; Yхэр , Hалбай ‘переставшая доиться корова’, Мухар ‘комолая корова’ [Митрош-кина, 1987, с. 60, 79–80].
Крупный рогатый скот в мифологических представлениях бурят
Этнографические материалы свидетельствуют о том, что у бурят существовал архаичный культ быка, свя- занный с почитанием Буха-нойона ‘Быка-господина’. Последний входил в число шаманских «тринадцати северных повелителей», особо чтимых основными этническими подразделениями бурят – булагатами, эхиритами, хонгодарами и хори-бурятами. Этот мифический персонаж присутствует в генеалогическом предании булагатов; как гласит легенда, их предок был вскормлен божественным животным: «Мальчика назвали Булагатом (в яме пороза найденный Булагат)» [Балдаев, 2009, с. 40].
Буряты полагали, что крупный рогатый скот может быть проводником воли небожителей. Об этом говорится в одном из поверий: «В верховьях долины Мурина они (буряты) напали на следы коровы и пороза. Следуя по следам, они пришли в долину реки Бугульдейки, где нашли их. Хэрээ со своими сородичами счел это за особое указание тэнгринов ( тэнгэри ‘небожитель’. – А.Б. )» [Там же, с. 56]. Эта функция крупного рогатого скота зафиксирована в обряде посвящения животного мифическому духу-хозяину или божеству: через специально отобранного быка (или коня) выяснялась воля высшего существа, его благосклонность к локальной этнической общности.
По воззрениям бурят, бык символизировал мифического прародителя булагатов Буха-нойона, поэтому сон, в котором человек видел себя едущим верхом на быке, воспринимался как хороший знак [Хангалов, 1958, т. I, с. 395].
С Буха-нойоном связывалась также идея обо-ротничества: изначально этот персонаж выступал в человечьем обличье, но, когда его за ногу укусила желтая собака Гураб шара, науськанная дочерью Тайжи-хана, он «опоганился, стал нечистым, поэтому потерял способность снова стать человеком» [Балдаев, 2009, с. 330]. Отметим, что в шаманской поэзии бурят встречаются сюжеты превращения шамана в быка для мистической схватки с другим шаманом. Но в традиции бурят бык, в отличие от коня, орла и некоторых других животных, не являлся духом-помощником, ездовым животным в путешествиях шамана в иные миры.
Образ быка у бурят был символом мужского начала, большой физической силы. Неслучайно с этим животным ассоциировалась воинская доблесть. Так, в эпике бурят схватка богатырей обычно сравнивается с боем быков:
С мангадхаем он кружился… Кружатся друг за другом, Косятся друг на друга, Как быки, готовые бодаться
[Шаракшинова, 2000, с. 152].
При описании борьбы эпических богатырей зачастую используются выражения «бычья шея» и «бычье горло», подчеркивающие их мощь:
У Шара Хасара богатыря и витязя Сердце затрепетало,
Тело вялым и сонным стало, Толстая шея его вот-вот согнется, Бычье горло его вот-вот оборвется…
[Гэсэр…, 1986, т. I, с. 57].
В традиционном мировоззрении бурят прослеживается космогоническая идея связи быка с разными сферами обитания и их объектами. Небесный символизм этого животного отражен в мифе о борьбе двух порозов, земных воплощений сыновей полярных сил неба – Бохо-Муя (почитаемого как Буха-нойон), сына западного небожителя Заяан-саган-тэнгэри, и Бохо-Тэли, сына восточного небожителя Хамхир-богдо. По мнению М.Н. Хангалова, синий пороз, в которого якобы превратился Бохо-Муя, олицетворяет дневное небо и связывается с солнцем, а пестрый бык, ипо стась Бохо-Тэли, символизирует ночное, звездное небо и другое светило – луну [1958, с. 322]. Само противоборство быков ассоциировалось с природным явлением – солнечным затмением [Там же, с. 323], при этом победа Буха-нойона над противником воспринималась как триумф светлых сил.
Мотив соотнесенности быка с землей прослеживается в фольклоре бурят, в частности, в загадке о снеге и земле: Сагаан yхэрын ябы гээ, хара yхэрын байеы гээ ‘Белый бык звал идти, черный бык просил остаться’ [Фольклор…, 1999, с. 117, 120]. Кроме того, образ этого животного отождествлялся с горой. Наиболее ярко эта идея была воплощена в образе Буха-нойона, который, как гласит легенда, обратился в двурогую гору у с. Торы в Тункинской долине [Потанин, 1883, с. 264]. В XVIII в. у такого шаманского камня булагаты проводили коллективные обряды жертвоприношения, обращаясь к Буха-нойону как высшему судье [Миллер, 2009, с. 171]. С этим мифическим персонажем связывали двурогую гору Yхэр Манхай ‘Бычья голова’ в долине р. Куды (Нижнее Приангарье), где было место племенного жертвоприношения булагатов после их вынужденной миграции из Тунки. Очевидно, что эти горные вершины выбраны в качестве сакрального места неслучайно – по форме они отдаленно напоминали бычью голову с рогами.
Образ быка – духа земли – довольно широко распространен в культуре народов Евразии. Например, в фольклоре алтайцев он представлен так:
Скакун крылатою спиной Припал к земле, и вмиг возник Хозяин – дух земли родной – Бык семилетний, красный бык
[Алтайские героические сказания, 1983, с. 233].
В одной из бурятских загадок образ лежащего быка ассоциируется с огненной стихией: Хyхэ yхэр хэбтэн таргалаа ‘Сивый бык лежа разжирел’ (зола) [Фольклор…, 1999, с. 117, 119].
Изменения в поведении крупного рогатого скота буряты воспринимали как сигнал о приближении ненастья. На основе наблюдений сложились народные приметы: «Скот уныло бродит по полю или забивается в деревья – к дождю и грозе»; «Коровы машут хвостами – к грозе»; «Коровы стоят весь день в кустах – к граду» [Осокин, 1906, с. 224–225]; «Если телята бегают, задрав хвосты, ожидается дождь» [Смо-лев, 1900, с. 30]. Представляется, что буряты, хотя и не напрямую, но связывали крупный рогатый скот с водной стихией. Вероятно, этим объясняется их практика использования коров в поиске грунтовых вод [Балдаев, 2010, с. 48–49]. В мифологическом сознании других монгольских народов также обнаруживаются суждения о принадлежности крупного рогатого скота к водной стихии; например у халха: «Халха верят, что в больших озерах, каковы Убса и Тиржин-цаган (из которого вытекает Чилоту), водится водяная корова, усунай аргамык, которая кричит по ночам» [Потанин, 1881, с. 98].
В эпике, сказках, шаманской поэзии и ритуале бурят придавалось особое значение символике масти животного. У предбайкальских бурят эта символика проявлялась в посвящении быков разной масти небожителям, относимым к противоположным лагерям: черным, восточным тэнгэриям предназначались быки красного окраса шерсти (вероятно, такой цвет – намек на «девять кровавых неб» – эпическое местообитание этих небожителей), а белым, западным – сивые быки [Хангалов, 1958, т. I, с. 294, 359]. В эпосе «Гэсэр» данный символизм показан на примере порозов глав западного и восточного небес:
Хана Хурмаса синевато-пестрый бык… Атая Улаана буровато-красный бык
[Гэсэр…, 1986, т. I, с. 45–46].
Следует отметить, что требования к масти быка-сэтэра ( сэтэр ( тэй ) ‘посвященное животное’) у разных групп бурят варьировали: у предбайкальских бурят в качестве сэтэра допускались любые двухгодовалые быки, за исключением пегой масти и без клейма [Баторов, Хороших, 1926, с. 59]; в обряде посвящения у современных присаянских бурят масти животного не предается никакого значения (ПМА), что обусловлено, скорее всего, частичной утратой традиции. Посвященный бык рассматривался как ездовое животное для божеств и апотропей для домашнего стада.
В сказочной прозе бурят цвет быка зачастую идентифицирует его с определенной сферой обитания. Например, в сказке «Тугал Масан» контрастные цвета противостоящих в схватке быков являются признаками их принадлежности к противоположным мирам: белые быки составляют войско небесного царя, а чер- ные – морского владыки Хара Лусан-хана [Бурятские волшебные сказки, 1993, с. 199].
Положительная коннотация быка и коровы проявлялась в представлениях о сверхъестественных свойствах шерсти и мочи быков, молока и плаценты коров, а также хозяйственных предметов, связанных с этими животными. Так, буряты верили, что шерсть быка обладает охранительной функцией. Согласно материалам М.Н. Хангалова, «укрыться душа может… в шерсти пороза, посвященного Буха-нойону» [1958, т. I, с. 396]. В данном случае важна персона Буха-нойона, который, как мифический покровитель, мог дать душе человека прибежище от нечистой силы.
По воззрениям бурят, молоко домашних животных, в т.ч. коровы, обладало святостью: оно входило в обрядовую «белую пищу», которой угощали гостей, являло сь жертвой богам и духам-хозяевам, включая мифических хозяев домашнего огня; его брызгали пролетающим священным птицам (орлу, лебедю и др.). Этот напиток соотносили с жизненным началом и плодоносной субстанцией, поэтому он был инкорпорирован в родильные и свадебные обряды. Белый цвет молока у бурят символизирует чистоту и безгрешность, связь с белыми западными небожителями, несет небесную семантику.
В суждениях бурят естественные выделения быка тоже могли наделяться сакральностью, в мифологизированном виде это проявилось в образе Буха-нойо-на, от мочи которого будто бы выросли пихтовый лес и можжевельник [Хангалов, 1958, т. I, с. 324] (в бурятской культуре пихта и можжевельник имеют сокровенное значение). Коровий послед ( хаг ) считался оберегом для коров, его вешали в юрте, в частности для того, чтобы они всегда находили дорогу домой [Баторов, Хороших, 1926, с. 59].
Стоит упомянуть, что у народов Центральной и Южной Азии коровье молоко и молочные продукты, а также экскременты крупного рогатого скота используются в разных целях. В индуизме выделяют панчагавья – пять полезных продуктов, получаемых от коровы, – молоко, творог, топленое масло, мочу и навоз, которые, кроме всего прочего, имеют религиозное и медицинское назначение [Krishna, 2010, p. 83]. Молоко и перечисленные молочные продукты индуисты принимали как прасад , ритуальную пищу, символ божественной благодати. Вероятно, как индийская традиция панчагавья , так и сходная с нею практика бурят, рассмотренная выше, берут начало в эпоху бронзы, когда в разных регионах Евразии получает распространение скотоводство.
Образ быка отождествлялся с плодовитостью; ее символом выступал такой предмет упряжи, как деревянное ярмо. С ним связано поверье: если женщина перешагнет через ярмо, то станет беременной. «Ныне буряты считают за большой грех, если девица или замужняя женщина перешагнет через ярмо телеги» [Хангалов, 1959, т. II, с. 124].
В народном сознании магическую защиту обеспечивала зэлэ – веревка из конского волоса, украшенная черными и белыми тесемками, к которой привязывали телят. Конь в суждениях бурят нес солнечную символику; его грива и хвост, из которых делали веревку, якобы предохраняли от нечистой силы и хтонических существ (например, змеи). Мифическим покровителем такой веревки называли хозяина «пестрой» тайги Зэрлик-нойона [Хангалов, 1958, т. I, с. 307]. Согласно материалам М.Н. Хангалова, хранителем такой волосяной веревки также считалась Зэлэшэ-хатун ‘Госпожа зэлэ’, которая будто бы покровительствовала еще и молочному хозяйству у бурят [Там же, с. 228].
Буряты верили, что крупный рогатый скот является проводником в потусторонний мир, поэтому у них сложились представления о его демонической сущности. Отметим, что слово yхэр производное от yхэхэ ‘умирать’ [Буряад-ород толи…, 2010, т. II, с. 359]. В этой связи следует упомянуть, что в шаманской поэтике среди «писарей» владыки загробного мира Эрлен-хана называется Yхэр хара ‘Бык/вол черный’ (хотя можно предположить и другое написание имени этого персонажа – Yхээр хара ‘Мертвец черный’). В шаманском фольклоре демоническое существо оро-олон ‘оборотень, упырь, вампир’ [Там же, с. 44] оборачивается в ночное время в прямоходящую безрогую и бесхвостую корову и нападает на одинокого путника. Принадлежность к Нижнему миру подчеркивалась наличием у персонажа бычьих черт. Так, Эрлен-хан описывался как существо с человеческим телом, но бычьей головой [Мифы…, 1980, с. 1123–1124]. По поверью, черный шаман Сом-Санан-нойон после смерти стал прислужником Эрлен-хана и приобрел новую внешность: «Он остался человеком, но у него на голове выросли рога, а на ногах выросли большие копыта» [Хангалов, 1959, т. II, с. 123]. Подобные представления зафиксированы и у других народов Южной Сибири и Центральной Азии. Например, на хакасском материале выявлена бычья символика владыки подземного мира Эрлик-хана и его слуг [Бурнаков, 2019, с. 16].
По воззрениям бурят, корова, как проводник в загробный мир, наделялась даром предвидения грядущей опасности. В народе говорили: «Если ночью будет мычать корова, то будут воры» [Смолев, 1900, с. 28]. Более того, она несла символику смерти, в этом убеждают такие народные приметы: «Если чрез повешенную на заборе шубу перескочит корова, то смерть тому, чья шуба»; «Если коровы бодались и заплелись рогами между собою – быть покойнику»; «Если корова бодает юрту, быть покойнице – хозяйке» [Там же, с. 27–28]. Как видим, эти приметы отражают атипичное поведение животного, которое более характерно для особи другого пола – быка. Повадки коровы, выходящие за рамки нормального поведения, рассматривались как дурной знак: «Плохо, когда корова ходит за быком или прыгает на него» [Нацов, 1995, с. 114].
Буряты относились с предубеждением к рождению у коровы сразу пары телят: «Если корова отелится двумя телятами – быть неблагополучию; чтобы избавиться от такового, надо одного теленка заколоть на месте, где сходятся две или три дороги (выделено нами. – А.Б. ), и тут зарыть» [Смолев, 1900, с. 28]. Очевидно, что один из новорожденных телят рассматривался как нечистое существо и подлежал умерщвлению. Обращает на себя внимание место захоронения такого животного – дорожная развилка. Дело в том, что, по воззрениям бурят, в ночное время по дороге перемещались грозные слуги Эрлен-хана – альбаны ( альбан ‘демон, злой дух’) или «три дорожные» (духи – посланцы владыки подземного мира), встреча с которыми якобы заканчивалась смертью человека. Кроме того, перекресток дорог воспринимался как своеобразный проход в Нижний мир.
Покровителем домашнего стада у бурят считался заяашан ‘спаситель, чудотворец’, мифический персонаж: «У богатых людей заяши бывает тоже богатый. Он ездит на хорошем коне, в хорошем одеянии и в руке держит аркан (бугуля), присматривает за табунами и за рогатым скотом, чтобы они не терялись и чтобы их не давил зверь» [Хангалов, 1960, т. III, с. 44]. Помимо него, у бурят предбайкальских родов известны следующие локальные охранители скота: Бузэлэ, Бизялэ, Атуйхан, Шатуйхан, Ишегихэн, Ор-хогхэн, Нуган-Эзинуд ( Нуга Эзэнууд ‘Хозяйки луга’). Им посвящали изображения – онгоны (Боронхи он-гон, Тугал-буруунэй онгон, Гэрэй онгон, Нуга Эзэну-уд онгон и др.) и обряды кормления [Баторов, Хороших, 1926, с. 57–59]. Ухаа Солбон считался небесным патроном крупного рогатого скота и лошадей [Гэ-сэр…, 1986, т. I, с. 52], Гужир-тенгри ( Гyжэр тэнгэри ‘Неутомимый небожитель’) – быков [Баторов, Хороших, 1926, с. 59], а Буха-нойон – хранителем загона. Все это указывает на сложение у бурят иерархии мифических защитников быков и коров.
Пантеон покровителей крупного рогатого скота у бурят отражает сферу обитания данных животных – в теплое время года их пасли на пастбищах (в степи, на лугу, иногда на опушке леса, в прилеске), в холодное время – содержали в загонах или стойле в хлеву. С рождения телята находились в культурном пространстве людей: на первых порах в передней части юрты, затем в теплом телятнике. Взрослые животные также были в освоенном пространстве (загоне, хлеву), но их пастбища относились к чужому, неосвоенному пространству. Нахождение быков и коров в каждом из указанных локусов буряты «согласовывали» с духом-хозяином этого места: они почитали его посредством периодических обрядовых угощений.
Крупный рогатый скот в бурятской обрядности
Крупный рогатый скот был включен в традиционные семейно-родовые обряды бурят, выполнял в них функции атрибута дарообмена в родильной и свадебной обрядности, посмертного ездового животного, животного, посвященного духам-хозяевам и божествам; жертвы.
Крупный рогатый скот, имея символическое значение и материальную ценность, являлся важным предметом дарообмена. В обрядах жизненного цикла он выступал в качестве дара ( харюу ), требующего отдарка. Например, в обряде милаангууд , когда ребенку исполнялся месяц или год (этот возраст у разных групп бурят определялся по-разному), гости дарили ему телят – личный скот. В свадебной обрядности крупный рогатый скот составлял обязательную часть традиционного калыма и приданного ( энжэ ) невесты.
Этот скот был включен и в погребальную обрядность бурят: во время похорон бедняка бык (вол) заменял собой коня хойлго , на котором обычно отвозили умершего на место погребения [Хангалов, 1958, т. I, с. 224]. В старину такое животное убивали на могиле; считалось, что оно будет сопровождать усопшего в потусторонней жизни.
В традиционных родовых обрядах бурят быки выступали в качестве животного, посвященного богам, или жертвы им. Как было указано, такое животное должно было быть определенной масти. Кроме того, обращалось внимание на его физическое состояние (целостность копыт, рогов), отсутствие на теле знака собственности – тамги.
Отметим, что у бурят взрослых быков и коров, в отличие от других сельскохозяйственных животных, не приносили в жертву. По данным М.Н. Ханга-лова известен зафиксированный у предбайкальских бурят обряд Yлгыдэ оруулха ‘Класть в колыбель (ребенка)’, в котором Буха-нойону жертвовали бычка [Там же, с. 213]. Этот обряд соответствовал старинной традиции, о которой говорится в легенде о Бу-лагате: только заколов двухгодовалого белого бычка, шаманка Асуйхан смогла открыть схваченную железными ремнями люльку с новорожденным Булагатом [Потанин, 1883, с. 268]. У некоторых верхоленских бурят существует обычай употребления в качестве ритуальной пищи yyсын мяхан ‘убоина осеннего забоя’ – говядины, заготовленной на зиму [Хандагуро-ва, 2008, с. 73–74], но это мясо и мясо жертвенного животного – не одно и то же.
У разных групп бурят существовали обряды, связанные с магиче ской защитой крупного рогатого скота. Предбайкальские буряты во время эпидемии сибирской язвы совершали обряд окуривания скота дымом можжевельника, прогоняя его мимо костра, – Шyргэ шyyхэ ‘Очищать через ворота’, в основе которого – воззрения об очистительной силе огня (небесного огня), добытого путем трения из дерева, разбитого молнией [Баторов, Хороших, 1926, с. 54–55].
Для предотвращения падежа скота буряты эхирит-булагатских родов проводили обряд жертвоприношения Хара, ута, боро монголнуудтэ ‘Черным, длинным и серым монголам’ [Там же, с. 55], духам-хозяевам, обитающим в столбах изгороди и разных местах двора. Считалось, что если не приносить жертву этим духам, то они будут изводить коров, телят и даже насылать болезни членам семьи [Хандагурова, 2008, с. 40]. Буряты-шаманисты в случае болезни быков и коров изготавливают изображения-онгоны мифическим покровителям скота и посвящают им обряды кормления «белой» пищей – молочными продуктами, молочной водкой, саламатом (вареная мучная каша).
Для лечения крупного рогатого скота буряты применяли магические приемы. Считалось, что для избавления коровы от метеоризма к ее животу следует приложить мутовку и, вращая ее, произносить специальный заговор, а для исцеления от мастита нужно царапать место воспаления правой передней медвежьей лапой и рычать по-медвежьи [Баторов, Хороших, 1926, с. 52]. Используемые при таком «лечении» предметы выполняли апотропейную функцию; целительство основывалось на представлениях о сверхъестественных свойствах мутовки и медвежьей лапы (медведь в культуре бурят являлся почитаемым животным).
Использование образа быка в обрядовой практике бурятских шаманов объясняется тем, что народ верил в сверхъестественные способности этого животного. В шаманской атрибутике изображение быка имелось на онгонах, посвященных мифическому владыке вод Ухан-хану и другим духам-хозяевам, – Зурактан ‘Нарисованные’. На них помещались также фигуры верблюда, орла, лягушки и змеи [Хангалов, 1958, т. I, с. 327]. Эти зооморфные персонажи олицетворяли три сферы обитания – небо, землю, воду – и рассматривались как духи-помощники шамана.
На родовом жертвоприношении ( тайлаган ) у бу-лагатов во время призывания белых, западных небожителей шаман совершал обряд онго оруулха ‘дать войти духу’: войдя в экстаз, он «впускал в себя» дух Буха-нойона и при этом вставал на четвереньки и вел себя, как бык [Там же, с. 521–522].
Заключение
Проведенное исследование показало, что семантика образов крупного рогатого скота у бурят достаточно разнообразна. В мифологических воззрениях бурят бык и корова имеют амбивалентную коннотацию. Отмечается почтительное отношение к этим животным, обусловленное их положительной коннотацией. Проявлениями такого почитания являются: культ Буха-нойона – мифического предка булагатов; идеи о связи крупного рогатого скота с небом и землей, их объектами (небесными светилами, горой), с водной и огненной стихиями; представления о крупном рогатом скоте как проводнике воли добрых небожителей, о быке как символе плодовитости; сакрализация у бурят шерсти и мочи быка, молока и последа коровы, бычьего ярма и волосяной веревки зэлэ ; мотив оборотничества человека в быка; обряды по защите и лечению крупного рогатого скота; суждения о быке – посвященном богам животном. Вместе с тем крупный рогатый скот имел и отрицательную оценочную характеристику. Он связывался с Нижним миром и его обитателями, выступал как посредник между мирами, предсказатель и нес символику смерти. По этой причине бык был включен в шаманские обряды, его образы имелись в шаманской ритуальной атрибутике.
Исследование проведено в рамках проекта НИР «Символ и знак в культуре народов Сибири: XVII–XXI вв.: актуализация и стратегии сохранения».
Список литературы Крупный рогатый скот в мифологических воззрениях и обрядности бурят
- Алтайские героические сказания / сказитель А. Калкин; пер. с алт. А. Плитченко. – М.: Современник, 1983. – 288 с.
- Бадмаев А.А. Ремесла агинских бурят (к проблеме этнокультурных контактов). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. – 160 с.
- Балдаев С.П. Родословные предания и легенды бурят / отв. ред. А.И. Уланов. – 2-е изд. – Улан-Удэ: Изд-во Бур. гос. ун-та, 2009. – Ч. I. – 376 с.
- Балдаев С.П. Родословные предания и легенды бурят. Забайкальские буряты / отв. ред. и сост. Т.Е. Санжиева. – Улан-Удэ: Изд-во Бур. гос. ун-та, 2010. – 368 с.
- Баторов П.П., Хороших П.П. Материалы по народному скотолечению иркутских бурят // Бурятоведческий сборник. – 1926. – Вып. 2. – С. 50–59.
- Болдонов Н.С. Загадки бурят-монголов: из старинного сборника Харбасарова // Сборник трудов по филологии. – Улан-Удэ: Бурмонгиз, 1949. – С. 120–125.
- Бурнаков В.А. Бык как воплощение демонического начала в традиционных верованиях и фольклоре хакасов (конец XIX – середина XX в.) // Вестн. Том. гос. ун-та. Культурология и искусствоведение. – 2019. – № 33. – С. 15–33.
- Буряад-ород толи. Бурятско-русский словарь / сост. К.М. Черемисов, Л.Д. Шагдаров: в 2 т. – Улан-Удэ: [Республик. тип.], 2010. – Т. I. – 636 с.; Т. II. – 708 с.
- Бурятские волшебные сказки / сост. Е.В. Баранникова, С.С. Бардаханова, В.Ш. Гунгаров. – Новосибирск: Наука, 1993. – 341 с. – (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; т. 5).
- Гэсэр. Бурятский народный героический эпос. – Улан-Удэ: Бур. кн. изд-во, 1986. – Т. I. – 288 с.
- Миллер Г.Ф. Описание сибирских народов. – М.: Памятники историч. мысли, 2009. – 456 с.
- Митрошкина А.Г. Бурятская антропонимия. – Новосибирск: Наука, 1987. – 222 с.
- Мифы народов мира / гл. ред. С.А. Токарев. – М.: Сов. энцикл., 1980. – 1147 с.
- Нацов Г.Д. Материалы по истории и культуре бурят. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1995. – Ч. 1. – 156 с.
- Осокин Г.М. На границе Монголии: очерки и материалы к этнографии Юго-Западного Забайкалья. – СПб.: [Тип. А.С. Суворина], 1906. – 304 с.
- Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. Результаты путешествия, исполненного в 1876–1877 гг. по поручению Императорского Русского Географического Общества. – СПб., 1881. – Вып. I: Дневники путешествия. Материалы для физической географии и топографии Северо-Западной Монголии. – 425 с.; 1883. – Вып. IV: Материалы этнографические. – 1026 с.
- Смолев Я.С. Три табангутских рода селенгинских бурят: этнографический очерк. – М.: [Тов-во тип. А.И. Мамонтова], 1900. – 58 с.
- Фольклор Курумчинской долины. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1999. – 137 с.
- Хангалов М.Н. Собрание сочинений. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1958. – Т. I. – 551 с.; 1959. – Т. II. – 444 с.; 1960. – Т. III. – 421 с.
- Хандагурова М.В. Обрядность кудинских и верхоленских бурят во второй половине XX века (бассейны верхнего и среднего течения рек: Куда, Мурино и Каменка). – Иркутск: Амтера, 2008. – 228 с.
- Цыбиктаров А.Д. Бурятия в древности. История с древнейших времен до XVII века. – Улан-Удэ: Изд-во Бур. гос. ун-та, 1999. – Вып. 3. – 266 с.
- Шаракшинова Н.О. Улигеры бурят. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2000. – 153 с.
- Krishna N. Sacred Animals of India. – New Delhi: Penguin Books India, 2010. – 274 р.