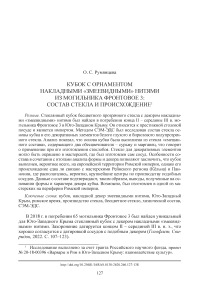Кубок с орнаментом накладными «змеевидными» нитями из могильника Фронтовое 3: состав стекла и происхождение
Автор: Румянцева О. С.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Железный век и античность
Статья в выпуске: 266, 2022 года.
Бесплатный доступ
Стеклянный кубок бесцветного прозрачного стекла с декором накладными «змеевидными» нитями был найден в погребении конца II - середины III в. могильника Фронтовое 3 в Юго-Западном Крыму. Он относится к престижной столовой посуде и является импортом. Методом СЭМ-ЭДС был исследован состав стекла основы кубка и его декоративных элементов белого глухого и бирюзового полупрозрачного стекла. Анализ показал, что основа кубка была выполнена из стекла «смешанного состава», содержащего два обесцвечивателя - сурьму и марганец, что говорит о применении при его изготовлении стеклобоя. Стекло для декоративных элементов могло быть окрашено в мастерской, где был изготовлен сам сосуд. Особенности состава в сочетании с итогами анализа формы и декора позволяют заключить, что кубок выполнен, вероятнее всего, на европейской территории Римской империи, однако его происхождение едва ли связано с мастерскими Рейнского региона (Кёльна) и Паннонии, где располагались, вероятно, крупнейшие центры по производству подобных сосудов. Данные о составе подтверждают, таким образом, выводы, полученные на основании формы и характера декора кубка. Возможно, был изготовлен в одной из мастерских на периферии Римской империи.
Кубок, накладной декор змеевидными нитями, юго-западный крым, римское время, производство стекла, бесцветное стекло, химический состав, сэм-эдс
Короткий адрес: https://sciup.org/143179070
IDR: 143179070 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.266.127-138
Текст научной статьи Кубок с орнаментом накладными «змеевидными» нитями из могильника Фронтовое 3: состав стекла и происхождение
В 2018 г. в погребении 65 могильника Фронтовое 3 был найден уникальный для Юго-Западного Крыма стеклянный кубок с декором накладными «змеевидными» нитями. Захоронение датируется концом II – серединой III в. н. э., что хорошо согласуется с датировкой сосудов с подобным декором ( Голофаст, Свиридов , 2022. С. 107–123).
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 20-18-00396 «Варвары и Рим в Юго-Западном Крыму: взаимодействие культур».
Кубок изготовлен из почти бесцветного прозрачного стекла, имеющего лишь легкий естественный зеленоватый оттенок. Декор, получивший в зарубежной литературе название « snake-thread decoration » или « Schlagenfaden Glas », выполнен накладными нитями из непрозрачного белого и полупрозрачного бирюзового стекла.
Найденный во Фронтовом сосуд, безусловно, относится к импортной дорогой столовой посуде. Традиционно выделяют три крупных района производства сосудов со змеевидным орнаментом: Кёльн и Рейнская область, Паннония и Сиро-Палестинский регион, однако их могли производить также в Риме и других центрах Италии, на Адриатике, на территории Иберийского п-ова и т. д. Определить место производства сосуда из Фронтового по сочетанию морфологических признаков и характеру декора не удается ( Голофаст, Свиридов , 2022. С. 107–123).
Химический состав стекла является дополнительным источником информации о происхождении кубка, а также о технологии его производства. При этом данные о происхождении являются косвенными, указывая в первую очередь на место изготовления не самого сосуда, а стекла для него. В римское время (как и на протяжении многих других исторических периодов) стекло варилось в ограниченном числе крупных стекловаренных центров, преимущественно сиро-палестинских и египетских, из которых полуфабрикаты в виде сырца распространялись по разветвленной сети «вторичных» мастерских Римской империи, производивших готовые изделия, но не варивших стекло самостоятельно ( Foy, Nenna , 2001; Freestone , 2005; Foster, Jackson , 2009. P. 190; Glass making…, 2014 и мн. др.; обзор литературы на русском языке см. также: Румянцева , 2015).
Методом сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионным рентгеноспектральным анализом были изучены стекло основы сосуда, а также декора белого непрозрачного и бирюзового полупрозрачного стекла. Анализ выполнялся на электронном микроскопе Tescan Mira LMU с анализатором Oxford Instruments X-Max 50 в научном центре «Износостойкость» Московского энергетического института (технического университета) на образцах, залитых эпоксидной смолой, отшлифованных и отполированных при помощи алмазной суспензии. Значения управляющих параметров микроскопа: ток пучка – 1.7 нА, ускоряющее напряжение – 20 кВ, «живое» время накопления сигнала – 140 секунд. Использовалось программное обеспечение INCA Oxford Instruments. Воспроизводимость и погрешность результатов оценивалась при помощи эталонов Corning Museum of Glass A и NIST 620 (табл. 1).
Стекло основы и декоративных элементов кубка из Фронтового – натриево-кальциево-кремнеземное (Na-Ca-Si). Низкое содержание в нем оксидов калия и магния (до 0,6 %) говорит том, что оно сварено на основе природной соды ( Brill , 1970). В рассматриваемый период этот рецепт абсолютно преобладает среди посудного стекла в Средиземноморье и Европе. Важнейшим признаком, характеризующим стекло основы кубка (табл. 2: 1 ), является присутствие в нем одновременно двух обесцвечивателей – марганца и сурьмы – примерно в равных долях (около 0,4 %). Это позволяет заключить, что стекломасса, из которой был изготовлен сосуд, содержала помимо «чистого» сырца также примесь стекла вторичной переработки, т. е. стеклобоя: в сырце, происходящем из стекловаренных
Таблица 1. Результаты контрольного измерения состава эталонов Corning Museum of Glass A и NIST 620 (в масс.%). Метод СЭМ-ЭДС
|
« ^ о |
о |
1 |
1 |
ОО |
1 |
1 |
|
о © и |
о |
о |
S |
го |
о |
г^ |
|
о ^ |
о |
8 |
оо cxf |
ОО |
о |
o' |
|
о |
о |
о |
о |
1 |
1 |
|
|
о' Ю |
o' |
40 |
40 Ol^ |
о |
ОО Сх1^ |
|
|
о" toT |
о |
о |
o' |
1 |
1 |
|
|
о* Ж |
о |
o' |
40 4о" чо |
Cxf |
o' |
Cxf |
|
сГ ^ |
о |
о |
04 |
о |
||
|
о м S |
cxf |
40 40, cxf |
40, |
о |
04 40^ |
|
|
О. Z |
40 |
о |
о |
о |
04 |
|
|
я © © н m |
5 § а я U ш |
н © 1=1 я © н и |
ь ” |
5 § а я U m |
© я © и |
|
|
< S о |
23 S z40 |
|||||
|
« ^ о |
о |
1 |
1 |
ОО |
1 |
1 |
|
О ь |
о" |
о |
(М |
1 |
1 |
|
|
О © |
о" |
40 |
1 |
1 |
||
|
о" (Z) |
Cxi |
о |
г^ |
1 |
1 |
|
|
о" я (Z) |
о" |
o' |
04 |
1 |
1 |
|
|
о S О |
m |
о |
г^ |
1 |
1 |
|
|
О о О |
ОО |
о |
o' |
1 |
1 |
|
|
Ч to |
40 |
о |
о |
о" |
о |
о |
|
О 8 S |
О |
о |
о |
1 |
1 |
|
|
о" н |
40 °Ч |
04 |
о |
о |
о |
|
|
Я © © н m |
5 § а я U ш |
^ © я © и |
to ” |
5 ’в 5 § а я U ш |
© я © и |
to ” |
|
< о |
23 ® Z40 |
|||||
Таблица 2. Химический состав стекла кубка, изученный методом СЭМ-ЭДС (в масс.%)
Присутствие в составе стекла кубка марганца обусловлено наличием второго компонента – очевидно, т. н. римского бесцветного стекла, происхождение которого было, вероятно, связано с Сиро-Палестинским регионом: именно оно было распространено на территории Европы в I–III вв. н. э. (ссылки на литературу см.: Bidegaray et al ., 2018; Gratuze , 2018. P. 351–354).
Кубок отличает высокое качество изготовления. Признаки вторичного использования стекла в виде крупных или множественных пузырьков, свилей и др. маркеров неравномерного прогрева стекломассы, темных включений (фрагментов железной окалины от стеклодувной трубки) и т. п. визуально не фиксируются. Стекло кубка практически бесцветное, оно имеет лишь очень легкий зеленоватый оттенок. Следовательно, речь идет о тщательном контроле процесса производства сосуда. Предположительно, мастерами намеренно отбирался для этого сосуда только бесцветный стеклобой, который смешивался с сырцом, также бесцветным. В литературе эта технология получила название «selective recycling» ( Jackson, Paynter , 2016. P. 77). Сурьма является более сильным обесцвечивателем, чем марганец: для получения бесцветного стекла достаточно в среднем 0,5–0,7 % Sb2O5 ( Jackson , 2005), в то время как концентрация MnO должна составлять 0,8–1,5 % ( Jackson, Paynter , 2016. P. 73). Учитывая то, что в кубке из Фронтового содержание оксидов марганца и сурьмы практически идентично (около 0,4 %), можно предположить, что стекло, обесцвеченное сурьмой, в стекломассе преобладало. Это подтверждается и низким содержанием примесей, характеризующих состав песка, использовавшегося для производства стекла этой группы (оксидов алюминия, кальция, железа и др. – см. табл. 2: 1 ) (см., например: Foster, Jackson , 2010).
Данные о составе дают возможность получить независимую (хотя и косвенную) информацию о возможном месте производства кубка. Преобладание в его составе стекла египетского производства (Sb группы) позволяет, очевидно, исключить сиро-палестинское происхождение сосуда, что хорошо согласуется с результатами изучения характера декора сосуда (см.: Голофаст, Свиридов , 2022)2. Одновременно с этим в Западной Европе в конце II – начале III в. были распространены уже обе группы бесцветного стекла – и обесцвеченное сурьмой египетское, и обесцвеченное марганцем, очевидно, сиро-палестинского происхождения ( Rosenow, Rehren , 2014. P. 180; Bidegaray et al ., 2018). Примерно в это же время – начиная со II–III вв. – в западной части Римской империи появляется и стекло одновременно с двумя обесцвечивателями, марганцем и сурьмой. Впервые обративший на это внимание Е. В. Сайр отмечает, что такое стекло преобладает на северо-западе Римской империи и редко встречается в ее восточных провинциях ( Sayre , 1963; Foster, Jackson , 2010. P. 3074; ссылки на литературу см.: Gliozzo et al ., 2015. Tabl. 4).
В то же время вторичное использование стекла в производстве престижной столовой посуды – явление, не характерное для большинства европейских материалов конца II – первой половины III в. Именно на этот период приходится пик распространения высококачественного стекла группы Sb (Gratuze, 2018. P. 353). К сожалению, мы практически не располагаем данными по составу бесцветного стекла3 с Рейна и, в частности, из Кёльна, где располагался один из важнейших производственных центров римского времени. Однако в целом на территории Германии свидетельства вторичного использования стекла в конце II – первой половине III в. по химическому составу еще практически не фиксируются. Судя по данным анализов, интенсивное применение стеклобоя начинается позже – в период с середины III в. по 370-е гг. (Grünewald, Hartmann, 2010; Grünewald, Hartmann, 2015). Результаты этого исследования основаны в первую очередь на коллекции стекла некрополя в Майене (Mayen) на Рейне, расположенного примерно на равном расстоянии между Майнцем и Кёльном, и часть найденных здесь сосудов римского времени происходит, вероятно, из кёльнских мастерских (Grünewald, Hartmann, 2010; Grünewald, Hartmann et al., 2015. S. 158–159, 161).
По составу стекла I–IV вв. из Кёльна и его окрестностей опубликованы лишь усредненные данные ( Höpken, Paz , 2008. S. 110. Tabl. 2), и этот средний состав наиболее близок т. н. «римскому» стеклу, обесцвеченному марганцем. Однако содержание сурьмы в этих образцах не анализировалось. При этом основной состав трех кёльнских сосудов с накладным змеевидным декором ( Höpken, Paz , 2008) отличается от состава кубка из Фронтового, т. е. общей тенденции в выборе стекла для сосудов из Кёльна и Фронтового не прослеживается. Три сосуда со змеевидным декором, обнаруженные в Линтере (г. Оверхеспен, современная Бельгия), происходящие, вполне вероятно, из Кёльна, изготовлены из «чистого» стекла, обесцвеченного сурьмой, без примеси марганца ( Foy et al ., 2018. P. 36, 76, 89–90; анализы № VI 019, 021, 022).
Среди 11 сосудов из Интерцизы, где, как предполагается, располагалась одна из двух паннонских мастерских, производивших сосуды с накладными «змеевидными» нитями, 9 содержат исключительно сурьму, а основа двух обесцвечена марганцем; у последних «смешанное» стекло с марганцем и сурьмой одновременно использовано для бесцветных декоративных элементов. Сосудов, основа которых была бы изготовлена из «смешанного» Sb-Mn стекла, среди них не выявлено ( Dévai et al ., in print; 2021).
Среди наиболее престижных категорий столовой посуды бесцветного стекла, происходящих из различных регионов Европы, признаки вторичного использования также начинают фиксироваться по данным химического состава в более поздний период. Из 100 сосудов с гравированным декором, хранящихся в 17 европейских музеях, удалось выявить лишь одну группу изделий, изготовленных из стекла с двумя обесцвечивателями – марганцем и сурьмой. Это сосуды т. н. Wint-Hill-Gruppe конца III – первой половины IV в. – с декором в виде фигур и надписей, производство которых связывается с центрами на Рейне и в Италии.
Более ранние сосуды II–III вв. обесцвечены только сурьмой, а сосуды IV–V вв. – марганцем ( Nagel et al ., 2018). «Смешанное» стекло с марганцем и сурьмой выявлено и при исследовании двух диатрет с территории Болгарии, относящихся к IV в. ( Cholakova et al ., 2017). Вероятно, необходимость использования «смешанного» стекла для сосудов наиболее престижных категорий в поздний период была обусловлена повсеместным сокращением объемов стекла группы Sb, которое происходит в IV в. Не позднее начала V в. его производство в Египте прекратилось ( Cholakova, Rehren , 2018. P. 65).
Таким образом, состав стекла не дает оснований для вывода о кёльнском или паннонском происхождении исследуемого кубка – как и соотношение его формы и характера декора (см.: Голофаст, Свиридов , 2022. С. 107–126).
Однако, учитывая отсутствие репрезентативных данных по составу рейнского (и, в частности, кёльнского) и, в меньшей степени, паннонского бесцветного стекла, нельзя полностью исключить, что данное заключение обусловлено не столько реальной картиной, сколько степенью изученности материалов.
Наибольшее количество бесцветного стекла смешанного состава (Sb-Mn) происходит на сегодня с территории Британии ( Foster, Jackson , 2010) и Италии ( Silvestri et al ., 2008 ; Gliozzo et al ., 2015. Tabl. 4). Для Галлии использование смешанного состава для изготовления сосудов бесцветного стекла не характерно, здесь преобладает «чистое стекло» группы Sb ( Gratuze , 2018. P. 353). В Италии, которая рассматривается как один из возможных центров производства сосудов с накладным змеевидным декором, оно использовалось наиболее широко и для разных категорий сосудов: как престижных, так и рядовых, в т. ч. и в конце II – первой половине III в. ( Gliozzo et al ., 2015). Однако вполне возможно, что эти данные также отражают не объективную картину, а степень изученности стекла римского времени из данных регионов, по составу которого опубликованы самые большие массивы данных.
Возможно также, что кубок происходит из «периферийной» мастерской, расположенной в регионе, испытывавшем сложности с импортом сырца. Особенности снабжения сырьем (полуфабрикатами) для производства стеклянных изделий могли зависеть не только от региона, но и от характера поселения, на котором располагалась мастерская. Среди бесцветного стекла в Ауденбурге (Бельгия) стекло «смешанного» состава с двумя обесцвечивателями преобладает на всех этапах существования памятника с середины I по начало V в. Авторы предположили, что это связано с характером памятника: здесь располагался укрепленный римский военный лагерь ( Bidegaray et al ., 2018).
Оба обесцвечивателя – и сурьма, и марганец – использовались в римское время в стекловаренных центрах Египта ( Nenna et al ., 2005; Rosenow, Rehren , 2014). Бесцветное стекло одновременно из левантийских (обесцвеченное марганцем) и египетских (обесцвеченное сурьмой) стекловаренных центров поступало в позднеримское время в Карфаген; среди отходов местного производства здесь встречено и «смешанное» стекло с двумя обесцвечивателями, полученное на их основе, что говорит о применении данной практики в местном производстве ( Schibille et al. , 2017). Однако североафриканские центры не рассматриваются специалистами как возможное место производства сосудов с декором змеевидно напаянными нитями.
Таким образом, особенности химического состава подтверждают версию о европейском происхождении кубка, при этом его производство в Кёльне или в Интерцизе (Паннония) представляется маловероятным. Его происхождение из Италии, судя по той картине, которая складывается из имеющихся на сегодня данных, казалось бы более возможным, однако эту версию не подтверждают данные о морфологии сосуда из Фронтового. Его состав предполагает скорее его производство в одной из мастерских на периферии Римской империи, испытывавшей сложности с импортом в достаточном количестве высококачественного сырца, однако для более аргументированного заключения о его возможном происхождении данных недостаточно.
Основной состав самого кубка и декоративных элементов цветного стекла (табл. 2: 2, 3 ) очень близок, причем во всех трех случаях зафиксировано идентичное (около 0,4 %) содержание марганца – слишком высокое, чтобы быть естественной примесью к песку, но недостаточное для того, чтобы быть единственным обесцвечивателем (содержание сурьмы, более высокое, чем в стекле основы кубка, обусловлено тем, что и в белом, и в бирюзовом стекле она выполняет роль технологической добавки). Это позволяет заключить, что в качестве основы для декоративных элементов было использовано стекло, из которого выполнен сам кубок. Следовательно, окрашено оно было на месте, в мастерской, где был сделан сам сосуд. Примечательно, что в цветном стекле, преимущественно в белом, концентрация натрия и хлора незначительно ниже, чем в основе, а содержание магния и калия – слегка выше (в бесцветном и бирюзовом они практически одинаковы). Это в наибольшей степени заметно для состава, нормированного к 100 % без технологических добавок (табл. 3). Именно такие изменения происходят в стекле в процессе пребывания в печи, в частности – в процессе окрашивания ( Freestone , 2016; Cholakova et al ., 2017; Jackson, Paynter , 2016). Можно предположить, что белое стекло окрашивалось чуть дольше бирюзового, т. к. на нем эти изменения более выражены. Это подтверждается и данными из литературы: именно для белого стекла, по сравнению со стеклом прочих цветов, характерно, в частности, более низкое содержание хлора, т. к. оно, вероятно, требовало более длительного периода окрашивания или более высокой температуры ( Freestone, Stapleton , 2015. P. 67). Слегка повышенная концентрация железа в стекле декора, предположительно, результат использования металлического инструмента при перемешивании стекломассы при окрашивании и при нанесении декора, а незначительное содержание алюминия могло попадать в стекломассу из тигля (табл. 3: 2, 3 ) ( Freestone , 2015; Jackson, Paynter , 2016). Однако, учитывая, что речь идет о единичных наблюдениях, нельзя исключить их случайный характер4.
Таблица 3. Химический состав стекла кубка, нормированный к 100 % без учета красителей и глушителей
|
№ п/п |
Маркировка образца |
цвет, прозрачность стекла |
Na 2 O |
MgO |
Al 2 O 3 |
SiO 2 |
SO 3 |
Cl |
|
1 |
Фр-86 |
б/ц прозрачный (основа) |
17,66 |
0,52 |
2,04 |
70,21 |
0,19 |
1,07 |
|
2 |
Фр-86а |
белый глухой (декор) |
16,56 |
0,57 |
2,36 |
70,29 |
0,26 |
0,87 |
|
3 |
Фр-86б |
бирюзовый глухой (декор) |
17,38 |
0,52 |
2,08 |
70,25 |
0,24 |
0,99 |
|
№ п/п |
Маркировка образца |
цвет, прозрачность стекла |
K 2 O |
CaO |
MnO |
Fe 2 O 3 |
Sb 2 O 5 |
|
1 |
Фр-86 |
б/ц прозрачный (основа) |
0,55 |
6,45 |
0,43 |
0,44 |
0,41 |
|
2 |
Фр-86а |
белый глухой (декор) |
0,63 |
6,77 |
0,48 |
0,61 |
0,41 |
|
3 |
Фр-86б |
бирюзовый глухой (декор) |
0,56 |
6,44 |
0,36 |
0,50 |
0,41 |
Примечание : для образцов 2 и 3 использовано расчетное содержание сурьмы, равное содержанию в образце 1.
Бирюзовое непрозрачное стекло декоративной нити получено с помощью меди и сурьмы. Белое непрозрачное – при помощи сурьмы: в результате тепловой обработки в стекле формировались кристаллы антимоната кальция, благодаря которому стекло приобретало свой цвет ( Freestone, Stapleton , 2015. P. 67).
Заключение
Особенности химического состава подтверждают версию о европейском происхождении кубка, при этом его производство в Кёльне или в Интерцизе (Паннония) представляется маловероятным. Его происхождение из Италии, судя по той картине, которая складывается из имеющихся на сегодня данных, казалось бы более возможным, однако эту версию не подтверждают данные о морфологии сосуда из Фронтового. Его состав предполагает скорее его производство в одной из мастерских на периферии Римской империи, испытывавшей сложности с импортом в достаточном количестве высококачественного сырца, однако для более аргументированного заключения о его возможном происхождении данных недостаточно. Сопоставление состава основы и декоративных элементов говорит о том, что данное стекло для декоративных элементов было окрашено на месте, в той же мастерской, где был изготовлен сам кубок.
Благодарности
Выражаю искреннюю благодарность Констанции Хёпкен (Constanze Höpken, Институт археологии Кёльнского университета) за консультацию и возможность ознакомиться с данными о составе стекла кубков со змеевидным декором из Кёльна. Я также очень признательна Мартину Грюневальду (Martin Grünewald, Управление охраны памятников Рейнского региона / LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland) за консультацию по составу рейнского стекла римского времени и помощь в подборе литературы, а также Кате Деваи (Kata Devai, Будапештский университет) и Иштвану Форижу (István Fórizs, Институт геологических и геохимических исследований Венгерской академии наук) за возможность ознакомиться и сослаться на данные их неопубликованных исследований.
Список литературы Кубок с орнаментом накладными «змеевидными» нитями из могильника Фронтовое 3: состав стекла и происхождение
- Голофаст Л. А., Свиридов А. Н., 2022. Стеклянный кубок с орнаментом накладными «змеевидными» нитями из могильника Фронтовое-3 // КСИА. Вып. 266. С. 107–126.
- Румянцева О. С., 2015. Стекло I тыс. н. э.: происхождение и распространение по данным химического состава и изотопного анализа // КСИА. Вып. 237. С. 20–49.
- Румянцева О. С., 2020. О стеклоделательной мастерской в Алма-Кермене // РА. № 2. С. 72–84.
- Румянцева О. С., Щербаков И. Б., 2016. Стекло-сырец с поселения Комаров на Среднем Днестре: химический состав и данные о характере и хронологии стеклоделательного комплекса позднеримского времени // SP. № 4. С. 299–315.
- Barfod G. H., Freestone I. C., Lesher C. E., Lichtenberger A., Raja R., 2020. ‘Alexandrian’ glass confirmed by hafnium isotopes // Scientific Reports. Vol. 10. 11322.
- Bidegaray A.-I., Cosyns P., Gratuze B., Terryn H., Godet S., Nys K., Ceglia A., 2018. On the making, mixing and trading of glass from the Roman military fort at Oudenburg (Belgium) // Archaeological and Anthropological Sciences. August.
- Brill R. H., 1970. The chemical interpretation of the texts // Oppenheim A. L., Brill R. H., Barag D., von Saldern A. Glass and Glassmaking in Ancient Mesopotamia. New York: Corning Museum of Glass. P. 105–128.
- Brill R. H., 1988. Scientific Investigations of the Jalame Glass and Related Finds // Excavations at Jalame: Site of a Glass Factory in Late Roman Palestine / Ed. G. D. Weinberg. Columbia: University of Missouri. P. 257–294.
- Cholakova A., Rehren T., 2018. A Late Antique manganese-decolourised glass composition: Interpreting patterns and mechanisms of distribution // Things that Travelled: Mediterranean Glass in the First Millennium CE / Eds. D. Rosenow, M. Phelps, A. Meek. I. Freestone. London: UCL Press. P. 46–71.
- Cholakova A., Rehren Th., Gratuze B., Lankton J., 2017. Glass Coloring Technologies of Late Roman Cage Cups: Two Examples from Bulgaria // Journal of Glass Studies. Vol. 59. P. 117–133.
- Dévai K., Fórizs I., Leskó M. The tradition of snake thread glass in Pannonia. (In print.)
- Dévai K., Fórizs I., Leskó M. Z., 2021. The tradition of facet-cut bowls from Pannonia: style, distribution and chemical composition // Archeometriai Műhely. 18, 2. P. 123–133.
- Foster H. E., Jackson C. M., 2009. The composition of «naturally coloured» late Roman vessel glass from Britain and the implications for models of glass production and supply // Journal of Archaeological Science. Vol. 36. Iss. 2. P. 189–204.
- Foster H. E., Jackson C. M., 2010. The composition of late Romano-British colourless vessel glass: glass production and consumption // Journal of Archaeological Science. Vol. 37. Iss. 12. P. 3068–3080.
- Foy D., Labaune-Jean F., Leblond C., Martin Pruvot Ch., Marty M.-Th., Massart C., Munier C., Robin L., Roussel-Ode J., 2018. Verres incolores de l’Antiquité romaine en Gaule et aux marges de la Gaule. Vol. 2. Typologie – Analyses. Oxford: Archaeopress. 387 p. (Archaeopress Roman Archaeology; 42.)
- Foy D., Nenna M.-D., 2001. Tout feu, tout sable. Mille ans de verre antique dans le Midi de la France. Aix-en-Provence: Édisud. 256 p.
- Foy D., Thirion-Merle V., Vichy M., 2004. Contribution à l’étude des verres antiques décolorés à l’antimoine // Revue d’Archéométrie. Vol. 28. P. 169–177.
- Foy D., Vichy M., Picon M., 2000. Les matières premières du verre et la question des produits semi-finis. Antiquité et Moyen Age // Arts du feu et productions artisanales. XXe Rencontres internationals d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes (21–23 octobre 1999) ed. APDCA. Antibes. P. 419–433.
- Freestone I. C., 2005. The Provenance of Ancient Glass through Compositional Analysis // Materials Research Society Symposium Proceedings. 852. Materials Issues in Art and Archaeology VII. P. OO8.1.1–OO8.1.13.
- Freestone I. C., 2015. The Recycling and Reuse of Roman Glass: Analytical Approaches // Journal of Glass Studies. Vol. 57. P. 29–40.
- Freestone I. C., 2016. Practice less than perfect: How workshop activities modified the composition of ancient glass // 41th International Symposium on Archaeometry (May 15–21, Kalamata, Greece): book of abstracts / Eds.: N. Zacharias, E. Palarama. Kalamata: University of Peloponnese. P. 129–130.
- Freestone I. C., Stapleton C. P., 2015. Composition, technology and production of coloured glasses from Roman mosaic vessels // Glass of the Roman World / Eds.: J. Bayley, I. Freestone, C. Jackson. Oxford; Philadelphia: Oxbow. P. 178–189.
- Glass Making in the Greco-Roman World / Ed. P. Degryse. Leuven: Leuven University Press, 2014. 189 p. (Studies in Archaeological Sciences; 4.)
- Gliozzo E., Lepri B., Sagui L., Turbanti Memmi I., 2015. Colourless glass from the Palatine and Esquiline hills in Rome (Italy). New data on antimony- and manganese-decoloured glass in the Roman period // Archaeological and Anthropological Sciences. Vol. 9. No. 2. P. 165–180.
- Gratuze B., 2018. Contribution à l’étude des verres décolorés à l’antimoine // Foy D., Labaune-Jean F., Leblond C., Martin Pruvot Ch., Marty M.-Th., Massart C., Munier C., Robin L., Roussel-Ode J. Verres incolores de l’Antiquité romaine en Gaule et aux marges de la Gaule. Vol. 2. Typologie – Analyses. Oxford: Archaeopress. P. 350–360. (Archaeopress Roman Archaeology; 42.)
- Grünewald M., Hartmann S., 2015. Überlegungen zum Glasrecycling in der Antike im Bereich des heutigen Deutschland // Non solum… sed etiam: Festschrift für Thomas Fischer zum 65. Geburtstag / Eds.: I. P. Henrich, Ch. Miks, J. Obmann, M. Wieland. Rahden. S. 153–164.
- Grünewald M., Hartmann S., 2010. The Late Antique Glass from Mayen (Germany): First Results of Chemical and Archaeological Studies // Glass along the Silk Road from 200 BC to AD 1000 / Eds.: B. Zorn, A. Hilgner. Mainz: Römisch-Germanisches Zentralmuseum. P. 15–28. (Tagungen; 9.)
- Höpken C., Paz B., 2008. Analysen römischer Gläser aus Köln // Berliner Beiträge zur Archäometrie. 21. S. 103–114.
- Jackson C. M., 2005. Making colourless glass in the Roman period // Archaeometry. Vol. 47. Iss. 4. P. 763–780.
- Jackson C. M., Paynter S., 2016. A great big melting pot: Exploring patterns of glass supply, consumption and recycling in Roman Coppergate, York // Archaeometry. Vol. 58. Iss. 1. P. 68–95.
- Nagel S., Paz B., Behrendet S., 2018. Tief ins Glas geschaut. Das Potenzial zerstörungsfreier Analysemethoden am Beispiel spätantiker figürlich gravierter Gläser // Archäometrie und Denkmalpflege. P. 136–139.
- Nenna M.-D., Picon M., Thirion-Merle V., Vichy M., 2005. Ateliers primaires du Wadi Natrun: nouvelles découvertes // Annales du 16e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre (London, 2003). Nottingham: Association internationale pour l’histoire du verre. P. 56–63.
- Rosenow D., Rehren Th., 2014. Herding cats – Roman to Late Antique glass groups from Bubastis, northern Egypt // Jornal of Archaeological Science. Vol. 49. P. 170–184.
- Sayre E. V., 1963. The intentional use of antimony and manganese in ancient glass // Advances in Glass Technoloy. Part 2 / Eds. F. R. Matson, G. E. Rindone. New York: Plenum Press. P. 263–282.
- Silvestri A., Molin G., Salviulo G., 2008. The colourless glass of Iulia Felix // Journal of Archaeological Science. Vol. 35. Iss. 2. P. 331–341.
- Schibille N., Sterrett-Krause A., Freestone I. C., 2017. Glass groups, glass supply and recycling in late Roman Carthage // Archaeological and Anthropological Sciences. Vol. 9 (6). P. 1223–1241.