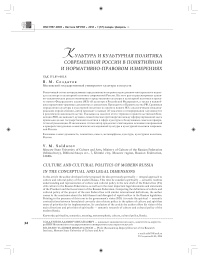Культура и культурная политика современной России в понятийном и нормативно-правовом измерениях
Автор: Солдатов Владимир Михайлович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культурная политика и культурная среда
Статья в выпуске: 1 (57), 2014 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье автор развивает предложенную им ранее идею духовно-интегрального подхода к культуре и культурной политике современной России. На этот раз он рассматривает духовно-семантические реалии понимания и представления культуры и культурной политики в проекте нового Федерального закона (ФЗ) «О культуре в Российской Федерации», а также в важнейших нормативно-правовых документах и заявлениях Президента и Правительства РФ. Сравнивая определения культуры и культурной политики из проекта нового ФЗ с аналогичными международными определениями, автор приходит к выводу об умалении и игнорировании «духовности» в российском законодательстве. Указывая на наличие этого термина в правительственной Концепции 2020, он выявляет духовно-семантические противоречия между сформулированной здесь правильно целью государственной политики в сфере культуры и бездуховным смыслом приоритетов её реализации. В заключение статьи автор предлагает своё видение основных направлений и приоритетов духовно-семантических исследований культуры и культурной политики современной России.
Духовность, семантика, смысл, метаморфозы, культура, культурная политика, Россия
Короткий адрес: https://sciup.org/14489672
IDR: 14489672 | УДК: 351.85+001.8
Текст научной статьи Культура и культурная политика современной России в понятийном и нормативно-правовом измерениях
СОЛДАТОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ — кандидат экономических наук, заместитель директора НИИ Московского государственного университета культуры и искусств
SOLDATOV VLADIMIR MIKHAYLOVICH — Ph.D. (Economics), Deputy Director of the Research Institute, Moscow State University of Culture and Arts
Вопросы совершенствования законодательства о культуре и культурной политике в нашей стране стоят сегодня как никогда остро и злободневно. Об этом особенно ярко свидетельствует тот факт, что до настоящего времени в России отсутствует закон о культуре, адекватный глобальным реалиям ХХI века, и поэтому сами понятия «культура» и «культурная политика» в нашей стране пока не узаконены.
Определённая попытка устранить такой серьёзный нормативно-правовой пробел в российском законодательстве была предпринята инициаторами, авторами и разработчиками проекта нового Федерального закона (ФЗ) «О культуре в Российской Федерации» в 2009—2012 годах. Здесь было предложено понимать культуру как «совокупность присущих обществу или социальной группе отличительных признаков, ценностей, традиций и верований, находящих выражение в образе жизни и искусстве» [11]. Соответственно, государственную культурную политику (государственную политику в сфере культуры) — как «совокупность целей, принципов и норм, которыми руководствуется государство в своей деятельности по сохранению и развитию культуры, а также средств для достижения указанных целей и сама деятельность государства в сфере культуры» [11].
Несмотря на то, что проект нового ФЗ был разработан и обсуждался более четырёх лет на различных уровнях государственной власти и гражданского общества России, его дальнейшее продвижение для рассмотрения в Государственной Думе Российской Федерации (РФ) было приостановлено. По нашему мнению, такая законодательная ситуация в сфере культуры России сложилась не случайно, поскольку разработка проекта этого ФЗ была поручена искусствоведам и юристам, а философы и культурологи не принимали в ней участия. Поэтому предельные духовно-философские основания и культурологические измерения проекта нового ФЗ были, по существу, про- игнорированы. В результате были допущены серьёзные мировоззренческие и концептуальные ошибки, касающиеся, прежде всего, его понятийной основы.
Чтобы не показаться излишне категоричным и голословным, давайте вместе обратимся в связи с этим к духовно-семантическому анализу определений культуры и культурной политики из проекта нового федерального закона. Предварительно заметим, что, говоря о нём как о принципиально новом мировоззренческом подходе к совершенствованию законодательства о культуре и культурной политике в России, его инициаторы, авторы и разработчики почему-то не обозначили никакой связи между понятиями «совершенство» и «духовность». Подобной «новизной» они необоснованно проигнорировали не только фундаментальный духовный статус культуры, но и других связанных с нею базовых понятий проекта ФЗ, включая понятие «культурная политика» [1; 2].
Это хорошо видно из сравнения определений культуры и культурной политики из проекта ФЗ с соответствующими международными их определениями. Действительно, согласно международной резолюции ЮНЕСКО 1982 года, «культура» понимается как «совокупность ярко выраженных черт, духовных и материальных, интеллектуальных и экономических, характеризующих общество или социальную группу. Культура охватывает, помимо искусства и литературы, образы жизни, основные права человека, систему ценностей, традиции и веры» [3]. Нетрудно заметить, что российское определение культуры из проекта нового ФЗ значительно пересекается с содержанием определения из резолюции ЮНЕСКО — больше с текстом второй его части и меньше — со словосочетанием из первой части.
Однако более внимательный терминологический анализ показывает, что по сравнению с международным определением культуры, где фигурирует словосочетание «ярко выраженные духовные черты», характеризующие общество или социальную группу, в российском определении культуры оно заменено словосочетанием — «совокупность присущих обществу или социальной группе отличительных признаков, ценностей, традиций и верований». Такая замена вольно или невольно наводит нас на мысль, что «духовно-мировоззренческая новизна» проекта ФЗ не только не выходит за рамки частичного заимствования содержания международного определения «культуры», бездуховного по своему смыслу, но и являет собой пример бездумного и неразумного использования международного опыта, давно устаревшего (более 30 лет) в концептуальном отношении.
Что касается сравнения российского и международного определений культурной политики, то здесь, по существу, наблюдается аналогичная ситуация неразумного заимствования и запоздалого повторения, поскольку её международное определение впервые прозвучало на конференции ЮНЕСКО (Монако) ещё в 1967 году. Согласно этому определению, «культурная политика» понимается как «комплекс операциональных принципов, административных и финансовых видов деятельности и процедур, которые обеспечивают основу действий государства в области культуры» [8, p. 5, 7]. Конечно, ни о каком духовном измерении культурной политики в этом международном определении речи не идёт. Здесь налицо доминирование функционально-технической деятельности государства в сфере культуры, которое выступает в качестве главного и даже единственного её субъекта.
Российское определение культурной политики из проекта нового ФЗ сформулировано спустя 46 лет по отношению к международному её аналогу, но «одухотворять» его, похоже, никто не собирается. Создаётся впечатление, что российские законодатели, слепо и неразумно копируя западный опыт, решили полностью дистанцироваться от понятия «духовность», считая его симптомом архаической провинциальности и традиционности. Они не обращают никакого внимания на то, что сегодня, как и вчера, о «духовном» в русской культуре продолжают говорить и рассуждать практически все граждане страны, не считая маргинальных слоёв населения РФ. Правда, в последнее время подобные разговоры в России всё чаще звучат с кризисным оттенком, когда подчёркивается, что с духовностью в нашем Отечестве дела обстоят далеко не лучшим образом.
В законодательном плане такой «духовный кризис» очевиден, что подтверждает все вышеизложенное нами касательно проекта нового базового ФЗ о культуре в РФ. Однако в этом изложении мы не затронули одну из важнейших причин духовно-законодательного кризиса в России, связанного с «Основами конституционного строя» в нашей стране, которые были разработаны и приняты в начале 90-х годов ХХ века. Как это не могло бы показаться странным на фоне вековых и тысячелетних духовных традиций русской культуры, но в указанных Основах (Статьи 1—16 Конституции РФ) отсутствуют вообще такие понятия, как «духовность» и «культура» [6]. Вместе с тем эти понятия всё-таки присутствуют в текстах важнейших документов Правительства и Президента РФ, и даже буквально, например, в правительственной Концепции 2020.
Данный документ был одобрен Правительством РФ ещё в 2008 году. В нём достаточно правильно в духовно-семантическом отношении сформулирована долгосрочная цель государственной политики в сфере культуры — «развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом» [7, с. 48— 54]. Как нетрудно заметить, здесь, в отличие от проекта нового ФЗ, на первом месте фигурирует духовно-культурный потенциал «человека» (личности), а только потом — «общества» в целом. Почему в определении культуры из проекта нового ФЗ удале- ны признаки духовно-культурной идентичности человека и гражданина России как высшей конституционной ценности российского социального государства (Статьи 2 и 7 Конституции РФ) — не ясно ни буквально, ни семантически, ни текстуально.
К сожалению, надо признать, что подобные духовно-семантические противоречия и недоразумения встречаются в законодательных и других нормативно-правовых документах, касающихся культуры и культурной политики современной России, достаточно часто. Причём они наблюдаются не только в отдельных документах различных ветвей государственной власти Российской Федерации — президентской, законодательной и исполнительной, но и в отдельных положениях конкретного документа того или иного органа государственной власти. Так, правильный духовно-семантический смысл цели государственной политики в сфере культуры, обозначенный в правительственной Концепции 2020, по непонятным соображениям умаляется за счёт выдвижения на передний план либеральнорыночных интерпретаций её приоритетных направлений.
Поскольку эти направления характеризуют долгосрочные ориентиры достижения качественных результатов в культурной политике России, постольку необходимо несколько подробнее заострить внимание на рассмотрении духовно-семантических недоразумений и недостатков в их формулировках. В Концепции 2020 таких приоритетных направлений выделено пять, а именно:
-
1. «Обеспечение максимальной доступности для граждан России культурных благ и образования в сфере культуры и искусства». Главная семантическая нагрузка здесь принадлежит словосочетаниям «максимальная доступность» и «культурные блага». Первое из них явно намекает на какие-то препятствия в самостоятельном развитии и реализации личностью своего духовно-культурного потенциала. Предполагается, что подобные препятствия в по-
лучении культурных благ может устранить сеть многофункциональных культурных комплексов, учреждений науки и образования. Однако какие духовные идеалы и ценности культуры определяют деятельность подобных институциональных структур — в Концепции 2020 умалчивается. И тем более ничего не говорится о роли человека и гражданина России в самостоятельном формировании собственного духовно-культурного самосознания и самообразования.
-
2. «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры». Здесь предыдущая идея внешних «культурных благ» сменяется идеей «услуг», которые касаются инновационной деятельности организаций культуры с явным акцентом на внедрение и распространение информационно-технологических продуктов, развитие новых направлений, видов и жанров искусства. Но искусство — это всего лишь материализованный (объективированный) результат духовной деятельности конкретной личности, который может и не присутствовать в деятельности организаций культуры. Тем самым здесь вновь умаляется значение развития и реализации внутреннего духовно-культурного потенциала человека и гражданина России.
-
3. «Сохранение и популяризация культурного наследия народов России». По всей видимости, в духовно-семантическом отношении здесь должна подразумеваться культурно-историческая идентичность народов, проживающих в регионах и субъектах РФ. Эта идентичность, по существу, определяется особенным духовным настроем культурной жизни и бытия социальных групп, этносов и народов нашей страны, специфическими способами одухотворения местной культурной среды, включая и искусственную среду — объекты культурного наследия, памятники истории и культуры. Их, конечно, надо учитывать, сохранять и реставрировать, но вот вопрос — все ли они отвечают критериям развития и реализации духовнокультурного потенциала каждой личности
-
4. «Использование культурного потенциала России для формирования положительного образа страны за рубежом». Очевидно, что здесь речь идёт о формировании глобально-культурного облика и имиджа России, в решающей мере зависящих от духовно-культурной идентичности человека, социальных групп и народов страны, а также формирования одухотворённой культурной среды в регионах и субъектах РФ. Поэтому развитие культурного сотрудничества России с иностранными государствами и реализация проектов двустороннего и многостороннего культурного сотрудничества с ними возможны только на основе совместного признания каких-либо общечеловеческих духовных идеалов и ценностей культуры.
-
5. «Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры». С учётом духовно-семантической логики изложения материала в формулировке этого приоритета культурной политики следовало бы раскрыть духовно-культурную идентичность системы управления в России, которая характеризуется духовными измерениями политической, организационной и управленческой культуры, экономической и правовой культуры, культуры власти и власти культуры в нашем Отечестве. Здесь же всё эти духовные измерения опять ограничиваются социально-институциональным смыслом развития государственно-частного партнёрства, автономных учреждений культуры, культурно-познавательного туризма, охраны авторских прав и стандартов качества услуг в сфере культуры.
и общества в целом.
Таким образом, можно достаточно уверенно констатировать, что выделенные в Концепции 2020 приоритетные направления культурной политики излишне страдают экономическим и институциональным детерминизмом. Их частные формулировки, призванные раскрыть духовно-семантический смысл государственной культурной политики в России, мало согласуются с данным смыслом, идеологически поверхностно отражая либерально-рыночные мнения и соображения авторов этих формулировок. А по большому счёту, здесь просматриваются примеры неуважительного и непочтительного отношения к духовно-семантическому смыслу культуры и культурной политики в современной России, которые, в свою очередь, плохо согласуются с духовным контекстом ежегодного Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2012 года [10].
В своём Послании Президент РФ с болью вынужден был признать, что сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп — милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи, — дефицит того, что всегда, во все времена исторически делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. По его мнению, «такая ситуация сложилась за последние 15—20 лет в России в связи с утратой многих нравственных ориентиров развития России, что сегодня проявляется в равнодушии к общественным делам, часто — в готовности мириться с коррупцией, с наглым стяжательством, с проявлениями экстремизма и оскорбительного поведения. И все это порой приобретает безобразные, агрессивные, вызывающие формы, скажу больше — создаёт долгосрочные угрозы обществу, безопасности, да и целостности России» [10].
Казалось бы, что после таких заявлений главы российского государства и гаранта Конституции РФ все органы государственной власти и гражданское общество России в целом должны целенаправленно и заинтересованно приняться, как минимум, за доработку проекта нового ФЗ и разработку новой концепции культурной политики, имея в виду их фундаментальное наполнение духовным смыслом и содержанием. Однако пока такая активность не выходит за узкие идеологические рамки политических деклараций и заявлений, не затрагиваю- щих глубинного духовного смысла развития культуры и культурной политики в России. По крайней мере, в государственных мероприятиях, посвящённых проведению Года культуры в 2014 году, пока продолжается духовно-семантическая путаница в осмыслении и понимании проблем российской культуры [9].
Итак, мы достаточно подробно рассмотрели духовно-семантические метаморфозы культуры и культурной политики современной России, связанные с превращёнными и искажёнными формами их интерпретации в важнейших документах различных федеральных органов государственной власти в нашей стране. С учётом заявления Президента РФ о дефиците духовных скреп в российском обществе, мы пришли к неутешительному выводу — теоретики и практики «от культуры» в России игнорируют и плохо понимают семантический потенциал фундаментальной категории «дух» и производных от него слов — «духовность» и «духовное». Они забывают, что нельзя эти слова использовать формально для семантического «украшения» текста, поскольку в этом случае их значение оказывается не только нежизнеспособным, но и не удерживает в системно-интегральном виде глубинную смысловую связь с семантическими характеристиками, которые присущи терминам в качестве слов живого разговорного языка.
В цели и задачи настоящей статьи не входили системно-интегральная концептуализация ноумена и феномена «духа» и «духовности» применительно к культуре и культурной политике в России, а также подробное раскрытие духовно-смысловых потенций, заложенных в этих словах. Мы только хотели в постановочном плане заострить внимание теоретиков и практиков «от культуры» на необходимости обновления его философского и мировоззренческого понимания и углубления этого понимания в законодательной и иной практике культурной жизни россиян, поскольку иг- норирование глубинно-смысловой семантики русского слова «дух» приводит, по существу, к формально-юридическому и политически безотчётному жонглированию «духовными» терминами в нормативноправовых документах, касающихся культуры и культурной политики.
Поэтому, предваряя будущие философские, культурологические, политологические, социологические и иные научные исследования проблемы духовных критериев и измерений культуры и культурной политики в России, мы хотели бы в заключении настоящей статьи обозначить в обобщённом виде их основные направления и приоритеты:
Космосе, Человеке, Обществе и Природе;
-
• в культурно-цивилизационном отношении следует отличать, но не противопоставлять духовную сущность культуры Человека и Общества от формально-правовых измерений культурной политики;
-
• в организационно-управленческом отношении требуется предпринять принципиально новые исследования культурной политики как духовно-культурной системы организационной демократии в России.
Мы отдаём себе полный отчёт в сложности решения подобных проблем, но в условиях дефицита духовных скреп в российском обществе у теоретиков и практиков
«от культуры» в России нет иного пути, как двигаться в этом направлении. По всей видимости, придётся вспомнить основательно забытые сегодня современными философами, культурологами, политологами, социологами, филологами и педагогами представления древних мыслителей о методе прочтения и понимания символических текстов [4, с. 145—168; 5, c. 66—87], поскольку «новое — это давно и хорошо забытое старое». Однако это уже тема для отдельного разговора об уровнях углубления в духовно-семантический смысл культурной жизни и бытия Человека и Общества в современной России.
Список литературы Культура и культурная политика современной России в понятийном и нормативно-правовом измерениях
- Абдулатипов Р. Г. Духовное измерение культуры//Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2011. № 5 (43). С. 6-13.
- Арнольдов А. И. Духовный мир современного человека. Москва: МГУКИ, 2011. 163 с.
- Декларация Мехико по политике в области культуры//Культуры: диалог народов мира. ЮНЕСКО. 1984. № 3. С. 77.
- Зиновьев А. В, Зиновьев А. А. Тайна Торы. Владимир, 2000.
- Зиновьев А. В. Тайнопись кириллицы. -Владимир: Покрова, 1998.
- Конституция Российской Федерации. Москва: Ось-89, 1999. 48 с.
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Москва, 2008.
- Cultural policy: a preliminary study. Paris: UNESCO, 1969.
- План основных мероприятий по подготовке и проведению в 2014 году в Российской Федерации Года культуры (Проект). Москва, 2013. 22 с.
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года [Электронный ресурс]: [веб-сайт]//Российская газета. 2012. 12 декабря. URL: www.rg.ru.
- Проект Федерального закона «О культуре в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: [вебсайт]//Российская газета. 2011. 26 октября. URL: www.rg.ru.
- Солдатов В. М. О духовно-интегральном понимании культуры и культурной политики современной России//Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2012. № 1 (45). С. 19-24.
- Солдатов В. М. О духовно-нравственном осмыслении современных проблем культуры и культурной политики России//Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2012. № 3 (47). С. 40-46.