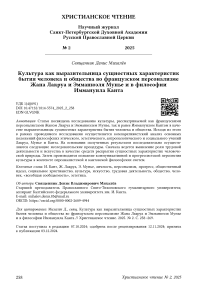Культура как выразительница сущностных характеристик бытия человека и общества во французском персонализме Жана Лакруа и Эмманюэля Мунье и в философии Иммануила Канта
Автор: Священник Денис Михалёв
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 2 (113), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию культуры, рассматриваемой как французскими персоналистами Жаном Лакруа и Эмманюэлем Мунье, так и ранее Иммануилом Кантом в качестве выразительницы сущностных характеристик бытия человека и общества. Исходя из этого в рамках проводимого исследования осуществляется компаративистский анализ основных положений философских этического, эстетического, антропологического и социального учений Лакруа, Мунье и Канта. На основании полученных результатов последовательно осуществляются следующие исследовательские процедуры. Сначала ведется выявление роли трудовой деятельности и искусства в качестве средств раскрытия сущностных характеристик человеческой природы. Затем производится описание коммуникативной и прогрессистской перспектив культуры в контексте персоналистской и кантовской философских систем.
И. Кант, Ж. Лакруа, Э. Мунье, личность, персонализм, прогресс, общественный идеал, социальное христианство, культура, искусство, трудовая деятельность, общество, человек, «всеобщая сообщаемость», эстетика
Короткий адрес: https://sciup.org/140309615
IDR: 140309615 | УДК: 1(4)(091) | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_2_258
Текст научной статьи Культура как выразительница сущностных характеристик бытия человека и общества во французском персонализме Жана Лакруа и Эмманюэля Мунье и в философии Иммануила Канта
Иммануил Кант (1724-1804) занимает особое и даже, без преувеличения, ведущее положение в плеяде мыслителей, оказавших наиболее значительное влияние на формирование философии французского персонализма Жана Лакруа (Jean Lacroix; 1900–1986) и Эмманюэля Мунье (Emmanuel Mounier; 1905–1950) [Михалёв, 2024б, 153]. В свою очередь, кантовское учение о трех природных задатках человека — технических, прагматических и моральных (Кант, 1994а, 363), органично вплетающееся в персоналистское учение о трех основных составляющих человеческой жизни — «воплощение», «сопричастность» и «призвание» (Мунье, 1999в, 59), формирует общее для исследуемых в данной публикации философских систем проблемное поле (см.: [Михалёв, 2024а, 38]). Как видится автору, рассмотренные в едином смысловом ключе, социально-антропологические учения Канта и философов-персоналистов формируют актуальные для современности ответы на следующие вопросы:
-
— что составляет сущностные характеристики бытия человека и общества;
-
— каковы пути достижения социальной гармонии и формирования образа общественного идеала.
Осознавая трудности, с которыми исследователь кантовской и персоналистской мысли может столкнуться при попытке их одновременного компаративистского анализа (см.: [Чалый, 2021, 106]), автор ставит целью вычленить из общего для них антропо-социального дискурса феномен культуры, и в ее перспективе рассмотреть как самого человека, так и общество в целом.
Приступая к работе, автор также осознает еще одну исследовательскую трудность, связанную с тем, что само понятие культуры как в кантовском, так и в персоналистском вариантах философствования обладает терминологической неопределенностью и относительностью в зависимости от контекста его употребления (см. об этом: [Жучков, 1998, 30–31]).
Поэтому для большей ясности предлагается держаться определения культуры как продукта осмысленного освоения человеком природы посредством творческого воздействия на нее.
При этом, как считает автор, в исследовании следует сосредоточиться на изучении двух основных составляющих культуры: трудовой деятельности и искусства, т. к. именно они, как будет показано ниже, обладают значительным потенциалом для раскрытия сущностных характеристик человеческой природы. Это, в свою очередь, позволит нам рассматривать самого человека как прежде всего «субъекта культуры» [Жучков, 1998, 51]. В таком случае культура, помимо первого предложенного выше варианта интерпретации понятия, будет пониматься нами также и в качестве состояния полного развития природных задатков человека в кантовском понимании (Кант, 1994б, 18) или же состояния реализации трех основных составляющих человеческой жизни в понимании персоналистской философии (Мунье, 1999а, 271).
После описанных выше исследовательских процедур будет осуществлен смысловой переход к сравнительному рассмотрению персоналистской и кантовской интерпретаций культуры, понимаемой Лакруа, Мунье и Кантом в качестве коммуникативного пространства, обладающего значительным прогрессистским потенциалом, необходимым для достижения состояния социальной гармони и приближения к положению общественного идеала.
-
I. Трудовая деятельность и искусство как средства раскрытия сущностных характеристик человеческой природы
Персоналистское учение, по утверждению Лакруа и Мунье, позволило придать трудовой деятельности позитивное по своему характеру и ориентированное на раскрытие сущностных характеристик человеческой природы смысловое наполнение в духе христианского богословия (Лакруа, 2004б, 494; Мунье, 1999г, 420). Так, исходя
из персоналистского подхода, трудовая деятельность приобретает характер интегрального единства духовной и природной сфер бытия человека. Как пишет по этому поводу Лакруа в своей работе «Чувства и нравственная жизнь» (1952), «труд находится в точке соединения духовного и биологического» (Лакруа, 2004в, 435).
Заметим при этом, что и сам человек, по персоналистским представлениям, является существом, выражающим собой дихотомическое единство природного и духовного начал. Как отмечает в связи с этим И. С. Вдовина, персоналистская антропология опирается на «особое положение человека как средоточия и конечной цели естественного процесса (природного) и начального пункта сверхъестественного откровения (исторического)» [Вдовина, 1981, 64].
Следовательно, труд, по мысли Лакруа, вполне справедливо можно назвать одним из наиболее очевидных средств раскрытия сущностных характеристик человеческой природы, поскольку он «является посредником между чистой животностью и чистой духовностью, характерной чертой того воплощенного духа, каким выступает человек» (Лакруа, 2004в, 435).
Сделаем небольшое смысловое отступление и отметим, что озвученный выше персоналистский подход к оценке антропологического статуса труда, сформулированный Лакруа и Мунье в сер. XX в., во многом сохраняет свою актуальность и для современных философских дискуссий. Так, например, С. С. Бредихин в своих размышлениях вполне в духе идей персонализма замечает, что человек, занимаясь трудовой деятельностью, «не создает культуру, она рождается объективно в ходе культивирования человеком себя, в этом смысле скорее культура рождает человека; культура, в конечном счете, есть сам человек» [Бредихин, 2015, 67].
Вновь возвращаясь к исследованию взглядов персоналистов на трудовую деятельность, отметим, что такая непосредственная связь труда с сущностными характеристиками человеческой природы ими декларировалась не всегда. Например, в своем раннем сборнике статей «Персоналистская и общностная революция» (1935) Мунье пишет: «строго говоря, труд не представляет собой ни всю жизнь человека, ни самое существенное в ней» (Мунье, 1999в, 146). В контексте прочих философских работ Мунье становится понятным, что он в данном случае имеет в виду труд как вынужденную деятельность, которой он противопоставляет труд как свободное творчество: «Необходимо отличать труд от деятельности вообще, и особенно от творчества, которое, собственно, является наивысшей духовной формой деятельности» (Мунье, 1999в, 146).
Заметим, что такая оппозиция труда как вынужденной деятельности труду как свободному творчеству проходит красной нитью через все творчество Лакруа и Мунье1. Она определяет последовательность дальнейших размышлений персоналистов о роли труда и искусства как средств раскрытия сущностных характеристик человеческой природы, составляя основу их рассуждений о культуре в целом.
Далее, уже в более зрелых работах персоналистов, во многом, как было сказано в начале этого раздела, под влиянием изучения ими христианского богословия, у них намечается тенденция к рассмотрению труда (как в творческом, так и в вынужденном формате) в положительной по своему характеру антропологической перспективе. Например, в трактате «Страх в XX веке» (1948) Мунье помещает труд в самую сердцевину христианского учения о Боге и человеке, подчеркивая, что «Христос — первый, кто получил жизнь от творчества», а потому «Теперь уже не труд, а праздность предают позору отцы Церкви» (Мунье, 1999г, 420).
Лакруа же в своих рассуждениях о труде во многом опирается на идеи французского католического мыслителя Жозе Вьялату (Joseph Vialatoux; 1880–1970). Так, например, в своей работе «Человеческий смысл труда» (1953) Вьялату в близкой персонализму манере подчеркивает, что трудовая деятельность по своей дихотомической природно-духовной сути позволяет человеку быть вовлеченным в двоякий процесс практического постижения реальности. С одной стороны, в познание природы, подвергающейся творческому воздействию на нее человека, а с другой стороны — в познание самого себя как актора этого творческого усилия [Vialatoux, 1953, 199–200].
В итоге основное содержание всех богословских интерпретаций труда, предложенных Лакруа и Мунье, можно резюмировать в духе идей современника персоналистов — кардинала Йозефа Лео Кардейна (Jozef Leo Cardijn; 1882-1967) 2 . Например, кардинал Кардейн формулирует значимость христианской концепции труда следующим образом: «Только она (христианская концепция труда. — свящ. Д. М. ) способна объяснить гуманистический аспект труда, а также отличие человеческого труда от деятельности животного, машины, невольника; только она охраняет человеческое достоинство, формулируя назидательный и духовный характер труда» [Cardijn, 1942]. Иными словами, как отмечает Н. С. Семенов, именно «В христианском персонализме... мы найдем раскрытие богатства труда как специфически человеческой категории» [Семенов, 2010, 119].
Очевидно, что рассматривая труд в таком позитивном по своему характеру содержательном ключе, актуализирующем основные характеристики человеческого существования, под трудом следует понимать, как считает Мунье, его высший вариант — «труд как творчество» (Мунье, 1999г, 420). Лакруа в свою очередь подчеркивает, что только такой труд может «служить формированию личности, если речь идет о том, что человек сам создает то или иное произведение, действуя при этом в полной свободе» (Лакруа, 2004а, 31). Правильнее будет именовать такой вид творческой трудовой деятельности искусством, лежащим в основании процесса формирования личности и культуры.
Действительно, только свободно реализуемый и творческий по своему характеру труд позволяет персоналистам определять его в качестве инструмента созидания будущего человеческой культуры и самого себя, на ниве чего и подвизается одухотворенный творец — истинный персоналист. Как пишет об этом сам Лакруа, человек, стремящийся реализовать себя в качестве личности, всегда стоит перед важной и религиозной по своей сути задачей: «строя будущее, постоянно одухотворять прошлое: такое возможно, только если я обладаю длительностью, то есть если я причастен вечности, постоянно трудясь во времени» (Лакруа, 2004в, 443).
Исходя из этого, культура, рассматриваемая в персоналистской перспективе, имеет двойное смысловое значение. С одной стороны, она является продуктом творческой деятельности человека (труда и искусства), результатом интегрального единства созерцания и практики. С другой же стороны, культура является и зримым проявлением вовне той жизненной глубины самого человеческого естества, где культура — «это главное в человеке, если подразумевать под культурой труд и созерцание, создание произведения и размышление о нем» (Лакруа, 2004в, 450).
В своем философско-антропологическом учении Кант за основу предложенных им рассуждений также берет дихотомическую модель человека, который представляется
2 Кардинал Й. Кардейн примечателен тем, что в период активной творческой деятельности Лакруа и Мунье являлся основателем и руководителем католического рабочего движения «Профсоюзная молодежь» (фр. La Jeunesse Syndicaliste). Богословское же осмысление им феномена трудовой деятельности нашло отражение в подготовленных Кардейном тезисах «к энциклике „Mater et magistra“ папы Римского Иоанна XXIII, посвященной проблеме труда в современном мире» [Крысов, 2017]. Содержание энциклики весьма близко по своей идейной доминанте персоналистской философии Лакруа и Мунье.
ему существом, одновременно относящимся как к «чувственно воспринимаемому миру» природы, так и к «умопостигаемому миру» свободы (Кант, 1965, 297). Свобода при этом, как подчеркивает Кант в «Критике практического разума» (1788), является той категорией, которая в полной мере выражает личностный характер человеческого бытия: «Это не что иное, как личность, т. е. свобода и независимость от механизма всей природы» (Кант, 1997, 511). В «Критике способности суждения» (1790) Кант указывает на то, что свободный и осознанный труд, или, иначе, искусство, — это то, что отличает человека от даже самых организованных животных3. Этот факт позволяет «назвать искусством лишь созидание посредством свободы или произвола, полагающего в основу своих действий разум» (Кант, 1994в, 144), тем самым сообщая искусству характер присущей только одному лишь человеку деятельности, выявляющей в нем самом подлинно личностный формат его существования.
Нетрудно заметить, что и в кантовской философии изначально присутствует диада понятий, во многом идентичная персоналистской: искусство как осмысленный творческий труд — и ремесло как вынужденная трудовая деятельность. На эту особенность обращает свое внимание и В. Ф. Асмус, подчеркивая, что, по Канту, «искусство — деятельность специфическая и несводимая к другим явлениям. Оно отличается и от природы, и от науки, и от ремесла, и от техники» [Асмус, 1962, 232].
На раскрывающий сущностные характеристики человеческой природы и одновременно моральный формат осмысленной трудовой деятельности (понимаемой как искусство) в кантовской философии обращает свое внимание Н. Боуи. Он замечает, что, по Канту, осмысленный труд, т. е. труд, имеющий цель и осуществляемый свободно, является одним из инструментов нравственного развития человека [Bowie, 1998, 1083]. В свою очередь Б. Ресслер утверждает, что кантовский принцип осмысленного труда как искусства является наилучшей возможностью для человека «реализовать собственные таланты и способности, а также проявить свою „индивидуальность“ в творчестве и свободно реализуемой деятельности» [Roessler, 2012, 88].
В целом в своих рассуждениях Кант придает занятиям искусством и наукой роль универсальных педагогических средств, которые, по мысли философа, наряду с трудовой деятельностью4 являются наиболее действенными «катализаторами», ускоряющими процесс совершения антропологического скачка от изначальной природной животности к личностному существованию как подлинной человечности (Кант, 1994а, 366).
Резюмируя все вышесказанное, обратим внимание на следующее. Кант формулирует свою теорию культуры, интегрируя проблему человека и его свободы в телеологический и этический философские дискурсы. Объясняет он это следующим образом: «именно культура делает человека свободным для любых целей» [Стеценко, 2024, 260]. Как будет видно из дальнейшего исследования, целями этими, помимо личностного становления человека, также являются достижение социальной коммуникативности и формирование перспективы приближения к положению общественного идеала.
Итак, как Кант, так и персоналисты Лакруа и Мунье сходятся во мнении, что трудовая деятельность, а в особенности ее высшая свободная и творческая форма — искусство, со всей справедливостью могут быть наделены функцией средств раскрытия сущностных характеристик человеческой природы. Это, в свою очередь, позволяет рассматривать культуру в коммуникативной и прогрессистской перспективе, а сами продукты труда и произведения искусства — в качестве средств социальной коммуникации и развития общества.
-
II. Коммуникативная и прогрессистская перспективы культуры
Обращаясь к раскрытию понятия культуры с т. зр. персоналистского учения, Лакруа и Мунье во многом исходят из концепции социального христианства. В частности, философы-персоналисты подчеркивают, что процесс созидания цивилизации и культуры является общим делом наиболее активной части человечества, объединенной верой в Бога. Иными словами, именно на христианах лежит основная ответственность за гармоничный общественный диалог и устойчивое развитие всего человечества. В персонализме социальная парадигма этого глобального прогрессистского процесса порождает целый ряд размышлений на тему социального диалога, солидаризации и духовного взаимообогащения всех членов общества.
Так, например, критикуя вынужденную трудовую деятельность за ее несвободный для человека характер, Мунье при этом выделяет в ней высокий потенциал социальности, коммуникативности и солидарности. Философ подчеркивает, что «труд… создает между всеми теми, кто посвящает себя ему, тесное сообщество, объединенное чувством соучастия, конкретной и бескорыстной солидарности, взаимодействия и товарищества» (Мунье, 1999в, 147).
В свою очередь Лакруа указывает на социальный и одновременно духовный характер культуры следующим образом: «в основании любой культуры лежит великодушие, ведущее „я“ и „другого“ к развитию, к взаимному их становлению в качестве личностей» (Лакруа, 2004в, 450). Мунье вторит своему коллеге: «художник, не изменяя своему искусству, должен стремиться всей душой возобновить прерванный диалог с людьми» (Мунье, 1999в, 133). Иными словами, Мунье тем самым указывает на то, что деятель искусства должен не просто стремиться к эстетическому самовыражению, а, как будет показано ниже, — стараться быть создателем ценностных смыслов для общества в целом посредством выразительных средств художественного языка.
Таким образом, в рассматриваемой коммуникативной перспективе, формируемой персоналистскими идеями Лакруа и Мунье, культура становится не просто зримым итогом коллективного творческого усилия человечества. В своей глубинной сути культура становится выразительным средством отражения целостного характера человеческого существования как такового. Рассматриваемая в таком смысловом ключе, культура выполняет функцию объединяющего начала эстетического и этического, природного и человеческого, идеального и материального планов бытия.
В таком случае труд и искусство должны пониматься как «вовлечение человека в природу и в общество» и, исходя из этого, — «то, что называют цивилизацией, есть не что иное, как идея, работающая в мире» (Лакруа, 2004в, 437). Иными словами, культура формирует пространство общественной коммуникации, сопровождающейся процессом духовного взаимообогащения всех участников творческой деятельности: «художественное произведение — это место встречи личностей, — личности, сотворившей это произведение, и личностей, воспринимающих его» [Вдовина, 1981, 97].
В свою очередь Мунье, рассуждая о современном искусстве, подчеркивает, что оно должно быть доступным к пониманию широким общественным массам, при этом служа цели их морального совершенствования. Но, следуя этой цели, художник должен опасаться того, чтобы его произведения не превратились в «низкопробный компромисс, предназначенный скорее для того, чтобы мы спокойно воспринимали реальность, чем посягали на ее тайны» (Мунье, 1999б, 513). Для этого художник-персоналист должен знать человека, любить его и служить интересам его развития, противостоя разрушительной тенденции, при которой бы «завтра более всего удаленные от народа художники не стали бы определять пути великого народного искусства» (Мунье, 1999б, 513; Mounier, 1947).
Таким образом, современный художник, верный своей персоналистской миссии, должен противостоять ложной элитарности искусства, понимая, что «рафинированному искусству, предназначенному для избранных, свойственны усложненность, загадочность или голый расчет» (Мунье, 1999б, 513) или попросту эгоистическая самозамкнутость на идее «искусства ради искусства». Таким образом, Мунье, также как и Лакруа, делает акцент на функции искусства как катализатора духовного развития человека, формирующего его личность: «искусство должно создаваться для человека, во имя него и его осуществления» (Мунье, 1999в, 129).
Постепенно становится очевидным, что в своей оценке значения культуры Лакруа и Мунье занимают прогрессистскую позицию. По их мнению, в некоем предельном телеологическом приближении культура должна выполнить созидательную функцию стимуляции процесса достижения человечеством положения общественного идеала. Так, например, Лакруа на этот счет пишет следующее: «с помощью культуры человек соединяется с миром и с другим человеком: благодаря культуре природа очеловечивается, а объем понятия „человечество“ постоянно приближается к его содержанию» (Лакруа, 2004в, 450).
Однако вполне очевидно, что с точки зрения христианского богословия, на которое опирается персонализм, данная прогрессистская цель не может быть реализована одними лишь человеческими усилиями. Вдохновить на этот глобальный гуманистический проект и одновременно дать силы для его реализации может только Бог. На это обращает свое внимание еще один идейный соратник Лакруа и Мунье — католический философ-персоналист Морис Недонсель (Maurice Nédoncelle; 1905–1976), подчеркивая, что настоящий творец «видит мир в Боге и намеревается реализовать Бога в мире; суть его усилия в том, чтобы дополнить то, чего нам недостает, — Абсолюта» [Nédoncelle, 1953, 40].
Фактически, этим тезисом в персонализме постулируется концепция синергии между Личностью Бога-Творца и личностями людей-творцов в деле преобразования человеческой цивилизации. В этом случае искусство и труд, на занятие которыми человека вдохновляет Сам Бог, становятся средствами такого соработничества. Соответственно, в персоналистском понимании представители творческих профессий наряду с рабочими исполняют роль революционного авангарда в деле прогрессивного развития человечества, приближающего его к положению общественного идеала.
Обращение к кантовской философии позволяет увидеть, что и кенигсбергский мыслитель, подобно персоналистам, сообщает культуре характер не столько индивидуального, сколько социального феномена. Это объясняется, как считает Кант, наличием у произведений искусства свойства т. н. «всеобщей сообщаемости» (нем. Mitteilbarkeit) эстетического чувства удовольствия (Кант, 1994в, 147). Так, раскрывая кантовское понимание коммуникативного и одновременно социального статуса свойства «всеобщей сообщаемости» эстетического чувства, В. Подорога отмечает: «В суждениях вкуса Кант выделяет основной тон: сообщаемость, Mitteilbarkeit . Есть условие сообщаемости, и тогда можно говорить о со-общении, о том, что общение состоялось и что сообщество сложилось» [Подорога, 2022].
Таким образом, «всеобщая сообщаемость», по мнению Канта, становится своего рода универсальным условием коммуникации, невербальным языком, позволяющим общаться и без слов понимать друг друга любому человеку посредством единого для них «общего чувства» (лат. sensus communis; нем. Gemeinsinn) прекрасного. Это объясняется тем, что само чувство прекрасного, как замечает Ч. Дебор, имеет универсальный общечеловеческий характер, передача которого «осуществляется без помощи определенного языка или понятий» [DeBord, 2012, 187] и сопровождается сопутствующей ему «огромной эмоциональной силой» [DeBord, 2012, 187].
При этом же, когда мы пытаемся вербализировать полученное от созерцания произведений искусства впечатление, а значит, сделать его передаваемым через суждения, мы не утрачиваем его универсального и априорного характера. Как замечает по этому поводу М. Чаули, интерпретируя «Критику способности суждения»
Канта, «утверждение о том, что (то или иное произведение искусства. — свящ. Д. М. ) „прекрасно“, является началом передачи другому мысли о том наборе эмоций, которые в нас пробудились (от созерцания этих произведений искусства. — свящ. Д. М. )» [Chaouli, 2017]. И, как развивает далее эту мысль В. Ф. Асмус, «Суждения эти (о прекрасном. — свящ. Д. М. ) — и синтетические, и притязающие на априорность» [Асмус, 1966, 51] одновременно, а поэтому, даже если личное суждение о прекрасном предмете искусства и является по форме субъективным, тем не менее «оно будет уже априорным, если я нахожу предмет прекрасным. В этом случае я от каждого могу требовать как чего-то необходимого, чтобы он испытывал от этого предмета то же самое удовольствие» [Асмус, 1966, 52]. Тем самым, можно с уверенностью утверждать, что априорно-синтетический характер эстетических суждений в понимании Канта формирует общую коммуникативную среду общения между людьми.
Поэтому, как замечает С. Ваккарино Бремнер, в кантовских работах (в первую очередь в «Критике способности суждения» и в «Антропологии с прагматической точки зрения») довольно часто встречается мысль о том, что «эстетическое суждение в значительной степени связано с реальными случаями общения между субъектами» [Vaccarino Bremner, 2021, 535].
Еще глубже коммуникативную перспективу кантовской идеи «всеобщей сооб-щаемости» эстетического чувства раскрывает Э. Кассирер. В частности, он указывает на то, что «всеобщая сообщаемость» эстетического чувства создает ситуацию, при которой «каждый субъект остается в самом себе полностью погруженным в свое внутреннее состояние, и вместе с тем он одновременно ощущает себя… носителем общего чувства, которое не принадлежит больше „тому“ или „другому“» [Кассирер, 1997, 286–287]. Иными словами, «всеобщая сообщаемость» эстетического чувства, по сути, выполняет важную коммуникативную и в то же время «парадоксальную задачу: представить общее, которое есть не противоположность индивидуальному, а его чистый коррелят, ибо оно только в нем получает свое осуществление и изображение» [Кассирер, 1997, 287].
Иными словами, погружение в эстетическое созерцание заставляет с удивлением обнаружить, что являющееся лично для меня чувство прекрасного является таковым и для другого человека, устраняя тем самым между нами изначальный барьер, который препятствовал нашему взаимопониманию и общению.
На коммуникативный характер кантовского понимания искусства вновь обращает свое внимание В. Ф. Асмус, подчеркивая, что «понятие всеобщей сообщаемости… главенствует в эстетике Канта» [Асмус, 1962, 229]. В свою очередь Е.Я. Басин отмечает, что «Кант называет тяготение к обществу, общительность в качестве атрибута человека», что в контексте кантовского взгляда на связь эстетики и социальной коммуникации означает, что «Именно благодаря всеобщей сообщаемости эстетического удовольствия… оно приобретает интерес для общества» [Басин, 2012, 24].
Интересен в связи с этим и взгляд П. Кислана, рассматривающего учение Канта о культуре сквозь призму философии Георга Зиммеля (Georg Simmel; 1858–1918). Как считает словацкий исследователь, Зиммель смог выявить в кантовском понимании культуры факт ее глубокой социальности. Так, по Канту, культура, также как и общество, является продуктом «синтеза активных субъектов и их взаимоотношений» [Kyslan, 2016, 161].
Резюмируя все сказанное выше, мы можем говорить о том, что культура в кантовском понимании, выводя отношения между людьми на новый, универсальный эстетический уровень коммуникации, закладывает основание для формирования идеи всемирного общества, объединенного «общим чувством прекрасного». Однако, как поясняет Ю. Нагано, такое всеобщее «эстетическое общество», в отличие от общества реального, может мыслиться лишь на уровне хоть и очень привлекательной, но все же регулятивной идеи [Nagano, 1986, 138].
Итак, исходя из социального и универсального свойств эстетики, на которые указывает Кант, искусство во всех его проявлениях является важнейшим средством общения между людьми (Кант, 1994в, 146–147). Включая эти формы искусства в общее для немецкого Просвещения понятие «образование» («воспитание») (нем. «Bildung»), Кант в традиционном для своей философской системы ключе наполняет их моральным содержанием. На это, например, указывает А. А. Черничкина, отмечая, что «И. Кант вносит в содержание понятия Bildung приоритет морали», т. к. «Именно моральность есть высшая составляющая культуры, которая возносит человека над всей природой» [Черничкина, 2016].
Таким образом, в философии Канта постулируется факт тесной взаимосвязи между культурой как продуктом социально-исторического усилия человеческого общества по преображению природы посредством практики через труд и искусство — и культурой как результатом внутреннего процесса морального развития человечества. Иными словами, как отмечает Н. Ротенштрайх, Кант, формулируя мысль о морально-практическом характере культуры, тем самым намечает и «тенденцию, указывающую на попытку отождествить общество с культурой», где «историческое развитие человечества — это формирование его природных задатков, ведущих к культуре» [Rotenstreich, 1989, 306–307].
Исходя из этого, взгляд Канта на социальный характер эстетики становится примечателен также и тем, что искусство, как было выяснено выше, служит для него средством общественного прогресса, приближающего человечество (хотя бы даже и в форме регулятивной идеи) к своей культурной развитости. Иными словами, разнообразные формы искусства, «эстетизируя» отношения между людьми, преобразуют тем самым саму социальную ткань человеческого существования, «посредством отточенности вкуса и утонченности в общении делают людей если не лучше в нравственном отношении, то, во всяком случае, более цивилизованными» (Кант, 1994в, 276). Тем самым, эти средства культурного воспитания «подготавливают человека к такому устройству, в котором вся власть будет принадлежать только разуму» (Кант, 1994в, 276).
Таким образом, как отмечает М. Деспленд, вера Канта в силу культуры по сути «является верой в возможность прогрессивной гуманизации человека и реализации его свободы посредством мудрого социального устройства и исторических достижений» [Despland, 1973, 88].
Заключение
Итак, проведенное исследование позволяет утверждать, что Лакруа, Мунье и Кант рассматривают культуру как одну из важнейших форм выражения сущностных характеристик бытия человека и общества. Для обоснования этого тезиса были решены следующие исследовательские задачи:
-
— проанализирована роль основных элементов культуры — трудовой деятельности и искусства — как средств раскрытия сущностных характеристик человеческой природы;
-
— произведено описание коммуникативной и прогрессистской перспектив культуры.
В ходе исследования выяснено, что философы-персоналисты и Кант в своих рассуждениях исходят из понимания человека как природно-духовного существа. В свою очередь, и трудовая деятельность с искусством по своему характеру являются интегральным единством практики и созерцания. Следовательно, благодаря своей онтологической схожести с человеческой природой труд и искусство могут выступать в роли средств раскрытия ее сущностных характеристик.
Закономерным следствием анализа персоналистской и кантовской концепций культуры становится ее восприятие в качестве пространства общественного диалога и «катализатора» социального прогресса. Однако если, по Лакруа и Мунье, средствами общения являются продукты труда и произведения искусства сами по себе, то в философии Канта коммуникативный характер культуры обеспечивается таким ее свойством, как «всеобщая сообщаемость» эстетического чувства.
Философы также сходятся во мнении, что благодаря своему не только эстетическому, но и этическому характеру культура способствует духовно-нравственному развитию всех участников общественной коммуникации, в которую она их вовлекает. Исходя из этого Лакруа, Мунье и Кант приходят к выводу, что на культуру возлагается функция стимулирования процесса реализации общественного идеала. Однако если, по мнению персоналистов, в основе процесса достижения общественного идеала лежит принцип соработничества человека с Богом посредством трудовой деятельности и искусства, то в кантовской философии для решения этой задачи человек, используя эти же средства культуры, должен опираться исключительно на свою автономную гуманистическую ценность и моральность.