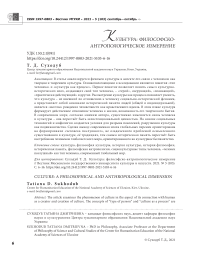Культура: философско- антропологическое измерение
Автор: Суходуб Т.Д.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 5 (103), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется феномен культуры в аспекте его связи с человеком как творцом и творением культуры. Основополагающими в исследовании являются понятия «тип человека» и «культура как процесс». Первое понятие позволяет понять смысл культурно- исторических эпох, создающих свой тип человека, - «герой», «верующий», «познающий»,«практически действующий» и другие. Рассмотрение культуры как процесса позволяет уяснить, что культура - не внешний по отношению к человеку социально-исторический феномен, а представляет собой основание исторической памяти людей (общей и индивидуальной), является «местом» рождения человечности как нравственного идеала. В этом плане культура формирует действенное отношение человека к жизни, возможность его творческого бытия. В современном мире, согласно мнению автора, существенно изменяется связь человека и культуры - она перестаёт быть экзистенциональной ценностью. На основе социальных технологий и мифологии создаются условия для разрыва поколений, разрушения культуры как подвижничества. Сделан вывод: современная эпоха глобальных перемен ориентирована на формирование «человека послушного», не озадаченного проблемой осмысленного существования в культуре, её традициях, тем самым историческая память перестаёт быть востребована человеком глобалистского мира, ориентированного на культурное беспамятство.
Культура, философия культуры, история культуры, история философии, историческая память, философская антропология, социокультурные типы человека, "человек послушный" как тип человека, современный глобальный мир
Короткий адрес: https://sciup.org/144162237
IDR: 144162237 | УДК: 130.2:1(091) | DOI: 10.24412/1997-0803-2021-5103-6-16
Текст научной статьи Культура: философско- антропологическое измерение
Культура как феномен духовного и социально-исторического бытия человечества, как непосредственный процесс реализации творческих сил человека и его главное жизненное призвание, представляла и будет представлять интерес для нынешних и последующих поколений. Ведь человек есть одновременно творение культуры и её творец. Ведь человек и культура соотносительны в своём историческом развитии настолько, что рассматривать их как отдельные явления общественного бытия не имеет смысла. Отсюда цель статьи – проанализировать проблемные ситуации бытия человека в современном мире в аспекте отношения «человек – культура».
Культура становится предметом философского анализа довольно поздно. Согласно М. Хайдеггеру, эта философская задача поставлена была только в новоевропейскую эпоху. Именно XVII столетие выступило, по его мнению, в истории человечества в отношении культуры определённым «переломом»: человек, исторически изначально существуя в культуре, только в этот исто- рический период, ставя задачу отыскать пути к истинному знанию, выстраивая науку как социальный институт, осознал и особую роль культуры, причём не столь в социальном, сколь в индивидуально-личностном плане, хотя и первое, безусловно, важно. Смысл, историческое бытие культуры философ определил через свойственные ей ценностные основания, вырабатываемые самим человеком: «Культура есть … реализация верховных ценностей путём заботы о высших благах человека. В существе культуры заложено, что подобная забота со своей стороны начинает заботиться о самой себе и так становится культурной политикой» [10, с. 42]. В это же время особенно большое значение для существования человека приобретает и такая часть культуры, как искусство, которое стало пониматься в аспекте эстетического его предназначения: «… искусство вдвигается в горизонт эстетики, – отмечает Хайдеггер. – Это значит: художественное произведение становится предметом переживания и соответственно искусство считается выражением жизни че- ловека» [10, с. 42]. О новоевропейском «открытии культуры» размышляет и В. М. Межуев, подчёркивая, что «… в течение дли- тельного времени люди жили в культуре, творили её, но не делали её объектом познания. И сейчас ещё существуют культуры, не нуждающиеся ни в каком специальном знании о себе» [6, с. 42]. Важный акцент в понимании феномена культуры как целостного исторического результата делает А. Вебер, подчёркивая индивидуально-личностный характер этой созидательной деятельности, творческое её наполнение: «Все эманации культуры, – пишет он, – всегда “творения”. Они несут на себе знак каждого творения, имеют характер “исключительности” и “однократности” …» [4, с. 23].
Обобщая означенные и другие подходы к феномену культуры, можно, на наш взгляд, утверждать, что нужда в осознании места и роли культуры в историческом развитии, особенно к ХIХ веку, выявила себя столь остро, что на сегодня насчитывают уже порядка двухсот определений культуры, рассматривающих этот феномен в самых разных измерениях – как реализацию творческих сил человека и главную общественную ценность, как универсальную меру гуманистического бытия социума и условие духовно-нравственного роста человека и т.д. На этих и других основаниях сформировалось немало концептуальных подходов к пониманию культуры – аксиологический, социально-философский, социологический, деятельностный, религиозный, а также варианты толкования феномена культуры в контексте исторических традиций, конкретных научных дисциплин и другие.
Современный дискурс настолько богат разнообразием постановок вопросов в области культурологии и философии куль- туры, что на сегодня (и по праву имеющегося знания) создаются целые антологии исследовательских направлений [2], в ко- торых представлены не только авторские концептуализации и интерпретации культуры, но и тематизации имеющихся научно-теоретических подходов, в частности, речь идёт о методологиях культурологического анализа, концепциях наук о культуре, типологии культуры, выделении фундаментальных характеристик культуры и других. На таком исследовательском базисе вполне закономерно вызрело (при всей наблюдаемой множественности подходов к феномену культуры и концептуальном разномыслии в отношении анализа её проявлений) консенсусное понимание культуры как целостного феномена человеческого бытия. Так, культура определяется как «система исторически развивающихся надбиологических программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения)», которые «представлены многообразием знаний, норм, навыков, идеалов, образцов деятельности и поведения, идей, гипотез, верований, целей, ценностных ориентаций и т.д. В своей совокупности и динамике они образуют исторически накапливаемый социальный опыт. Культура хранит, транслирует этот опыт (передаёт его от поколения к поколению)» [7, с. 341].
Однако сколь точно ни определялась бы культура как понятие или как концепт в тех или иных теоретических подходах к ней, культура как живое дело человека, как процесс его свободной творческой деятельности будет постоянно нуждаться в своём переосмыслении. Ведь культура – это не только и не столько «вместилище» всего собственно человеком созданного (чем она и отличается от природы), но и «место» рождения в человеке человечности как вы- работанного историей культуры общественного идеала, а потому и важнейшего принципа формирования мира людей. В этом смысле культура – не «музей» (который, впрочем, в качестве социального института тоже нуждается в постоянном обновлении, развитии), а путь жизни, по которому человек призван идти, образно говоря, без остановок (если, конечно, он осознал свою собственную самость и призвание к культуре).
Отсюда культура – то «место», где человек постоянно присутствует, действует, творит себя и других, ищет варианты разрешения противоречий своего бытия вне опыта разрушения собственного мира. Не случайно поиск идей гуманизации общественного бытия сопровождает всю историю человечества – от такого социального образования, как древнегреческий полис, и до современных общественных институтов. В этом ряду, например, культивирование киниками-космополитами (исходившими из понимания смысла жизни как деятельности согласно законам добродетели) идеала дружбы как таких взаимоотношений между людьми, которым под силу заменить даже столь мощную сферу управления, как политическая; в этом ряду, конечно же, и ренессансное движение гуманизма, и толкование философами-просветителями прав человека, и марксистская идея преодоления проклятия отчуждённого труда, да и современные теории справедливости, и другие. Тем не менее созданный человеком мир не стал по отношению к нему проявляться менее жестоко, чем это было в прошлые времена (меняются лишь «идеологии» применения силы и «точки» её приложения). Неизменной же остаётся следующая тенденция исторического движения (развитием эту поступь назвать трудно): каждая эпоха отмечается возможностью, а иногда – и ничем не прикрытым требованием жертв, конкретных человеческих жизней (правда, в силу разных идейных обоснований). Складывается убеждение, что опыт двух мировых войн (не говоря уже о других исторических испытаниях ХХ века) человечеством не воспринят, не освоен настолько, что и ныне кровавых исторических «повторений» не удаётся избегать, а знаменитое высказывание Т. В. Адорно о невозможности культуры представляется не только утверждением в отношении прошлого исторического пути, но и пророческим суждением – в отношении грядущего.
Конечно, ещё достаточно сильна вера, что слова философа несут в себе всё-таки предостережение, а не предсказание. Тем не менее пережитые обстоятельства заставляют Адорно вынести, по сути, строгий приговор истории человечества: «После Освенцима любая культура вместе с любой её уничижительной критикой – всего лишь мусор» [1, с. 327]. Столь жёсткая констатация состояния мира людей всё меньше воспринимается как метафора, но всё больше – как выражение бесконечной тревоги о человеке, отражающей понимание силы не-человечности, открывшейся в общественно-исторических катастрофах и перманентных их угрозах. Отсюда философ уточняет свою мысль, акцентируя внимание на невозможности жизни, что является следствием таким вот трагическим образом «прогрессирующей» культуры: «… неверно, неправильно, что после Освенцима поэзия уже невозможна. Правильно, наверное, будет задаться менее “культурным” вопросом о том, а можно ли после Освенцима жить дальше …» [1, с. 323]. Ответ Адорно однозначен: «Тот, кто ратует за сохранение культуры, пусть даже виновной во всех грехах, пусть даже убогой, тот пре- вращается в её сообщника и клеврета; тот, этот тип сменяется человеком творческого кто отказывается от культуры, непосредственно приближает наступление эпохи варварства …» [1, с. 327].
Такой исторический контекст бытия культуры в минувшем веке предполагает, на наш взгляд, поиск ответов на следующие, по крайней мере, вопросы: а какая (по содержанию и форме) культура формирует самосознание современного человека, а какой человек (по типу своего самосознания) творит культуру современной эпохи, а что собой представляет феномен современной культуры – может ли она быть действенным условием формирования человечного человека, способного на сострадание, желающего если и не любить, то хотя бы пытаться понимать тех, кто живёт с ним рядом? Конечно, это не риторические вопросы, но такие, на которые отвечают, скорее, не рассуждением, а собственной жизнью, как отдельные люди, так и поколения людей. Однако для того чтобы узнать современного человека, требуется посмотреть на формирование людей как определённых социокультурных типов сквозь призму минувшей истории.
Любая историческая эпоха определяется типом человеческого самосознания. Так, столь характерные для ранней Античности мифологические обобщения в первых онтологических размышлениях, а также космоцентризм эллинского мировоззрения закономерно порождают тип «человека-героя», сражающегося с неотвратимой судьбой. Средние века открывают три смысла человеческого культурного действия, соответственно – и три человеческих типа – «молящихся», «сражающихся», «производящих» (согласно А. Я. Гуревичу), дополняющих друг друга и в целом представляющих «человека верующего». В последующей истории поиска, эстетико-художественного призвания, типичным для эпохи Ренессанса и прорастающим в видоизменённых формах в последующие столетия; позднее формируется человек рациоцентрированной культуры – человек мыслящий (познающий), поставивший задачу знать мир и себя, понимать их, причём не по собственному мнению, а по научной истине (дабы не допустить перекосы в сторону субъективности), для чего ему становится важно найти верную методологию, дающую надежду на объективное знание.
Просветительская традиция и классическая философия выпестуют человека, уже не просто стремящегося к знанию, но и практически действующего согласно выработанной научным познанием всеобщей теории. Такой по типу человек желает изменять себя и мир с учётом как своих собственных интересов (ибо каждый – «человек частный», следовательно в той или иной степени эгоистичный, по образу жизни, скорее, эмпирический индивид), так и с пониманием общих интересов (ибо живёт человек среди других людей, значит объединён с ними поиском общественно должного, смыслами нравственных идеалов и потому являющийся носителем и «всеобщего» разума, морали, права, справедливости, гуманности и других ценностных начал бытия). Такого рода идейные «приобретения» исторического пути европейского человечества послужили теоретической предпосылкой общественных трансформаций в период новейшей истории.
Правда, здесь нельзя не учесть и особую роль в социокультурных процессах ХХ столетия такого феномена, как массовая культура, соответственно – и такого человеческого типа как «массовый че- ловек», для которого в первую очередь, на наш взгляд, характерно некритическое восприятие действительности, что приводит и к усреднению духовных интересов, и к примитивизации межличностных взаимоотношений, и к ориентации на культуру как всего лишь общедоступный способ развлечения, и многому другому. Но главное негативное следствие заключается, пожалуй, в том, что распространение массовой культуры предельно обострило проблему существования культуры личностной. Культура, понимаемая как поиск смыслов человеческого бытия, ценностного самоопределения человека, легко сменилась на уровне «общего» (массового) умонастроения толкованием культуры как некоего «товара», созданного по упрощённому, но весьма востребованному образцу. Подвижническая деятельность, работа по утверждению принципа человечности, служение «высшим благам» (М. Хайдеггер) такой «культуре» уже не нужны. В данных обстоятельствах закономерно появляется человек, не знающий иного способа существования в культуре, кроме потребления предлагаемых псевдо-образцов, стандартизирующих его образ жизни. Причиной такого антагонизма двух культур, двух вариантов бытия человека в культуре, безусловно, выступило противоречие между культурой и цивилизацией, что подмечалось ещё в ХIХ веке Н. Я. Данилевским, К. Н. Леонтьевым, чуть позднее О. Шпенглером, А. Тойнби и другими.
Открыв, таким образом, культуру в себе и своём человеческом мире как безусловную онтологическую основу, очень скоро (по историческим меркам) человек стал осознавать декаданс культуры, её хрупкость, если не сказать гибельность, незащищённость в обстоятельствах историче- ски побеждающей цивилизации. Концептуализаций, раскрывающих разрушительное воздействие цивилизации на культуру, в веке XX-м немало, но, пожалуй, особенно заострена эта проблема в аспекте негативного образа будущего человечества у Н. А. Бердяева, подчёркивающего судьбоносность для человечества решения именно этого вопроса: «В нашу эпоху нет более острой темы и для познания, и для жиз-ни,– утверждал он, – чем тема о культуре и цивилизации, об их различии и взаимоотношении. Это – тема об ожидающей нас судьбе. А ничто не волнует так человека, как судьба его» [3, с. 162]. Философа крайне тревожило состояние современной культуры, утверждающей «… начала, которые неотвратимо влекут её к цивилизации. Цивилизация же есть смерть духа культуры …» [3, с. 163]. В рассуждениях Бердяева невольно читается напоминание человеку о его собственной ответственности за судьбу культуры.
В контексте трагически опасной для истории, разрушительной для человечества связи цивилизации и культуры мыслит и П. А. Флоренский. Как православный мыслитель, он поясняет историческое становление и развитие культуры в связи с религиозным культом. Опираясь на мысль Н. Ф. Фёдорова о культе («единство всего и единство всех», «общее дело»), Флоренский предостерегает человека грядущего века, могущего разрушить вместе с культурой и самого себя: «Отщепенство лиц, или их отдельных действий, – пишет он, – есть попытка потрясти основы человеческой культуры – и если бы она в самом деле увенчалась успехом, то была бы уничтожением ч ел о в е к а » [8, с. 157]. В логике размышлений П. А. Флоренского можно, на наш взгляд, рассмотреть «культ» и в более со- держательно широком значении – как вид культурной деятельности, призванный дать человеку путь надежды, принять его помыслы и действия, ценностно сориентировать личностное бытие. Подмечая же иную, противоположную, тенденцию культурного развития, а именно – поступь западной «гуманитарной цивилизации», позволившей в истории европейского человечества утилитарности стать «знамением реальности», философ видит закономерный результат – «смерть человеческой культуры»: «Так рассыпалась душа в сумму помыслов и прира-жений, то есть состояний, навеваемых случайными ветрами извне» [8, с. 57].
Таким образом, как бы концептуально феномен культуры ни пояснять, культура невозможна вне ценностного культивирования определённых начал человеческого общежития, что составляет условия существования человека как личности, что создаёт духовную полноту жизненного мира людей, задаёт нормы и нравственные основания совместного устроения жизни на Земле. То есть без такой «культивирующей» деятельности человеку просто не выжить в современном мире, всё отчётливей демонстрирующем прагматику как основание развития. В этом плане совершенно современно звучат слова-предостережения С. Л. Франка о наступившей (образно скажем именно так) на человечество «денежной культуры», служащей, по словам философа, «могущественным орудием общего прогресса», но и имеющей «разрушительное действие» в ситуациях, когда цели и средства цивилизационного развития меняются местами, пренебрегая «духовными запросами» людей, отсюда вывод: «Правильное культурно-философское отношение к капитализму должно быть, таким образом, свободно и от аскетического отрицания, и от материалистического поклонения» [9, с. 368–369].
Следует отметить, что в качестве «творца» человек создаёт как собственную человечность, так и свою же бесчеловечность – в первом варианте действуя по принципу «растущей совести» (если воспользоваться образом Л. Н. Толстого) или же отходя от него, то есть от всего того, что есть совестью, значит совместным вéдением, то есть неким общекультурным знанием о себе и Других, испепеляя в себе всякую связь с иным Другим и нисходя, врастая в «культ» ненависти ко всему, что не есть для такого человеческого типа собственно своим. Иначе говоря, взаимоотношения человека с культурой ведут, на наш взгляд, к осознанию в общем-то несложного, но важнейшего условия человеческого бытия: культура актуально существует, действует, созидает гуманистические смыслы бытия только тогда, когда человек живёт ею, сливается с нею, пребывает в ней, идёт её путями – от прошлых эпох к современной, «соседствуя» в своём личном бытии с её (культуры!) действующими лицами (в каком бы времени те ни родились). Разве не таким способом живёт культура, вырастающая из традиций, – в ней каждому найдётся место, всем, кто воспитал в себе способность собеседовать с героями прошлых культурно-исторических эпох, воспринимая их живыми личностями (в этом плане «беседы» с Сократом, Платоном или Кантом могут и должны быть, особенно для подрастающих поколений, перманентно актуальными). Такой задаче должна была бы соответствовать современная система воспитания и образования, так как без связки культурных поколений нет современного человека, который мог бы жить культурой и творить культуру человечности. Это особенно по- нимаемо в ситуациях, когда вменяются разного рода запреты «на культуру» (конечно, определённую) или какую-либо её составляющую, важную для части или даже для целого общества. Такие решения, безусловно, перекрывают, образно говоря, дыхание жизни, подлинную жизнь культуры, причём как в отдельных душах, так и в обществе в целом (последнее, правда, теми, кто берёт на себя «решение» вопросов культуры, как правило, не осознаётся, ибо для этого должна быть иная культура ума).
В культуре всегда имело место соединение индивидуально-личностного её измерения и всеобщего, всемирного, всечеловеческого. Современная цивилизация, созданная нынешним этапом процесса глобализации, «скорректировала» бытие культуры и в этом отношении, причём таким образом, что пребывание человека в культуре, выработанной предшествующей историей, подлинная, полная память о ней стали вовсе не обязательным условием существования человека, связь с культурой перестала быть экзистенцио-нально-ценностной потребностью, существенным основанием индивидуального человеческого бытия. Иначе говоря, современный человек отходит от культуры (и делает это достаточно легко), предавая забвению всё то, что было выработано предшествующими поколениями. Оказывается, политически возможно заложить такие параметры социокультурного развития, что историческое измерение бытия будет лишним, не востребованным, вынесенным за скобки. Так, в веке ХХI-м поверять историей, в том числе и историей культуры, актуальные события, настоящую социокультурную реальность вовсе и не обязательно, гораздо «выгодней» историю культуры не научно исследовать, а выписывать как сценарий к фильму – согласно заказанному сюжету. Подлинные же памятники истории, культуры, в которых только и хранится вся полнота прошлого, его сложность, неоднозначность, трагичность (документы, артефакты, памятники архитектуры и искусства, биографии исторических лиц и т.д.) могут существовать рядом, но «не замечаться», их можно, по крайней мере, проинтерпретировать так, что действительные их смыслы будут потеряны.
Создание, таким образом, ложных культурно-исторических ориентиров на основе псевдонаучного дискурса и неполной исторической памяти может, безусловно, надолго отравлять самосознание новых поколений, настраивать их на разрушение своей традиционной цивилизации, неприятие оснований культурно-исторического бытия собственного народа, на забвение определённых исторических этапов или ложное, одностороннее их истолкование (такая установка ныне чаще всего касается советского периода истории). То есть «выращивание» в наш век человека «глобалистского» мира, по сути, требует отказа от исторической памяти, ибо для его существования требуется обратное свойство – беспамятство (и даже злопамятство по отношению к Отечеству), способность пребывать, образно говоря, не рядом с «отеческими гробами», не возрождать родное «пепелище» к жизни, а там, где лучше (увы, не для своих и не для родных лучше). Именно такая позиция – отказа от чувства Родины – особенно нужна современному глобальному миру: нет твоей истории (твоей личной и твоего народа) – есть только ты и твоя свобода. Но что есть «моя» свобода? Неужели «свобода» от истории культуры, от истории своей земли, от личных историй многих поколений предков.
На первый взгляд, глобальность мира создаёт новые возможности пересечения разных опытов мышления, образов жизни, диалога культур, сосуществования принципов коллективности, плеядности, индивидуальности. От современного человека, казалось бы, требуется способность репрезентировать в себе как личности целый мир культуры (всемирной культуры). Однако никакого сообщения разного в таком целом как современная культура не наблюдается. Напротив, глобальный мир в нынешнем варианте развития легко пренебрегает «чужой» культурой, создавая новые утопии и мифы, выдавая их за якобы «всеобщие» культурные начала, а на самом же деле – скрывающие выгоды элит (образно говоря, от денежного мешка, но не от культуры, истории, памяти). Манипулятивные практики работы с сознанием, часто связанные с лингвистическим программированием, становятся уже обычным явлением повседневности, когда считается допустимым вменять согражданам употребление одних слов и не допускать другие, положительно оценивать одни события и отрицательно – другие (но не пытаться объективно, с научных позиций в них разобраться), когда рекомендуется культивировать одни ценностные начала и традиции и придавать забвению другие. При этом достаточно пафосности высказывания, чтобы в его истинности уже никто не сомневался, что, конечно, приучает людей к якобы безальтернативности в понимании событий, а по сути – закладывает одномерное восприятие происходящего, реальной истории.
Иначе говоря, речь идёт о явлении культурного самоотвержения человека, то есть об отвержении человеком самого себя и своей духовно-культурной истории. Именно таким, на наш взгляд, и проявляет себя современный человек. Этот человеческий тип можно было бы назвать «человеком послушным», действия которого лишь камуфлируются под свободные. Понятно, что слово «послушание» само по себе не несёт исключительно негативного содержания и может означать умение слушать и слышать голос Других, иначе говоря, послушно (то есть по «слуху» как «голосу» культуры) идти за гуманистически значимым для совместного бытия людей. Другого же рода «послушание» формирует «человека-функцию», не занимающего какую-либо определённую мировоззренческую позицию и не имеющего личностных ценностных приоритетов. Впервые вопрос о таком человеческом типе поставил, пожалуй, Ф. М. Достоевский. Созданный им образ «великого инквизитора» раскрыл во всей его полноте процесс принуждения к послушанию че- ловека «в толпе» или толпы как «одного человека». Таким образом писателем-философом была явлена, по сути, новейшая форма человеческой трагедии – добровольной подчинённости, принятия определённого извне чужезакония: «Он простирает перст свой и велит стражам взять его. И вот, такова его сила и до того уже приучен, покорен и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается пред стражами …» [5, с. 281].
Современный тип «человека послушного» лишь незначительно трансформируется. Ему также задаются извне жизненные установки, также легко им принимаются, разве что гораздо выразительней присутствует в нём в наше время прагматический смысл, нацеленность на личный успех и выгоду. По сути, это человек с подражательным умом, некритическим (и в общем-то испуганным) мышлением, с усреднёнными интересами и пофигизмом как принципом жизни. Это человек, легко приспосабливающийся к доминирующему на данный исторический момент мнению. Такому человеку легко вменить требуемые установки, ибо этот тип легко подпадает под влияние более сильных, а потому может быть и агрессивным, и безвольным одновременно (таким, каким нужно быть в тех или иных ситуациях), индивидуально бессильным и, напротив, демонстрирующим силу в присутствии подобных себе. Такой тип человека, как правило, требователен к другим и снисходителен по отношению к себе. Он активен, перманентно желает общественных перемен, но при этом безразличен ко всему, что не затрагивает лично его.
Таким образом, действенность культуры определяется самим человеком как определённым типом, способным на те или иные поступки, действия. Трагедия современной культуры, развивающейся в условиях глобального мира, заключается в разрушении историей заданной связи человека и культу- ры в её традициях, в забвении исторической памяти, что не предполагает существование культуры как смыслопоиска человеком самого себя и своих духовно-исторических корней. Характерный для современности человеческий тип может быть определён через понятие «человек послушный». Главная его черта – удовлетворённость «культурой» развлечения. По сути, это тип некультурного самосознания современного человека, не умеющего пребывать в культуре как собственно человеческом измерении бытия, но готового «потреблять» культуру как товар, обеспечивающий ему комфортное существование, в первую очередь на основе внешнего манипулятивного управления. Отсечение культуры прошлого не становится для такого типа человека личностной проблемой, что, безусловно, создаёт условия для разрыва поколений и разрушения культуры как подвижничества, как служения высшим духовно-нравственным ценностям, прежде всего человечности.
Список литературы Культура: философско- антропологическое измерение
- Адорно Т. В. Негативная диалектика / перевод с немецкого Е. Л. Петренко. Москва: Научный мир, 2003. 374 с.
- Антология исследований культуры. Интерпретации культуры. 2-е издание. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. 720 с.
- Бердяев Н. А. Воля к жизни и воля к культуре. Приложение // Смысл истории. Москва: Мысль, 1990. С. 162–174.
- Вебер А. Принципиальные замечания к социологии культуры / перевод М. И. Левиной // Избранное: Кризис европейской культуры / перевод с немецкого М. И. Левиной, Т. Е. Егоровой. Санкт-Петербург: Университетская книга, 1998. С. 7–40.
- Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Собрание сочинений: в 15 томах. Ленинград: Наука. Ленинградское отделение, 1991. Том 9. 697 с.
- Межуев В. М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. Москва: Прогресс-Традиция, 2006. 408 с.
- Стёпин В. С. Культура // Новая философская энциклопедия: в 4 томах / Институт философии Российской академии наук, Национальный общественно-научный фонд ; Научно-редакционный совет: В. С. Стёпин [и др.]. Москва: Мысль, 2010. Том II: Е-М. С. 341–347.
- Флоренский П. А. Философия культа (Опыт православной антроподицеи). Москва: Академический проект, 2014. 685 с.
- Франк С. Л. Капитализм и культура // Полное собрание сочинений / под общ. ред. Г. Е. Аляева, К. М. Антонова, Т. Н. Резвых ; предисл. к тому Г. Е. Аляева, К. М. Антонова, Т. Н. Резвых. Москва: Изд-во ПСТГУ, 2020. Том 3: 1908–1910. С. 365–369.
- Хайдеггер М. Время картины мира // Время и бытие: Статьи и выступления / перевод с немецкого В. В. Бибихина. Москва: Республика, 1993. С. 41–62.