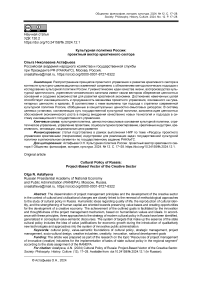Культурная политика России: проектный вектор креативного сектора
Автор: Астафьева Ольга Николаевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
Распространение принципов проектного управления и развитие креативного сектора в контексте культурно-цивилизационных изменений сопряжено с обновлением методологических подходов к исследованию культурной политики России. Гуманистические идеи качества жизни, воспроизводства культурной идентичности, укрепления человеческого капитала имеют своим вектором сбережение ценностных оснований и создание возможностей для развития креативной экономики. Достижению намеченных целей способствует инновационность и продуманность механизма проектного управления, основанного на гуманитарных ценностях и идеалах. В соответствии с ними выявлены три подхода к стратегии современной культурной политики России, обобщенные в концептуальных ценностно-смысловых дискурсах. В систему целевых установок, составляющих суть государственной культурной политики, заложена идея ценностных обоснований экономического роста в период внедрения качественно новых технологий и подходов в систему инновационного государственного управления.
Культурная политика, ценностно-смысловые основания культурной политики, стратегическое управление, управление проектами, социокультурное проектирование, креативные индустрии, креативность, инновации, национальные цели развития
Короткий адрес: https://sciup.org/149147077
IDR: 149147077 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2024.12.1
Текст научной статьи Культурная политика России: проектный вектор креативного сектора
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Москва, Россия, ,
Введение . С вхождением России в новый период своего культурно-цивилизационного развития, принятием вызова на трансформацию парадигмы глобализации, стимулирующих обновление не только международных отношений, но и внутренние процессы саморазвития, возрастает интерес к культурной политике страны. Многосторонность подходов и применяемых типологий к ее изучению, которые представлены в трудах Г.А. Аванесовой (Аванесова, Астафьева, 2015), Л.Е. Вострякова (Востряков, Волков, 2023), О.И. Карпухина (1996), В.И. Савинкова (2010), С.Б. Синецкого (2011), А.Я. Флиера (2016) и др., позволяют в настоящее время выявить основные характеристики отечественной модели государственной культурной политики.
Поскольку на протяжении длительного времени объектом наших исследований также является культурная политика России (Астафьева, 2015; 2022; Социокультурная политика в Российской Федерации..., 2019), то, учитывая потребность в разработке теории культурной политики и ее категориального аппарата, приведем определение, на которое мы опираемся в настоящей статье. В нем выделяются две составляющие, которые позволяют выделить уровень стратеги-рования (публичной политики) и уровень операциональной деятельности (управленческий). Их взаимосвязь и взаимообусловленность обеспечивает устойчивое социокультурное развитие России на долгосрочную перспективу.
Таким образом, культурная политика, с одной стороны, выступает как концептуально оформленная система ценностно-смысловых ориентиров, целей и приоритетов, определяющая деятельность институциональной системы социокультурной сферы по обеспечению условий для совместного проживания людей и скрепляющая образ их бытийности в определенных территориальных границах; с другой - как практическая управленческая деятельность по регулированию сферы культуры в проекции повседневной реальности на основе институциональных отношений, стимулирующих процессы социокультурной самоорганизации и личностного творческого проявления .
Переход к многосубъектности в культурной политике сопровождается расширением внимания к креативному сектору (Абанкина, 2022; Дробышева, 2016; Музычук, 2023; Сопина, 2021; Хестанов, 2018), во многом влияющего на необходимость перехода к проектному управлению, привел нас к изучению проблем инновационности и обоснованию подготовки нового типа менеджера, владеющего совокупностью компетенций, адекватных запросу современного этапа социокультурного развития России и требующегося дальнейшего исследования.
Культурологический ракурс междисциплинарности исследования культурной политики . Когнитивный и методологический потенциал культурной политики России как культурологической исследовательской области, где теоретические основы и научное знание о культуре сопряжены с междисциплинарностью и имеют непосредственный выход в социальную реальность, обеспечивает общий ракурс культурной политики различных субъектов, а также целостную картину социокультурного развития в контексте происходящих цивилизационных изменений.
В этой ситуации усложненность и дифференциация становятся отличительными чертами методологических подходов и решений культурологических исследований. Философско-культурологические концептуализации, сопровождающие поиск фундаментальных оснований культурной политики в контексте ключевых теорий самоорганизации и управления, модернизации и инноваций, наполняют деятельность в рамках культурной политики определенными ценностно-смысловыми обоснованиями. Культурно-цивилизационный и социально-политический контекст обусловливает построение теоретической базы культурной политики, формируя сильные дискурсивные линии, базирующиеся на гуманистических мировоззренческих основаниях и идеях качества жизни и благосостояния, гражданской и культурной идентичности, человеческого капитала и креативной экономики.
Не меньшее значение приобретают прикладные культурологические исследования, связанные с проведением комплекса организационных и управленческих мероприятий, обосновывающих правовые, законодательные, финансово-экономические инструменты, а также информационные и коммуникативные технологии реализации культурной политики, направленной на решение задач, установленных целевыми концепциями культурной политики государства и представленной в документах стратегического планирования1 и межведомственного уровня2.
Особенностью текущего периода стала двухэтапность законодательного закрепления положений о креативных (творческих) индустриях ‒ сначала в Концепции1, а затем в Законе о креативных индустриях2, где прослеживается акцент на экономических характеристиках креативных индустрий и выделяется четыре крупных их сегмента, основанных на: а) историко-культурном наследии; б) произведениях литературы и искусства, результатах издательской и исполнительской деятельности; в) информационно-телекоммуникационных технологиях и связанных со службой с общественностью и СМИ; г) прикладных видах творчества3.
Осмысление процессов, связанных с креативной экономикой, стало одной из востребованных тем в культурологии не только в силу дрейфа постиндустриального общества от ценностей потребительской парадигмы к модели креативности с ценностями самовыражения, но и переходом на новый концептуальный уровень длительное время вызревавшей в острых дискуссиях идеи о переосмыслении роли культуры и ее взаимосвязи с экономикой (Культура и экономика..., 2007), раскрывающей потенциал креативных (творческих) индустрий для социального развития в рамках инновационной траектории, выступая катализатором территориального развития (Смольянова, 2022). Результатом включения в методологию культурологических исследований междисциплинарности, получившей обоснование в теоретических исследованиях социально-гуманитарного профиля конца ХХ – первой четверти ХХI в., а также обращения гуманитариев к постнеклассическим концепциям «человекоразмерных комплексов» типа искусственного интеллекта (Степин, 2009: 285), социокультурных практик (Постнеклассические практики..., 2012) можно считать предложенные обоснования нового вектора культурно-цивилизационного развития и потребностей социума в укреплении человеческого капитала (Многогранность человеческого капитала..., 2019), актуализацию поисков неэкономических источников развития и конкурентоспособности регионов (Горшков, 2014; Ипатов, 2008) и др. Востребованность междисциплинарных исследований феноменов культуры, обладающих признаками сложных систем, в которых «эффекты их системности могут быть вообще не обнаружены при узкодисциплинарном подходе, а выявляются только при синтезе фундаментальных и прикладных задач в рамках проблемно-ориентированного поиска» (Степин, 2009: 283), также связана с перенастройкой идеалов и норм исследовательской деятельности, концентрацией внимания на стратегических целях и инновационных творческих проектах. Обращение к механизмам проектирования представляется адекватным ответом на запрос общества в эффективных решениях задач культурной политики России.
Подчеркнем, что проектный подход в полной мере соответствует пониманию культурной политики как широкого межотраслевого явления в условиях отмечаемых разрывов в преемственности ценностных и нормативных оснований общества, недопустимых искажений в понимании базовых моральных и культурных норм, отказа от высоких нравственных идеалов, спекуляций в межнациональных и межконфессиональных отношениях4, когда требуется концентрация всех видов ресурсов для преодоления новых вызовов и уязвимостей, порожденных «текучей современностью», изменяющих природу нормальности («Нормальная аномия» в России и современном мире..., 2017: 80). Более того, модернизационная волна, стимулирующая внедрение научно-технологических инноваций на все уровни жизнедеятельности общества, обострила потребность использования в социальном управлении проектного подхода, позволяющего динамично перенастраивать инновационные процессы в социально-конструктивное русло, адекватно реальным и прогнозируемым вызовам изменяющегося социума. Ориентация управления на научно-теоретическое обоснование стратегического проектирования, технологии решения сложных задач, диагностику социокультурных процессов, особую логику проектирования, основанную на системной поддержке субъектов управленческой деятельности, выстроенной от целостности к элементам на операциональном уровне, подтверждает обоснованность и эффективность широкого внедрения практикоориентированного проектного подхода. При этом, заметим, исследователями подчеркивается, что научное обеспечение процессов управления, как результата командной работы, опирается на персональную поддержку проектных решений (Проблемы субъектов социального проектирования и управления..., 2006: 72), что привело к внедрению принципов командного лидерства.
Семантические ориентиры культурной политики: обоснование инноватики проектирования . Повышенная заинтересованность общества в обновлении культурной среды России, которая реагирует на сложные культурно-цивилизационные преобразования в мире, трансформируется под влиянием сверхбыстрого научно-технологического развития, отвечая преобразованиями в социальном пространстве и в целом стимулируя созидательную активность людей. Тема повышения человеческого капитала, как путь к достижению социокультурного и цивилизационного единства страны, рассматривается исследователями вкупе с достижением единой системы гуманитарных ценностей и идеалов, общего уровня языка культуры и образования населения, сближения уровней и образа жизни регионов, что обеспечивает основания не только для гражданской, но и общенациональной консолидированной культурной идентичности (Многогранность человеческого капитала..., 2019: 65).
Отсюда повышенная востребованность культурологического подхода к объяснению основных векторов культурной политики России в условиях неравновесной культурной среды к началу второго десятилетия ХХI в., которая характеризовалась многообразием аксиологических ориентиров, открывшимися широкими возможностями реализации творческого креативного потенциала культуры. В совокупности с научно-технологическими инновациями, инициирующими неожиданные тренды, передавая импульсы на уровень социокультурных процессов, они становятся источником новых культурных ориентиров и семантических систем, фундаментальных концептуализаций и аксиологических шкал. Тем самым открываются эволюционные перспективы культурной среды как определенного порядка в обществе, с особыми символическими формами ценностно-смыслового выражения, в большей или меньшей степени проявляющиеся в расширении целостной системы «уровней-контуров», длительное время существующей в России.
Предложенная нами модель культурной политики основана на согласовании традиционного и инновационного аспектов, отвечающих ориентации общества на ценности российской культуры и цивилизационные коды. Данная модель предполагает пять уровней-контуров социокультурной политики, которые коррелируются с ее масштабами.
На высшем уровне-контуре определяется «широкий диапазон» выработки стратегических смыслов, посредством которых должна происходить национальная консолидация. Второй уровень-контур представляет собой работу Министерства культуры, руководствующегося национальной стратегией. Данное ведомство должно администрировать, координировать и диагностировать социокультурные процессы с возможным привлечением усилий других государственных структур. Третий уровень предполагает совместную работу отраслей, которые непосредственно связаны процессами социокультурного воспроизводства (образование, наука и др.), что требует формирования специальных координационных органов. Четвертый уровень охватывает работу всех ведомств, которые в своей деятельности решают проблемы социокультурного плана. На пятом уровне отражается региональная и муниципальная социокультурная политика, в рамках которой конкретизируются формы и методы решения культурных проблем жителей соответствующих территорий с учетом имеющихся возможностей. Именно на этом уровне культура выступает важнейшим ресурсом регионального социально-экономического развития, а социокультурная политика должна быть максимально приближена к проблемам и условиям жизни граждан (Аванесова, Астафьева, 2015).
Эти уровни-контуры представлены на:
-
а) общеполитическом уровне, связанном с разработкой идейно-мировоззренческой семантики широкого диапазона, где формируются стратегические цели и смысловые императивы общественного развития;
-
б) отраслевом уровне, относящемся к компетенциям конкретных министерств и подразделений культурного назначения. Эта институциональная система обеспечивает законодательноадминистративную, материально-техническую и государственную финансовую основу в рамках структуры и компетенций ведомств;
-
в) массовом уровне, развивающемся через культурную активность широких кругов населения, включение в общественное сознание картины мира с представлениями о единых нормах морали и поведения, основанной на согласованности однородности и разнообразия, снимающих социальное напряжение.
Подчеркнем, потребность в новых содержательных аспектах культурной политики на всех уровнях/контурах привела к разработке и закреплению иерархии традиционных ценностей и смыслов жизнедеятельности в условиях усиления угроз и рисков.
Исходя из такой исследовательской установки, были выявлены три подхода к стратегии современной культурной политики России, базирующиеся на определенных ценностно-смысловых хронотопах, как обобщенных качественных координатах предлагаемых концептов, дискурсов, нормативных схем:
-
- охранительно-конвенциональный подход в культурной политике России, суть которого заключается в отстаивании самобытности национальной культуры в контексте глобальных перемен, концептуальной опоре на сбережение культурного наследия и национальных ресурсов;
-
- модернизационно-мобилизационный подход в культурной политике России , ориентирующий общество на укрепление человеческого капитала, новый образ жизни, благосостояние и повышение качества жизни на основе актуализации ресурсов культуры (от обновления культурного наследия до развития креативных индустрий);
-
- интегративно-коммуникативный подход к предлагаемым стратегиям культурной политики разного уровня, нацеленный на обеспечение динамической устойчивости и общности социокультурного пространства, длительно вырабатываемого в ходе установления диалогических и/или полилоговых отношений1.
Представленные обществу модели культурной политики выстраивают линии дискурса, основанные на одном из трех названных подходов, либо на их комбинированном сочетании. Конкуренция подходов за ведущий вектор в стратегии культурной политики проявляется на разных площадках: нормативно-законодательной (корректировка или разработка правовых актов и официальных документов); ценностно-смысловой (политизированные дискуссии в публичном пространстве, конкурирующие дискурсы (Астафьева, 2021)); структурно-организационной (обновление системы инструментализации отношений и пр.).
В основе укрепляемого в настоящее время интегративно-коммуникативного вектора государственной культурной политики заложена идея активного участия населения в разных сферах жизнедеятельности и вовлечения в социокультурную деятельность, в частности, где каждый человек мог бы использовать свои творческие способности и развивать таланты. Поскольку государственная культурная политика развивается на пяти контурах/уровнях, как было показано выше, то обращение к проектному подходу во многом связано с межведомственным и межсекторальным характером решения задачи по укреплению человеческого капитала и расширению влияния креативной экономики на социальную и культурную динамику.
Соответственно, распространение и эффективность технологии проектного управления можно проследить по разным параметрам:
-
• по влиянию проектов уровня стратегического планирования (национальных и федеральных проектов) на динамику культурно-цивилизационного развития России и ее позиционирования в мировой культуре;
-
• по распространению мультипликационных эффектов межведомственного уровня по развитию территорий и отдельных сфер жизнедеятельности людей;
-
• по увеличению отдачи подведомственных Минкультуры России организаций и росту доходов на единицу затрат и совершенствованию инфраструктуры в рамках проектной деятельности;
-
• по обращению к проектному подходу в управлении организаций бюджетного и некоммерческого сектора, бизнес-структур.
Наиболее интенсивным по количественным показателям является уровень проектов локального масштаба, который создает условия «прорыва», включая механизмы национальных культурных традиций и духовных ценностей. Проектные решения по достижению целей культурной политики обеспечивают условия для творческой самореализации и поддержки предпринимательской деятельности на всех ее уровнях, отвечают тенденции на модернизацию культурной среды.
К примеру, динамика роста заявок за 12 конкурсов проектов в Президентском фонде культурных инициатив такова: в период с 2021 г. по настоящее время на грант поступила 75 721 заявка от заявителей, и по итогам 12 конкурсов 8 391 проект получил общую утвержденную сумму для победителей конкурсов в 31,1 млрд рублей2.
И за этими цифрами нельзя не увидеть своеобразного ответа на потребности регионов в восстановлении культурной среды «во всей ее полноте функций и процессов, форм и содержаний <…> с акцентом на ее пространственном воплощении» (Флиер, 2013: 79‒88). Действительно, культурная среда, как комплекс культурных предпочтений населения, к 2014 г. значительно потеряла число ее созидателей – творцов и сотрудников учреждений культуры. В процессе так называемой оптимизации, проводимой на местах, ежегодно сокращалось от 1 000 до 2 080 единиц учреждений, что составляло от 5,6 до 7,3 % от их общего числа по стране3. Критическая оценка положения в библиотечной системе России также подтверждала общую картину состояния сферы культуры (Астафьева, Горушкина, 2017). В настоящее время, после прошедших десяти лет, уже в силу неисполнения международных обязательств, потребность в активизации культурной жизни страны сохраняется. Так, в Докладе Счетной Палаты отмечается, что «в 2023 году исполнение расходов Минкультуры России составило 181 578,0 млн рублей, или 97,7 % от уточненной бюджетной росписи (185 869,4 млн рублей), что ниже уровня 2022 года (98,9 %) и 2021 года (98,6 %)»1.
Соответственно, проектная работа и предпринимательская деятельность в сфере культуры, особенно по линии социально ориентированных некоммерческих организаций, восполняет потребности населения в аутентичных проектах, отвечая на ее запросы в сохранении культурного кода, героях и идеалах, а также в воспроизводстве народного творчества, культурного наследия, исторической памяти. За каждой поданной заявкой стоят творческие команды, которые посредством программ и проектов решают определенную задачу или комплекс задач, связанных с семейными ценностями, воспитанием детей, гражданской активностью – общественной деятельностью, волонтерством, тем самым выходят к уровню стратегических приоритетов и национальных целей развития России, направленных в том числе и на «обеспечение <...> функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи»2, «обеспечение продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества»3. Это актуализирует развитие сектора креативной экономики и образующих ее сегментов – разных видов творческих индустрий, где творческая деятельность людей является неотъемлемой частью производства экономических ценностей и направлена на капитализацию культурных продуктов.
Таким образом, идея ценностных обоснований экономического роста в период внедрения качественно новых технологий и подходов в систему инновационного государственного управления заложена в систему целевых установок, составляющих суть государственной культурной политики.
С одной стороны, это в полной мере отвечает идее социокультурной модернизации с сохранением «семантической рамки» ‒ ядром традиционных духовно-нравственных ценностей, составляющих основу для синхронизации и гармонизации инициируемых государственными институтами общественно значимых инноваций в разных областях жизнедеятельности населения страны и производимых обществом в процессе самоорганизации нововведений.
С другой стороны, на основе проектного подхода в управлении, эффективность которого уже на национальном уровне проявилась в период 2006‒2008 гг. и показывает позитивные результаты нынешнего этапа (2018–2024), удалось укрепить концептуальные основы и достичь высоких практических показателей по основным измеряемым параметрам. Технологии проектного подхода обоснованы и заложены в документах стратегического планирования и на уровне государственного управления зафиксированы в плане мероприятий по реализации в 2022–2024 гг. Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 г.4
Популяризации культурных практик, их воспроизводству и межпоколенной трансляции способствует совершенствование творческих индустрий. В активном развитии социокультурного проектирования задействован символико-семантический потенциал территории, делающий ядром проекта идею «гения места», использующий социокультурное брендирование событийного туризма, а также увеличение роли модернизированных учреждений культуры в развитии региона и сочетание экономических, технико-технологических и политических региональных факторов. Проектные технологии сферы культуры становятся ведущим форматом социокультурной деятельности, посредством которого обеспечивается креативность и эффективность реализации инициатив, уникальность создаваемого продукта, расширяются возможности и способы контакта с аудиторией. Культурные проектные инициативы, кроме развлекательно-просветительской и утилитарной, исполняют интегративную, моделирующую, социализирующую, нормативно-регулятивную, компенсаторную, релаксирующую, социально-психологическую и иные роли, обращенные не только к целевому потребителю, но и затрагивающие функционирование местных сообществ, существенно изменяя их жизнедеятельность. Вместе с тем проекты формируют направления общественного дискурса, что на локальном уровне делает их «точкой роста» устойчивого развития территории. Рассмотрим особенности проектного мышления, влияющего на цели проекта, в том числе и коммерческими выгодами от его реализации.
Проектное мышление в креативных (творческих) индустриях: культурологическое обоснование инновационности . Обоснование идеи субъекта проектного управления отвечало переходу к парадигме сложностности с ее коммуникативными предпосылками «для нового диалога науки, философии и высокой духовной традиции, с необходимостью формирования нового, более широкого (постдекартовского и даже постгуссерлевского) образа (понимания, горизонта) рациональности» (Проблемы субъектов социального проектирования и управления…, 2006: 169). Проектное мышление, включающее критическую оценку и креативное воображение, рефлексивно-коммуникативное и конструктивное начало, более всего также соответствовало постиндустриальному вектору развития общества с его запросом на креативность как способность создавать новые тексты культуры, опираясь на знание, в том числе неинституциали-зированное практическое знание, поддерживаемое фундаментальными основаниями .
На наш взгляд, это первое требование, которое не учитывается значительным числом «творцов» (создателей, производителей) креативных индустрий: при существующих «когнитивных» разрывах», слабых взаимосвязях между практическим знанием – результатом наблюдений и рефлексией с философско-культурологической ориентацией на коммуникацию – и фундаментальным образованием, дающим научные знания в области социокультурного проектирования, сектор креативной экономики не может обеспечить ни прочного финансового успеха, ни сформировать проектируемых ценностно-смысловых ориентаций. Наша намеренная категоричность объяснения базируется на явной недооценке обществом интеллектуальной составляющей в творческом мышлении создателей креативных индустрий, которое и обеспечивает гармонию спонтанности творчества и рациональности постнеклассического типа.
Проведенные нами исследования развития креативных (творческих) индустрий на муниципальном уровне позволяют сделать вывод о недостаточной аргументированности в транслируемых концепциях проектного управления, которым обучают руководителей департаментов и отделов культуры, руководителей учреждений и организаций, понимания единства духовного (возвышенного, вдохновляющего, этического) начала и собственно проектных технологий, что приводит к шаблонизации, упрощению, стереотипизации приемов. В конечном счете это нивелирует и ценностно-смысловую направленность содержания, лишая проект стержневой концептуальной идеи. Более того, решение человека принять участие в разработке проекта и отнести себя к категории проектировщика подчас выступает данью моде либо служебной обязанностью. В каком-то смысле это программирование на креативность, причем на массовом уровне, а не уникальная способность. Не случайно, такого типа проявления определялись Т. Адорно и Хоркхаймером термином «псевдоиндивидуальность» (Хоркхаймер, Адорно, 1997: 171).
Сказанное несколько десятилетий назад ни в коей мере не противоречит концепции самоопределения творческой личности, в которой значимость творческого воображения для создателя может ставиться выше, чем знание. Прежде всего потому, что стимулирует появление инноваций в культуре как высшей способности создания подлинно новых творческих форм и артефактов.
В отличие от ценностей новизны, определяющей действующие экономические императивы со встроенными в них императивами маркетингового мышления, порождающего «фальшивое творчество» и одномерное линейное восприятие и временность новизны (Негус, Пикеринг, 2011: 28‒41), погружающих потребителя продукции креативных индустрий в соблазн символической ценности (Бодрийяр, 2000), инновация обладает определенными качествами, способными стать новыми культурными или социальными образцами.
«Инновационная сложность» – достигаемая целостность (продукции, вещи, объекта) множеством оригинальных взаимосвязей разнообразных элементов, порождающих эмержентность (новые свойства) при сохранении памяти и коммуникаций, регулируемых петлями обратной связи. Управление объектами, обладающими инновационной сложностью, тоже должно быть сложным, с учетом неустойчивости и возрастанием степеней сложности, по мере управленческого воздействия и взаимодействия с окружающей средой (Князева, 2015: 52‒53).
Исходя из сказанного, мы приходим к выводу о необходимости изучения инноватики как особой «всеобщей науки о креативном обновлении», рассмотрения не только базовых навыков проектирования и/или управления проектами, но и сопряжения фундаментального знания о принципах рождения нового (редуцировать сложность проектного мышления в креативных индустриях), а также раскрытия действия параметров порядка культуры, чтобы сложная система креативных индустрий обрела способность к самоорганизации, а ситуация с появлением отдельных ярких региональных практик не рассматривалась как исключение, а как показатель динамичного процесса позитивных изменений.
В практическом плане управление проектами строится на эволюционной модели, которая в отличие от радикальной, связана с меньшими рисками и поддерживает среду. В итоге формирование актуальных практик и форм поддержки проектного управления рассматривается как действенный путь к повышению уровня социокультурной среды регионов, обновлению качества жизнедеятельности городов и поселений. На сегодняшний день, казалось бы, существовавшая ранее для отдельных территорий и моногородов проблематика деиндустриализации утратила свою остроту. Однако переструктурирование производства сформировало новый социальный запрос на повышение уровня и качества занятости населения (включая освоение новых профессиональных компетенций и поиск «профессиональных ниш» представителями различных специальностей), что дало толчок к осмыслению возможностей и значимости креативности как способа экономической деятельности и культурного потенциала развития российского социума.
Противоречия, сопровождающие постиндустриальное общество, связанные с признанием ценностей «общества потребления» с его рыночным консьюмеризмом и радикальными потребностями в преодолении примитивной товарной культуры и поисках альтернативных ценностей, в конечном счете приводят к иной, но, по существу, все той же утилитаристской позиции, лишая дифференциальной ценности. И это, как утверждают авторы, приводит к механистичности в жизни и снижению активности (Князева, 2015: 38‒39). Вопрос о стимулировании самораскрытия и самосозидания концентрируется на идее возбуждения активности и инициативности, творческого участия в разных формах и видах деятельности как возможности раскрытия и восприятия своей индивидуальности, развивает способности адекватной оценки своих предпочтений и потребности и самореализации. Эта закрепленная в культурных практиках способность давать устойчивую оценку и критически воспринимать деятельность – обязательное условие идентичности. Подкрепляемые в процессе проектной деятельности культурным опытом инновационные технологии встраиваются в культуру общества и завершают процесс диффузии ценностно-смысловой матрицы и ее адаптации к изменениям.
Таким образом, креативная экономика создает условия для внедрения инноваций технологиями проектной деятельности, обладающих влиянием на дискурс государственной культурной политики. Центральный вопрос – подготовка субъекта управления, путь которого к проектной деятельности лежит через освоение технологии и получение компетенций в области проектирования, обретение творческого опыта. Но это только одна сторона проблемы развития сектора креативных индустрий.
Не менее значимым для закрепления проектного управления в разных секторах креативных индустрий в России является достижение «структурного сопряжения» между каждым сектором и окружающей средой (обществом – конкретно: городским населением, местным сообществом). Процесс налаживания их сосуществования очень напряженный – от полного игнорирования до коэволюционной точки (возможности быть принятыми, понятыми и открытыми для совместной деятельности). Достижение синергии в системах социальной коммуникации – показатель эффективности управленческой модели.
В целом, широкое распространение проектного подхода в креативном секторе предполагает разработку современных требований к менеджменту проектов, которые не могут ограничиваться только внедрением отдельных технологий или принципов, а предполагают широкий охват включенных в организацию и управление креативных индустрий проектных менеджеров. Такая работа ведется повсеместно (и вузами, и государственными фондами, и многочисленными креативными кластерами, школами креативных индустрий), поскольку повышение требований к компетенциям руководителя и участников проектной команды, к уровню их интеллектуальных и организационных способностей ‒ процесс очевидный. В условиях, когда командное лидерство ориентирует творческую группу на самоорганизацию, высокое доверие и ориентацию на результат, компетентностный спектр не просто расширяется, но и усложняется, что связано с контекстом, прежде всего содержательного плана, и потребностью по согласованию целей и задач стратегического и оперативного уровня. И это одна из актуальных проблем, от решения которой зависят перспективы реализации культурной политики в России.
Дело в том, что особенностью развития креативных индустрий в России является структура институциализации деятельности данного сектора, состоящая из трех крупных сегментов сферы культуры. Первый представлен государственными муниципальными учреждениями (исполнительские искусства, досуговые и практики по сохранению культурного наследия); второй ‒ некоммерческими организациями (практически все виды культурной деятельности); третий ‒ коммерческими организациями (сфера досуга, дизайнерское и кинематографическое искусство). Немаловажным элементом деятельности большинства таких организаций является создание коммерческого продукта (товары и услуги), основанного на интеллектуальной собственности.
Как обеспечить этот стихийно разрастающийся корпус участников, готовых поделиться своими талантами и идеями, возможностью обучения проектным компетенциям?
На наш взгляд, масштаб этой задачи соответствует стратегическим целям, которые предполагают «увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное и личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов»1 и «обеспечение продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках не менее 70 процентов проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, к 2030 году и не менее 80 процентов таких проектов к 2036 году»2, что и обозначено в национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и в перспективе до 2036 года.
Ответ на поставленный вопрос предстоит решить в ближайшее время, поэтому в заключение обозначим базовый комплекс компетенций для менеджеров проектов, осуществляемых в разных институциональных структурах и секторах.
Компетенции субъектов проектного управления в креативных индустриях: выводы и предложения . Созданные условия для развития креативных индустрий и стимулирование потребностей в проектной деятельности актуализируют разработку той части Концепции развития креативных (творческих) индустрий, где речь идет о подготовке кадров для секторов креативной экономики3.
На наш взгляд, требование времени заключается в обучении не только управленческим проектным навыкам, но прежде всего – креативному (критическому, рефлексивному, инновационному) типу мышления, формированию в образовательном процессе системы компетенций креативного предпринимательства, овладению методами современного менеджмента, аксиологической гуманитарной экспертизы проектов и эффективной коммерциализации результатов творчества и интеллектуальной деятельности, не разрушающей ценностно-смыслового – «семантического каркаса» государственной культурной политики.
Поэтому навыки согласования целей и задач государственной культурной политики, основанных на системе традиционных духовно-культурных ценностях, поддерживающих национальную безопасность России, с миссией и программно-проектной концепцией организации и управления креативными индустриями, должны рассматриваться в ряду основных компетенций.
Управление в секторе креативных индустрий не может обеспечиваться без знания основ проведения научно-исследовательской диагностики (нормативно-правовой и социально-экономический анализ, состояние и сегментация рынка продуктов и услуг в сфере культуры, картирования и др.) на этапе предпроектной подготовки. Применение методов бизнес-технологий: стратегического и оперативного планирования, прогнозирования, операционной и командной эффективности при реализации проекта/стартапа в креативных индустриях и при выстраивании коммуникаций с партнерами и заинтересованными лицами также включено в комплекс навыков и умений.
Прежде всего, важно умение формулировать проектные задачи, использовать инструменты поддержки принятия управленческих решений на стратегическом и оперативном уровне с использованием экосистемы с широкими возможностями для настройки и расширения функций по привлечению всех видов ресурсов, включая фандрайзинговые и грантовые площадки.
Владение инструментами визуализации для повышения эффективности и прозрачности за выполнением задач, мониторинга на разных этапах реализации проекта, контроля и отчетности, а также презентации проекта перед внешней аудиторией – это требования к проектному менеджеру с высоким уровнем научно-технологического уровня.
Однако не только наличием или отсутствием профессиональных компетенций у лидеров креативной экономики объясняется недостаточно динамичный рост в ряде сегментов креативных индустрий. Исследователи подчеркивают связь между наличием социокультурных барьеров (расхождения по ценностям и поведенческим установкам) и проявлением креативности, поскольку низкий уровень индивидуализма и стремления к самовыражению вкупе с институциональными ограничениями не способствуют созданию комфортных условий для роста сектора креативной экономики и поддержки творческих людей (Аузан и др., 2022).
Таким образом, на основе анализа сложившихся подходов к выявлению сущности креативных индустрий и форм культурных практик их функционирования в Российской Федерации мы пришли к выводу о заинтересованности субъектов культурной политики продолжить исследование актуальных проблем развития креативных индустрий с точки зрения возможностей управления организациями креативных индустрий муниципального уровня или профессиональными сообществами, занимающимися социокультурным проектированием, бизнес-проектами или стартапами в креативных индустриях, исходя из стратегических целей государственной культурной политики.
Список литературы Культурная политика России: проектный вектор креативного сектора
- Абанкина Т.В. Креативная экономика в России: новые тренды // Журнал Новой экономической ассоциации. 2022. № 2 (54). С. 221-228. https://doi.org/10.31737/2221-2264-2022-54-2-13.
- Аванесова Г.А., Астафьева О.Н. Культурная политика и национальная культура: перспективы стратегического вектора современной России // Ярославский педагогический вестник. 2015. № 5. С. 193-201.
- Астафьева О.Н. Коммуникативная модель культурной политики: конвенциональность и когерентность дискурсов и понятий // Культурная политика: от стратегии государства - к управленческим решениям организаций: сборник статей. Материалы Научно-методологического семинара «Культура и культурная политика» ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ (2020-2021 гг.). М., 2022. Т. 9. С. 28-46.
- Астафьева О.Н. Концептуализация и согласование конкурирующих дискурсов: теория культурной политики // Обсерватория культуры. 2021. Т. 18, № 6. С. 574-585. https://doi.org/10.25281/2072-3156-2021-18-6-574-585.
- Астафьева О.Н. Культурная политика: динамика теоретических подходов и фундаментальных концептуализаций // Культурная политика России: актуальные аспекты: коллективная монография / под ред. А.Н. Чумакова. М., 2015. С. 15-26.
- Астафьева О.Н., Горушкина С.Н. Теоретическая концептуализация и практическая деятельность государства в вопросе обеспеченности населения услугами библиотек // Библиотековедение. 2017. Т. 66, № 4. С. 367-377. https://doi.org/10.25281/0869-608X-2017-66-4-367-377.
- Аузан А.А., Бахтигараева А.И., Брызгалин В.А. Развитие креативной экономики России в контексте современных вызовов // Журнал Новой экономической ассоциации. 2022. № 2 (54). С. 213-220. https://d0i.0rg/10.31737/2221 -2264-2022-54-2-12.
- Бодрийяр Ж. Соблазн / пер. с фр. А. Гараджи. М., 2000. 319 с.
- Востряков Л.Е., Волков В. А. Консервативное измерение вектора культурной политики // Культура и образование. 2023. № 3 (50). С. 15-22. https://doi.org/10.2441/2310-1679-2023-350-15-22.
- Горшков М.К. Роль неэкономических факторов в использовании потенциала экономического роста, модернизации и консолидации Российского общества и регионов РФ // Вестник Тюменского государственного. 2014. № 8. С. 7-18.
- Дробышева Е.Э. Ценностные стратегии культурных индустрий // Международный журнал исследований культуры. 2016. № 2 (23). С. 106-114.
- Ипатов П.Л. «Экономические» и «неэкономические» факторы хозяйственного роста: взаимодействие и комплемен-тарность // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2008. № 9 (65). С. 324-331.
- Карпухин О.И. Культурная политика: монография. М., 1996. 239 с.
- Князева Е.Н. Инновационная сложность: методология организации сложных адаптивных и сетевых структур // Философия науки и техники. 2015. Т. 20, № 2. С. 20-69.
- Культура и экономика: поиск новых моделей взаимодействия: материалы и доклады XIV научно-методологического семинара / под ред. Н.В. Левичева, О.Н. Астафьевой, Е.В. Никоноровой. М., 2007. 192 с.
- Многогранность человеческого капитала: культурные и социальные основания: коллективная монография / общ. ред. и сост. О.Н. Астафьевой, О.В. Шлыковой. М., 2019. 196 с.
- Музычук В.Ю. Творческие (креативные) индустрии: вызовы для некоммерческого сегмента сферы культуры // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2023. № 5. С. 7-39. https://doi.org/10.52180/2073-6487_2023_5_7_39.
- Негус К., Пикеринг М. Креативность. Коммуникация и культурные ценности / пер. с англ. О.В. Свинченко. Харьков, 2011. 300 с.
- «Нормальная аномия» в России и современном мире: коллективная монография / под общ. ред. С.А. Кравченко. М., 2017. 281 с.
- Постнеклассические практики: опыт концептуализации / под общ. ред. В.И. Аршинова, О.Н. Астафьевой. СПб., 2012. 536 с.
- Проблемы субъектов социального проектирования и управления / под ред. В.И. Аршинова, В.Е. Лепского. М., 2006. 255 с.
- Савинков В.И. Коммуникативные основания культурной политики: социологический подход. М., 2010. 116 с.
- Синецкий С.Б. Культурная политика XXI века: от прецедента Истории к проекту Будущего: монография. Челябинск, 2011. 288 с.
- Смольянова И.В. Развитие креативных индустрий как перспективный инструмент региональной социально-экономической политики // Креативная экономика. 2022. Т. 16, № 10. С. 3771 -3784. https://d0i.0rg/10.18334/се.16.10.116327.
- Сопина Н.В. Развитие креативных индустрий в регионах России: возможности и их реализация // Креативная экономика. 2021. Т. 15, № 2. С. 277-294. https://doi.org/10.18334/ce.15.2.111549.
- Социокультурная политика в Российской Федерации: монография / под ред. О.Н. Астафьевой, В.А. Горенкина, А.В. Швецовой. Симферополь, 2019. 156 с.
- Степин В.С. Классика, неклассика, постнеклассика // Постнеклассика: философия, наука, культура: коллективная монография / отв. ред. Л.П. Киященко, В.С. Степин. СПб., 2009. С. 249-295.
- Флиер А.Я. Культурная политика и стратегии культурных взаимодействий // Вестник МГУКИ. 2016. № 5 (73). С. 10-18.
- Флиер А.Я. Культурная среда и ее социальные черты // Информационный гуманитарный портал Знание. Понимание. Умение. № 2. 2013. С. 2.
- Хестанов Р.З. Креативные индустрии - модели развития // Социологическое обозрение. 2018. Т. 17, № 3. С. 173196. Ь^/Шт^Л 0.17323/1728-192X^018-3-173-196.
- Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты / пер. с нем. М. Кузнецова. М.; СПб., 1997. 312 с.