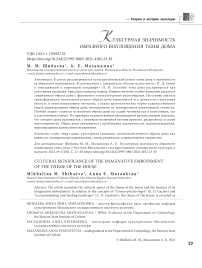Культурная значимость образного воплощения темы дома
Автор: Шибаева Михалина Михайловна, Мазанкина Анна Евгеньевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 4 (102), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается культурологический аспект темы дома и особенности её образного воплощения. В соотнесении с концептами «Космо-психо-логос» (Г. Д. Гачев) и «вмещающий и кормящий ландшафт» (Л. Н. Гумилёв) тема дома раскрывается как культурная традиция, присущая каждому народу. Именно поэтому особое внимание уделяется сопряжению образа дома с феноменом этнокультурного разнообразия. На основе анализа трансформации полисемантичного образа дома выявляются его ценностно-смысловая ёмкость и экзистенциальное звучание, а также архетипические черты художественного опыта моделирования образа дома, неотделимого от темпоральных переживаний личности. Особый акцент ставится на влиянии образа дома на судьбу человека как в позитивном, так и в негативном ключах. На примерах художественных произведений разных авторов показано, что концепт дома развивается с помощью включения мотива времени, раскрываясь в своей многозначности. Образ дома связывается с проблемами идентичности, взаимоотношений, мироощущения, ценностного восприятия.
Образ дома, культурная традиция, полисемантичность образа дома как ценности, темпоральные переживания, автор, реципиент, художественное творчество
Короткий адрес: https://sciup.org/144162192
IDR: 144162192 | УДК: 130.2
Текст научной статьи Культурная значимость образного воплощения темы дома
Одной из многовековых традиций мировой культуры является тема дома, отражённая в текстах философского и художественного характера. Полисемантика и эмоциональное звучание данной темы связаны с проблемой субъективного переживания дома как «крепости», «душевной ниши», семейных уз и т.д. Гастон Башляр в исследовании поэтики пространства писал, что есть образы, которые предстают как явления душевного порядка: «Мы имеем в виду изучение феномена поэтического образа, схваченного в его актуальности, когда он возникает в сознании как непосредственное порождение сердца, души, всего существа человека» [2, с. 10].
Отсюда правомерность обращения к образу дома, который, на наш взгляд, является одним из наиболее значимых, эмоционально насыщенных и концептуальных в творческом пространстве художника. И прежде всего – как ценность.
Исходя из того, что ценность является основой каждой культуры, субъективный опыт «работы души» заслуживает статуса культурной ценности, как и любое произведение, созданное посредством творческого усилия. В ряду таких произведений и те, в которых глубоко и ярко раскрыва- ются различные грани темы дома. В реалиях смены хронотопов культуры и систематического переосмысления ценностей образ дома – благодаря особенному к нему отношению – неизменно остаётся общечеловеческой ценностью, невзирая на культуру, в которую он помещён: он вездесущ и ни из одной культуры как ценность не уходит.
Образ дома как предмет субъективных переживаний, связанных с феноменом «памяти сердца», не только питает «жизненный мир» (Э. Гуссерль) человека, но и обогащает его духовно-душевный опыт. По сути, сопровождающий каждого из нас образ дома как «начала начал» не сводим к облику конкретного жилища, а являет собой пространство особого рода. Мы говорим о пространствах счастливых и о пространствах несчастных, о пространствах жизни и смерти, о пространствах любви и ненависти, о пространствах зарождения конфликта и его разрешения, о пространствах, в которых жили люди до нас, в которых живут наши современники, в которых будут жить после нас.
Дом – это совершенно особое место, которое в своё время становится предметом творческого воплощения и мифологизации. Образ дома формируется в детстве, а за- тем трансформируется на протяжении всей жизни, сохраняя черты первого, особенного, родного, можно сказать, бесценного пространства. К идее безграничной ценности обращается воображение художника снова и снова, потому что она наделена воспоминаниями, впечатлениями и переживаниями; дом – это начало пути – исток или отправная точка, от которой и автор, и реципиент получают импульс в будущее. От пространства «родительского» дома в немалой степени зависит мироощущение субъекта, его отношение к ценностным категориям и к своему Я. Как человек определяет то, каким будет дом, так и дом значительным образом влияет на человеческую судьбу.
Эмоциональная нагрузка темы «дом и я», выраженной языком искусства, восходит ещё к Античности. В «Одиссее» Гомера сопряжены понятия «дом – мир». Любовь к дому – к родным стенам, к своей семье является подспорьем для главного героя в преодолении препятствий. Дом – это особенный смысл. Жить и переживать неудачи стоит ради того, чтобы снова вернуться в дом и почувствовать себя в покое и безопасности:
«Дома я! Это я сам! Претерпевши несчётные беды, Я на двадцатом году воротился в родимую землю» [8, с. 315].
Процитированные строки по своему смыслу близки к концепту Г. Д. Гачева «Космо-психо-логос», объясняющему своеобразие национальной культуры уникальностью природно-климатических условий жизни народа (эта компонента ментальности народа как субъекта культурно-исторического развития у Л. Н. Гумилёва определена как «вмещающий и кормящий ландшафт»), особенностями «народной души» и этического самосознания. В своей совокупности эти параметры бытия любого народа актуализируются в каждой из трёх подсистем национальной культуры – материальной, духовной и художественной. И в каждой из этих сфер далеко не последнее место занимает дом: как реально существующее произведение человеческих рук, как ценность и как поэтический образ. И одно из подтверждений тому – мифопоэтическая «Одиссея» Гомера, который в конце концов вернул своего героя в «отчий дом», в родную семью.
Разумеется, категории, в которых проецировался образ дома, изменялись по своей значимости, но сама важность дома как такового осталась незыблемой. К более подробному анализу феномена дома как культурной ценности мы подойдём при помощи рассмотрения образов дома в произведениях искусства, обращаясь к творчеству А. П. Чехова, А. А. Тарковского, И. А. Бродского. Мы приходим к убеждению в том, что образ дома – это не только стержень бытия, но и вариативный способ творческого существования.
Художественный образ дома в искусстве ярко выражает авторскую мысль и характер переживаний по поводу связи человека с ним. «Дом» в искусстве предстаёт в самых разных сюжетных обстоятельствах и визуальных обликах. Это особенно заметно по литературному опыту образного воплощения темы дома. Прозаики, поэты и драматурги осмыслили дом как константу человеческого сознания и бытия, как ценность культуры и психологический фактор преемственности поколений в каждой семье. Проиллюстрируем это на ряде литературных текстов.
В драматургии Антона Павловича Чехова образ дома является центральным – острота конфликтной стороны пьес основана на осмыслении образа дома. Стоит лишь задуматься, и мы приходим к осознанию того, что в каждой из пьес проецируется образ дома как символ разрушения. И нет – не сам дом разрушает всё вокруг, не его физическое наличие или энергетическая сила. Здесь нет места магии или закону возмездия – действующие лица разрушают связи друг с другом, не чтят традиции, стремятся к чему-то иллюзорному – утрачивается старый «идеал», а ввиду «ненахождения» нового происходит потеря ценностей: тогда и образ дома постепенно стирается – он выедает память человека о светлом времени – разрушается идентичность, и героям приходится начинать всё с чистого листа... Но каждому ли это удастся? Вопрос, заданный Чеховым, остаётся открытым. Жить без дома человеку сложно, а построить новый «счастливый» дом – не так просто, как кажется. Развивая тему дома, автор выявляет проблематику – всеобщая глухота: каждый из героев зациклен на самом себе, на реализации своих амбиций и собственных интересов. Ничто не ценнее, чем сам герой, беспринципность порождает глупость, и результатом этой глупости становится гибель дома, безразличная для всех. Чеховский дом – это забытый всеми Фирс в «Вишнёвом саду» – никому ненужное прошлое, использованное, выброшенное.
Мотив духовно-душевной связи дома как особого пространства с его обитателями и их укладом жизни звучит и в прозе Чехова, например, в рассказе «Дом с мезонином». Смысловая ёмкость и тональность одного из последних повествований писателя подводят читателя к пониманию неразрывности атмосферы дома, психологического настроя людей, в нём живущих, и стиля их взаимоотношений друг с другом и гостями.
Чеховский опыт образного воплощения темы дома как источника самых разных, по- рой полярных переживаний, как драматического пространства межличностной коммуникации во многом повлиял на драматургию Бернарда Шоу. Результатом творческого импульса английского писателя стала пьеса «Дом, где разбиваются сердца», в которой внешне благополучное общество утрачивает свои ценностные ориентиры: здесь каждый герой либо лицемерен, либо зол, либо слаб характером. Стены дома перестают защищать, когда из-за взаимного непонимания угасают добрые отношения между людьми.
Феноменальность поэтического образа дома заключается в том, что он, помимо прочих перечисленных характеристик, является невероятным событием как для художника, так и для зрителя. Зрительское эстетическое переживание не менее, а иногда и более ярко с точки зрения обогащения эмоционального опыта личности. Появление на первом плане образа дома в художественных произведениях – беспрекословно – затрагивает самые отдалённые, но самые живые и уязвимые каналы нашей памяти, что способствует возникновению такой эстетической реакции, как катарсис. «Мы могли бы сказать, что основой эстетической реакции являются вызываемые искусством аффекты, переживаемые нами со всей реальностью и силой, но находящие себе разряд в той деятельности фантазии, которой требует от нас всякий раз восприятие искусства», – рассуждал Л. С. Выготский относительно психологического воздействия искусства [5, с. 370]. Предполагаем, что образ дома силён энергетически настолько, что полноправно является «переживаемым аффектом».
Данное предположение вытекает из самой практики искусства, одной из традиций которого является тема дома. Это особенно наглядно проявляется в искусстве кинематографа, в частности, в «аффектах» режис- суры Андрея Тарковского. Для него, а значит – и для зрителя, дом – это вспышка или яркое впечатление, резкое, рождённое внезапно, подкреплённое лишь прошлым, которое пока ещё уловимо усилиями памяти. В «Зеркале» режиссёр обращается к своему дому, который являлся главным фундаментом его творческой образности. Дом для него – ностальгия и место, в которое хочется вернуться. Здесь Тарковский вспоминает своё детство как самое счастливое время («... Почувствую себя ребёнком и испытаю счастье. Оттого, что всё ещё впереди. Что всё ещё возможно …»); дом в фильмах Тарковского – это место счастливого пространства, которое уже не вернуть, не воплотить в жизнь никакими средствами. И всё, что остаётся художнику, – это надежда и вера в то, что хотя бы в закромах своей памяти этот дом способен ожить и оживить все события счастливого времени.
Стоит отметить, что тема дома получила поэтическое развитие ещё у отца режиссёра – Арсения Тарковского. Поэт, чьё творческое начало было связано с культурным контекстом Серебряного века, а зрелость совпала с трагическими испытаниями последующих десятилетий, придал образу дома особую интонацию. И эта интонация поэтического переживания дома как огромной ценности звучит в «Зеркале» как проекция сына поэта, как его заклинание, его молитва по прошлому, которое Андрей Тарковский оставляет на ленте, будто прощаясь со своим домом, со своим детством, со своим счастьем:
Живите в доме – и не рухнет дом. Я вызову любое из столетий, Войду в него и дом построю в нём. Вот почему со мною ваши дети И жены ваши за одним столом, – А стол один и прадеду, и внуку:
Грядущее свершается сейчас,
И если я приподымаю руку, Все пять лучей останутся у вас.
Я каждый день минувшего, как крепью, Ключицами своими подпирал, Измерил время землемерной цепью И сквозь него прошёл, как сквозь Урал.
В этом звучащем в «Зеркале» стихотворении концепт дома соотносится с темой времени – ещё более глобальной. Дом представляется читателю бесконечным, вечным – незыблемой ценностью, в основе которой не только семья, но и общество в целом, с заботой о будущем. Однако протянутый из самого детства режиссёра Андрея Тарковского мотив дома, ставший одним из ключевых в его творчестве, отражает личные переживания художника относительно его семьи, в которой соединяется или разрушается связь мужского и женского, что проецируется через атмосферу пространства дома. Творчество Андрея Тарковского подтверждает: дом – это особенное счастливое пространство, в которое хочется возвращаться вновь и вновь, с которым хочется слиться, став единым целом.
Разумеется, Андрей Тарковский не был самым первым, кто вывел на экран художественный образ дома и связанной с ним судьбы его обитателей. В 1957 году был создан на основе сценария Иосифа Ольшанского фильм «Дом, в котором я живу» кинорежиссёра Льва Кулиджанова. Время жизни героев этого дома – 1935 год. Здесь дом – это пространство, у которого нет постоянных жильцов (коммунальная квартира), но это пространство поиска ответов на глубинные вопросы и попыток понимания себя. Дом – образно – то разрушается, то выстраивается заново, то понимается по-новому. Образ дома, как структура взаимоотношений между людьми, – хрупок, эластичен и очень уязвим. Воспоминания об этом фильме возвращают нас вновь к «Зеркалу» Тарковского. Время действия этого фильма – также примерно 1935 год. Мы смеем предположить, что «Дом, в котором я живу» в некотором смысле повлиял на образ дома Андрея Тарковского, ведь выпущенный в 1957 году фильм совпал с началом становления Тарковского как режиссёра.
Образ дома не всегда рождает положительный отклик «памяти сердца». Зачастую это и переживание болезненное и ранящее. Например, Иосиф Бродский, вынужденный покинуть не только родительский дом, но и страну, много своих стихотворении в эмиграции посвящал Петербургу, который также воспринимал как Дом. Поэтизации воспоминаний о родных местах и мотиву ностальгии по ним он оставался верен до самой смерти. И всё-таки в своих «Полутора комнатах» Бродский писал о том, что все мысли о доме – это уже плод его воображения, ведь от его родного дома ничего не осталось, а потому дом теперь живёт внутри него. Дом живёт внутри человека. «Для нас квартира – это пожизненно, город – пожизненно, страна – пожизненно» [3, с. 118]. В одном из своих стихотворений поэт размышляет о проблеме смены одного пространства другим, вдруг превращая дом в живой организм, одушевлённый, как бы всё понимающий, чувствующий, нуждающийся в хозяине:
Всё чуждо в доме новому жильцу.
Поспешный взгляд скользит по всем предметам, чьи тени так пришельцу не к лицу, что сами слишком мучаются этим. Но дом не хочет больше пустовать.
И, как бы за нехваткой той отваги, замок, не в состояньи узнавать, один сопротивляется во мраке.
Да, сходства нет меж нынешним и тем, кто внёс сюда шкафы и стол, и думал, что больше не покинет этих стен; но должен был уйти, ушёл и умер.
Ничем уж их нельзя соединить: чертой лица, характером, надломом. Но между ними существует нить, обычно именуемая домом.
Феноменальность дома заключается в том, что это «бытие во внутреннем»: человек укореняется в своём пространстве, «он обживает свой дом в реальности, в мыслях, в грёзах» [1, с. 123]. В его мечтах дом благополучен и счастлив, а если же нынешний дом – несчастливое пространство, реципиент окунается в свои грёзы, воссоздавая особый замечательный дом, который, в свою очередь, является комплексом домов, в которых субъекту доводилось жить, – разумеется, во главе с домом детства (в том случае, если он был пространством счастья).
Дом прямо пропорционален человеческой личности, ведь он создаётся его руками, наполняется его мыслями, отношением. Дом – это своего рода сосуд, который художник творит из глины, – и от нечаянного неровного движения спустя время на фундаменте может обнаружиться трещина. «Дом – макет мироздания, национальный космос в уменьшении … Как мир (природа) – храм, дом бога, так дом – храм человека, человек творит дом, как Бог мир – по своему образу и подобию» [7, с. 307].
Дом – это поистине мощнейшая сила, которая наделена чувствами, воспоминаниями, переживаниями, реакциями и мечтами, которые живут в нашем воображении, которые являются частью нашего мироощущения. Воспоминания о доме волнуют нас гораздо сильнее, чем мы сами может представить.
В наше время, в реалиях глобализма и динамики повседневного существования, мы постепенно приходим к тому, что все рамки и границы дома стираются. Человек, как правило, мало привязан к чему-то сокровенному: он более самодостаточен, ведь дом – внутри него. Об этом говорит в своём фильме «Земля кочевников» режиссёр Хлоя Чжао. Героиня, лишившаяся дома, оказывается одна в трейлере. Ей представляется множество возможностей вновь обрести реальный вещественный дом, но ни одну из них она не берёт во внимание, ведь дом внутри неё самой, в чувстве единения с природой и миром, в её выборе созерцательного пути в никуда. Ферн, главная героиня фильма, отказалась от дома и отправилась в «вечное путешествие», пытаясь таким образом справиться с горем, которое случилось в её жизни. Дом для неё сейчас – это постоянное движение, дорога, которая не даёт ей возможности чувствовать себя одинокой. Для другой же героини книги Дж. Брудер, по которой был снят фильм, жизнь в «доме» стала невыносимой, обесценилась и потеряла духовную насыщенность: «Я отказалась от своих четырёх картонных стен, трёх работ с неполным графиком и всех привязанностей к иллюзорной безопасности, этому жалкому осколку американской мечты, который ещё сидел в моей душе. Цель: выйти на дорогу на трейлере, на поиски приключений» [4, с. 33].
Приведённые иллюстрации художественного воплощения темы дома подтверждают мысль Освальда Шпенглера о том, что «душа людей и душа их дома – одно и то же», что состояние души человека напрямую зависит от того, в каком состоя- нии находится его дом: благополучен ли он, является ли он пространством счастья и покоя; не менее значительно и следующее утверждение философа, который неоднократно обращался к концепту дома: «История искусства никогда не могла освоить этой области … здесь ясно и отчётливо пролегает граница между двумя мирами: миром самовыражения души и миром выразительного языка» [10, с. 158]. Философ, говоря об архитектурном образе, утверждает, что появление дома – это настоящее событие для художника, ведь дом – в свою очередь – это некоторый импульс и проекция его «внутреннего» дома – дома его души.
Примечательно, что образ дома сохраняет статус последней и единственной ценности и тогда, когда самого дома не остаётся. Это то, что задерживает мысль на ощущении дома. Дом живёт внутри нас, позволяя снова обращаться к своему образу, трансформируясь в нашем воображении: это место – пусть и не существующее – в которое можно вернуться с помощью усилия фантазии, памяти.
Образ дома также напрямую связан с проблемой идентичности. Обретение идентичности – это поиск личностного комфорта самоопределении. Этот поиск связан и с обретением дома. Дом, живущий в воображении человека, становится реальным – хотя бы отчасти. Концепт дома настолько поднимается над жизнью человека, что он уже не в силах объяснить это воздействие, это влияние на воображение.
Наиболее важным моментом, на наш взгляд, считается связь дома с детским миром переживаний. Зигмунд Фрейд был убеждён в том, что «неясные воспоминания детства и на них построенные фантазии всегда заключают самое существенное в духовном развитии человека» [9, с. 302].
Словом, дом – это фундамент, на котором основывается внутренний мир человека. Счастливый дом – это воспоминания, построенные на счастье, – настоящая кладовая образов, к которым в своей памяти мы готовы возвращаться бесконечно. Это пространство является действительно ценным, уникальным. Образ счастливого дома – это фокус идеалов, которые являются благими, положительными. Через призму образа дома художник интерпретирует ценностные ориентиры общества, обличая проблему или же ностальгируя по замечательному прошлому. Образ дома как культурной ценности масштабен и наделён обширным опытом творческих переживаний. Дом в разные этапы жизни человека несёт разную смысловую нагрузку. Дом исполняет функцию жили- ща – это место, в котором человек обретает уединение и спокойствие. Дом также может быть пространством переживания – местом, которое оставило в нас след. В то же время образ дома может быть символом утраты и сожаления по тому, что давно прошло, по тому, что уже не вернётся.
Таким образом, являясь одной из традиций мировой культуры, поэтизация образа дома способствует расширению гра- ниц духовно-душевного опыта личности и обогащению её жизненного мира. Благодаря этому рождается ощущение жизнестойкости и усиливается понимание ценности связи нас с нашими родителями. Особенно тогда, когда дом воспринимается как «праздник, который всегда с тобой» (Эрнест Хемингуэй).
Список литературы Культурная значимость образного воплощения темы дома
- Башляр Г. Избранное: Поэтика грёзы : перевод с французского. Москва : РОССПЭН, 2009. 437 с.
- Башляр Г. Поэтика пространства. Москва: Ad Marginem, Музей современного искусства "Гараж", 2020. 320 с.
- Бродский И. Полторы комнаты = In a Room and a Half. Санкт-Петербург : ИГ Лениздат, 2015. 324 с.
- Брудер Дж. Земля кочевников / перевод с английского Д. Смирновой. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2021. 285 с.
- Выготский Л. С. Психология искусства. Москва : АСТ, 2019. 479 с.
- Гачев Г. Д. Философия быта как бытия. Москва : Фонд «Мир», 2019. 712 с.
- Гомер. Одиссея / перевод В. В. Вересаева под ред. академика И. И. Толстого. Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1953. 472 с.
- Фрейд З. Психоанализ творчества. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Достоевский. Москва, 1998. 415 с.
- Шпенглер О. Закат Европы // Философия истории : антология / сост. и ред. Ю. А. Кимелев. Москва : Аспект Пресс, 1995.