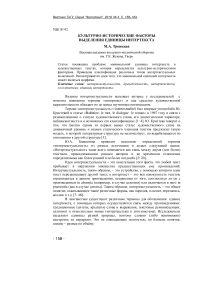Культурно-исторические факторы выделения единицы интертекста
Автор: Троицкая Маргарита Александровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования текста и дискурса
Статья в выпуске: 4, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме минимальной единицы интертекста в художественных текстах, которая определяется культурно-историческими факторами. Приведена классификация различных типов интертекстуальных включений. Рассматривается идея того, что минимальной единицей интертекста может являться морфема.
Интертекстуальность, прецедентность, интертекстема, логоэпистема, единицы интертекста
Короткий адрес: https://sciup.org/146121936
IDR: 146121936 | УДК: 81''42
Текст научной статьи Культурно-исторические факторы выделения единицы интертекста
Явление интертекстуальности вызывает интерес у исследователей с момента появления термина «интертекст» и как средство художественной выразительности обладает не до конца изученным потенциалом.
Термин «интертекстуальность» (intertextualité) был впервые употреблён Ю. Кристевой в статье «Bakhtine, le mot, le dialogue le roman» в 1967 году в связи с размышлениями о статусе художественного слова, его диалогическом характере, амбивалентности и о возможных его классификациях [1: 4]. Ю. Кристева говорит о том, что Бахтин одним из первых вывел статус художественного слова на динамичный уровень и взамен статического членения текстов предложил такую модель, в которой литературная структура не наличествует, но вырабатывается по отношению к другой структуре [5].
Ю.А. Башкатова приводит несколько определений термина «интертекстуальность» из разных источников и делает следующий вывод: «Интертекстуальность чаще всего понимается как связь между двумя (или более) текстами, принадлежащими разным авторам и во временном отношении определяемыми как более ранний или более поздний» [2: 20].
Идея интертекстуальности – это констатация того факта, что любой текст пребывает в окружении множества предшествующих ему произведений. Интертекстуальность, таким образом, – это устройство, с помощью которого один текст перезаписывает другой текст, а интертекст – это вся совокупность текстов, отразившихся в данном произведении, независимо от того, соотносится ли он с произведением in absentia (например, в случае аллюзии) или включается в него in praesentia (как в случае цитаты). Таким образом, интертекстуальность – это общее понятие, охватывающее такие различные формы, как пародия, плагиат, перезапись, коллаж и т.д. [7: 48].
В лингвистике существуют различные термины для обозначения единиц интертекста, с помощью которых осуществляется связь между произведениями: традиционные (цитаты, крылатые слова и выражения, текстовые реминисценции, аллюзии) и относительно новые (интертекстема и логоэпистема). Исследователи выделяют единицы разной природы, поэтому сложно (либо невозможно) выстроить их иерархию. Это не совпадающие полностью, но близкие понятия, однако – разные по объёму.
«Цитаты», «крылатые слова и выражения» – традиционные термины филологии. Под цитатой (от лат. citure – ‘призывать’, ‘приводить’) понимается дословная выдержка из какого-нибудь текста. Н.А. Баева приводит классическое определение цитаты И.Р. Гальперина как повтора фразы или высказывания из книги, речи, используемых для авторитетности, иллюстрации, доказательства или как основы для дальнейших рассуждений на какую-либо тему [1: 48-49].
Все исследователи выделяют два основных параметра цитаты: буквальность и дискретность. Точное воспроизведение чьих-либо слов и внешняя графическая отделимость цитаты от основного корпуса текста в виде кавычек, тире или иного шрифта являются облигаторными характеристиками цитаты. Некоторые авторы выделяют такую особенность цитаты, как точное указание на источник, которое не всегда обязательно, если, например, цитируемый автор всем хорошо известен [там же].
Частным случаем цитаты являются крылатые слова и выражения – «вошедшие в нашу речь из литературных источников краткие цитаты, образные выражения, изречения исторических лиц, имена мифологических и литературных персонажей, ставшие нарицательными» [6]. По определению А.Е. Супруна, текстовые реминисценции – это осознанные и неосознанные, точные и преобразованные цитаты или иного рода отсылки к более или менее известным ранее произведённым текстам в составе более позднего текста [8]. Н.А. Баева, ссылаясь на И.Р. Гальперина, даёт следующее определение аллюзии: «Аллюзия – это непрямая ссылка в виде слова или фразы на исторический, литературный, мифологический, библейский или бытовой факты в процессе речи или письма. Использование аллюзии предполагает знание факта, предмета или личности, на которые делается ссылка, со стороны читателя или слушателя» [1: 64]. По определению Н.А. Фатеевой, аллюзия – это заимствование определённых элементов претекста, по которым происходит их узнавание в тексте-реципиенте, где осуществляется их предикация [9].
Термины «интертекстема» и «логоэпистема», хотя и являются новыми лингвистическими терминами, уже получили признание научной общественности. Они возникли в связи с тем, что отражают попытку их авторов установить минимально возможный объём межтекстовой взаимосвязи, переживаемый как интертекст. В.М. Мокиенко и К.П. Сидоренко определяют интертекстему как «межуровневый реляционной (соотносительный) сегмент содержательной структуры текста – грамматической (морфемно-словообразовательной, морфологической, синтаксической), лексической, просодической (ритмикоинтонационной), строфической, композиционной, – вовлечённой в межтекстовые связи» [6].
В работе [10] интертекстема определяется как наименьшая единица, манифестирующая интертекстуальные отношения. Выделяются следующие виды интертекстем в научной литературе: цитата, реминисценция, аллюзия. Очевидно, что цитата, аллюзия и реминисценция объединены под общим понятием интертекстемы.
Е.Н. Золотухина под интертекстемой, или интертекстуальной единицей, понимает форму выражения языковой интертекстуальности, которая намеренно (или ненамеренно) включается в дискурс субъектом речи для передачи намёка на текст иного дискурса. Эта форма может быть представлена на разных языковых уровнях (текст, предложение, словосочетание, слово, морфема, звук, буква) [3]. Таким образом, интертекстема – наименьшая единица, манифестирующая интертекстуальные отношения; это форма выражения языковой интертекстуальности, которая намеренно (или ненамеренно) включается в дискурс субъектом речи для передачи намёка на текст иного дискурса. Тот факт, что интертекстема получает формальное выражение на любом уровне языка, подкрепляет предположение о том, что наименьшей единицей интертекста может служить даже буквосочетание.
Термин «логоэпистема» был предложен В.Г. Костомаровым и Н.Д. Бурвиковой. Под логоэпистемой (от греч. логос – ‘слово’ и episteme – ‘знание’) они понимают «языковое выражение закреплённого общественной памятью следа отражения действительности в сознании носителей языка в результате постижения (или создания) ими духовных ценностей отечественной и мировой культур» [6].
Е.Н. Канаева в работе [4] проводит строгое разграничение прецедентного текста и логоэпистемы. По мнению исследователя, прецедентные тексты выступают в роли текстов-источников рассматриваемых логоэпистем, в то время как логоэпистемы представляют собой символы, «свёртки» текста-источника как результат осмысления человеческих жизненных ценностей сквозь призму языка с помощью культурной памяти, способный вызывать ассоциации у читателя. В письменном тексте логоэпистемы играют роль маркеров, которые, вплетаясь в смысловую композицию речевого произведения, стимулируют и направляют развитие дискурса читателя, влияют на осмысление концепта текста.
Исходя из предположения о том, что минимальная единица интертекста может содержаться либо в прецедентных именах, либо в прецедентных высказываниях, мы поставили целью найти наименьшую единицу интертекста. Для удобства будем использовать для этого понятия термин «интертекстема». Материалом исследования послужил роман «Галапагосы» (в некоторых вариантах «Галапагос») американского писателя Курта Воннегута, поскольку это произведение является источником множества ярких примеров интертекстуальности в целом и прецедентных имён в частности, а также песня Л. Коэна «Hallelujah».
В песенной лирике довольно часто встечаются различного рода прецедентные феномены, которые служат интертекстемами. Особенностью песенных текстов является ограничение по объёму: тексты должны быть короткими и максимально ёмкими, а значит, и любые интертекстуальные включения должны отвечать тем же требованиям. Именно поэтому песни являются ценными в плане изучения – они могут включать в себя минимальные интертекстемы. Одним из примеров такого рода текстов может служить песня Леонарда Коэна «Hallelujah». Для изучения были выбраны первые два куплета этой песни.
«I've heard there was a secret chord
That David played and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
It goes like this: the fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you». (L. Cohen. Hallelujah)
Я слышал, есть тайный аккорд,
Что сыграл Давид и тем угодил Господу,
Но тебя музыка не интересует, так ведь?
Так это всё бывает, ... 1/4, 1/5,
Минор затихает,
Мажор звучит громче,
Озадаченный Царь творит
"Хваление Богу"
Вера твоя была крепка, но ты хотел доказательств,
Ты смотрел с крыши, как она купалась .
Её красота и лунный свет затмили разум твой. (Л. Коэн. Hallelujah)
В данном отрывке мы можем проследить отсылку к истории царя Давида и Вирсавии, которая впоследствии стала его женой. Этот сюжет описан во Второй книге Царств:
«And it came to pass in an eveningtide, that David arose from off his bed, and walked upon the roof of the king's house: and from the roof he saw a woman washing herself ; and the woman was very beautiful to look upon. And David sent and enquired after the woman. And one said, Is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite?» (II Samuel 11:2–3)
«Однажды под вечер Давид , встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину; а та женщина была очень красива . И послал Давид разведать, кто эта женщина? И сказали ему: это Вирсавия, дочь Елиама, жена Урии Хеттеянина». (2 Цар. 11: 2-3)
Слова, выделенные в тексте песни, соотносятся с прецедентным текстом из Библии и, рассматриваемые вместе, формируют прецедентный сюжет: царь Давид полюбил красавицу Вирсавию. Прецедентная ситуация формируется здесь при помощи тех же слов, что используются в тексте-первоисточнике, которые усилены присутствием прецедентного имени Давид. Любое слово, включённое в текст и содержащееся также в прецедентном тексте, но не в любом контексте соотносимое с ним, не может выступать как самостоятельная единица интертекста: это слово должно либо быть дополнено другими словами, относящимися к прецедентной ситуации (сюжету) или прецедентному тексту, либо должно дополняться самим описанием ситуации (сюжета).
Роман К. Воннегута «Галапагосы» повествует о небольшой группе людей, которые совершают круиз на корабле «Байя де Дарвин» и потерпели кораблекрушение у острова Санта-Розалия на Галапагосских островах. Герои отрезаны от внешнего мира, где неизвестный вирус сделал всех женщин на Земле бесплодными. Писатель обращается к библейским текстам и сюжетам, которые сходны с ситуацией, описанной в романе. Тем самым автор, с одной стороны, переосмысливает библейские мифы, а с другой стороны, наполняет произведение новыми смыслами.
В центре внимания оказывается тот факт, что те немногие, кто попал на остров и избежал заражения, должны будут стать родоначальниками нового человечества. Сама ситуация имеет сходства с мифом об Адаме и Еве, а также о Всемирном потопе.
Лев Траут, от лица которого ведётся повествование, говорит:
«Siegfried von Kleist is not important to my story, but his only sibling, his brother Adolf, three years his senior and also a bachelor, surely is. Ad olf von Kleist, the Captain of the Bahía de Darwin, would in fact become the ancestor of every human being on the face of the Earth today.
With the help of Mary Hepburn, he would become a latter-day Adam , so to speak. The biology teacher from Ilium, however, since she had ceased ovulating, would not, could not, become his Eve . So she had to be more like a god instead». (K. Vonnegut. Galapagos)
«3игфрид фон Кляйст не играет существенной роли в моем рассказе – в отличие от его единственного брата, Адольфа, который был на три года младше первого и также неженат. Более того: Ад ольфу фон Кляйсту, капитану "Байя де Дарвин", суждено было стать прародителем всего рода человеческого, обитающего ныне на поверхности Земли .
При содействии Мэри Хепберн ему, так сказать, назначено было стать Адамом нового времени. Сама же преподавательница биологии из Илиума, ввиду того, что она утратила дар зачатия, не должна, не могла стать его Евой . Вместо этого ей предстояло выступить скорее в роли Господа Бога». (К. Воннегут. Галапагосы)
И далее (о девочках из племени канка-боно):
«These children would become six Eves to Captain von Kleist's Adam on Santa Rosalia». (K. Vonnegut. Galapagos)
«Этим детям предстояло стать шестью Евами для своего Адама -капитана фон Кляйста». (К. Воннегут. Галапагосы)
В приведённых отрывках автор прибегает к использованию прецедентных имён (Адам, Ева), что является отсылкой к прецедентному тексту – Библии, а точнее к книге Бытия. В сочетании с перифразом ( the ancestor of every human being on the face of the Earth – прародитель всего рода человеческого, обитающего ныне на поверхности Земли ) эти имена формируют прецедентную ситуацию, прецедентный сюжет: человечество находится у своих истоков, когда начало ему дают всего несколько людей. Более того, интертекстуальная отсылка видна уже на уровне буквосочетания Ad в имени капитана корабля – Adolf von Kleist. А дальнейший текст лишь подтверждает это.
Как уже было упомянуто, сюжет романа «Галапагосы» позволяет провести параллель с мифом о Всемирном потопе. Для достижения этого эффекта писатель снова прибегает к прецедентным именам и прецедентному сюжету. Как и в библейской книге Бытия, человечеству суждено исчезнуть, за исключением той горстки людей, которые должны будут стать прародителями нового человечества.
И если в легенде о Всемирном потопе человечество уничтожается сразу, в короткий срок, в результате затопления всей планеты, то в романе человечество исчезает более «гуманно» – никто не умирает сразу, вместо этого неизвестный вирус делает всех женщин бесплодными.
Автор придаёт символическое значение и острову Санта-Розалия, куда попали пассажиры сбившегося с курса корабля «Байя де Дарвин»:
«Before she went up there, though, she had one more barb for the Captain. She asked him to name the island she might expect to see very soon. This was something he had done all through the third day at sea, naming islands which were just below the horizon and dead ahead, supposedly. "Keep your eyes peeled for San Cristóbal, or maybe Genovesa – depending on how far south we are," he had said, or, later in the day, "Ah! I know where we are now. At any moment we will be seeing Hood Island – the only nesting place in the world for the waved albatross, the largest bird in the archipelago." And so on. <…>
As the fifth day drew to a close, though, the Captain remained silent when Mary asked him to name any island he believed to be nearby. So she asked him again, and he told her this: " Mount Ararat "». (K. Vonnegut. Galapagos)
«Однако, прежде чем отправиться туда, она отпустила еще одну колкость в адрес капитана, попросив его назвать остров, который она может вскоре увидеть со своего наблюдательного пункта. Ибо вот уже третий день, как тот упоминал все новые острова, лежавшие якобы за горизонтом, прямо по курсу:
«Смотрите в оба. Вскоре должен показаться Сан Кристобаль или, быть может, Хеновеса – в зависимости от того, как сильно мы отклонились к югу, – говорил он; и затем в тот же день заявлял: – Ага! Я знаю, где мы. В любой момент может появиться Худ – единственное в мире место гнездовья волнистого альбатроса, самой крупной птицы на архипелаге". И так без конца.
Однако теперь, на исходе пятого дня плавания, на вопрос Мэри, какой остров ожидает их впереди, капитан промолчал.
Она спросила снова – и он мрачно ответил: " Гора Арарат "». (К. Воннегут. Галапагосы)
Такое название острова (гора Арарат) является аллюзией к Библии, где мы можем найти следующие строки:
«And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat ». (Genesis 8:4)
«И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских». (Быт. 8:4)
Описывая ситуацию, автор не придерживается строго текста-первоисточника в том смысле, что он не приводит цитат, потому как прецедентная ситуация является широко известной и поэтому легко узнаваемой. Это можно объяснить тем, что библейское предание о возникновении человечества является одним из центральных и значимых текстов культуры, а значит и перевыражается оно в других текстах чаще. Кроме того, легко прослеживается его связь со схожими мифами, которые присутствуют в каждой культуре. Всё это позволяет прецедентным феноменам, в частности прецедентным именам, выражаться в других текстах даже на уровне буквосочетания и быть опознанными как интертекстуальные включения.
На основании изложенного выше можно заключить, что наименьшей единицей интертекста, минимальной интертекстемой, является слово, которое чаще всего выражено прецедентным именем. Однако ей может являться даже буквосочетание, отсылающее к слову – символу культуры. Некие тексты зафиксировали феномены, ставшие символами культуры: другие тексты, имена, ситуации. Чем глубже история прецедентности, чем чаще прецедентный текст эксплуатируется в других текстах, тем меньший объём отсылки требуется – она может быть выражена даже буквой или буквосочетанием. И наоборот: чем короче история прецедентности, тем больший объём отсылки требуется.
Список литературы Культурно-исторические факторы выделения единицы интертекста
- Баева Н.А. Интертекстуальность как текстовая категория: учеб. пособие. Кемерово: Кузбассвуиздат, 2006. 116 с.
- Башкатова Ю.А. Интертекстуальность словесно-художественного портрета: учеб. пособие. Кемерово: Кузбассвуиздат, 2006. 143 с.
- Золотухина Е.Н. Категория интертекстуальности в современном русском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук. Калуга, 2009 . URL: http://cheloveknauka.com/kategoriya-intertekstualnosti-v-sovremennom-russkom-yazyke (дата обращения: 02.09.2016).
- Канаева Е.Н. Текстовые функции логоэпистемы (на материале газетных заголовков): автореф. дис. … канд. филол. наук. М.: 2000 . URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index-151450.html (дата обращения: 03.09.2016).
- Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман//Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. М.: 2000. С. 427-457 . URL: http://www.philology.ru/literature1/kristeva-00.htm (дата обращения: 01.09.2016).
- Попова Е.А. Прецедентные тексты в обучении русскому языку//Русский язык в школе. 2007. № 3 . URL: http://do.gendocs.ru/docs/index-270849.html (дата обращения: 02.09.2016).
- Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности: пер. с фр. М.: Издательство ЛКИ, 2008. 240 с.
- Супрун А.Е. Текстовые реминисценции как языковое явление//Вопросы языкознания. 1995. № 6 . URL: http://www.philology.ru/linguistics2/suprun-95.htm (дата обращения: 12.09.2016).
- Фатеева Н.А. Типология интертекстуальных элементов и связей в художественной речи//Известия АН. Серия литературы и языка. 1998. Т. 57. № 5 . URL: http://feb-web.ru/feb/izvest/1998/05/985-025.htm (дата обращения: 12.09.2016).
- Zuriene S. Виды интертекстем, их функция и роль в создании когерентности дискурса Т. Толстой (на материале сборника рассказов «Изюм»)//Zmogus ir zodis. 2005. № 1 . URL: http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/didaktinelingvistika/2005/zuriene.pdf (дата обращения: 04.09.2016).