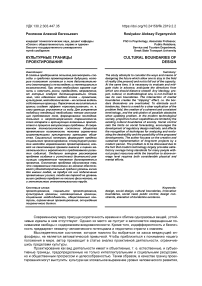Культурные границы проектирования
Автор: Росляков Алексей Евгеньевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка рассмотреть способы и средства проектирования будущего, которые позволяют остаться в поле действительности (настоящего) и не выпадать из потенциальных возможностей. При этом необходимо заранее оценить и смягчить риски, предвидеть направления, от которых следует дистанцироваться. Отмечено, что идеология любого толка - проектная, культурная, методологическая - не склонна видеть собственные границы. Пересечение мыслительных границ создает эффект «проскальзывания», т. е. сами границы упускаются из виду. Для устранения подобных тенденций необходимы четкая экспликация проблемного поля, формирование последовательного и непротиворечивого терминологического аппарата и артикуляция возможных препятствий в процессе актуализации проблемы. В современном технологическом состоянии общества проективные возможности человека ограничены существующими культурными границами общества. Социальный контроль формирует пределы социального прогнозирования, стимулирует развитие методов нормативного проектирования, влияет на легитимацию приемов анализа и оценки желательности и вероятности предлагаемого развития событий. Отдельно автором рассмотрена проблема создания и устойчивой длительной реализации современным человеком долговременных проектов. Означенная проблема обусловлена тем, что современные технологии во многом обеспечивают удовлетворительный средний уровень жизни для многих людей, не требуя от них подключения проективных усилий, тогда как переход на уровень выше среднего требует не только физического, но и значительного интеллектуального труда.
Проектирование, социальное проектирование, культурные границы, инновационные границы, социальная необходимость, общественный контроль, ограничения проектирования, отчуждение пограничного бытия
Короткий адрес: https://sciup.org/149133915
IDR: 149133915 | УДК: 130.2:303.447.35 | DOI: 10.24158/fik.2019.2.2
Текст научной статьи Культурные границы проектирования
Современному миру присущи скоротечность времени и обилие одноразовых вещей, устойчивые идеалы в нем отсутствуют. Однако их место не пустует и заполняется извращенным пониманием свободы с содержанием вседозволенности. Кроме того, индифферентность и беспечность предваряют нехватку человеческого потенциала и недостаток страсти к знаниям.
Мыследеятельное состояние, которое помогло бы выбраться из хаоса вездесущей инфосферы, не является автоматической привычкой. Чтобы приблизиться к пониманию нашего положения в мире, автор производит в статье анализ проективной деятельности, ограничившись пределами культуры.
Проектирование как вид деятельности имеет и объективные, т. е. естественные, и субъективные границы, предопределенные не только интеллектуальными и социальными ресурсами, но и общественным прогрессом и целесообразностью. Таким образом, в качестве границ проектирования могут выступить: культура как эпохальное выражение уровня человеческого развития, допустимая степень утопичности, возможности инновации, технологическое совершенство, социальная необходимость и общественный контроль.
Несмотря на то что культура как феномен человеческого духовного бытия не предполагает никаких ограничений, очевидно и другое: культура эпохи в целом и ее конкретные события не могут не иметь границ. Более того, культурный пласт определенной эпохи сам выступает в качестве границы и инструмента обуздания фантазий, аллюзий и утопий. Данное обстоятельство приобретает исключительное значение в деле проектирования конкретной реальности и планирования будущих социальных систем.
Вопрос о границах проектирования в определенной степени вырастает из биологической характеристики человека. Уместно вспомнить, что зрительное поле человека ограничено расположением его органов зрения, их физическими и биологическими свойствами, в результате чего всё, находящееся вне зоны поля зрения, остается вне нашего обозрения. Возможность в любой момент развернуться делает проблему границы несущественной и оставляет ее без должного внимания. Наше зрение не фиксирует никакой линии разрыва зрительного поля, между видимым и невидимым нет границ, человек о них никогда не думает. Данный принцип - реальной ограниченности зрительного поля и отсутствия возможности ее наблюдения - распространяется на все конструкции нашего «умовидения», т. е. и в тех случаях, когда совсем не просто развернуться или в принципе невозможно это сделать. Необходимы осознанная, целенаправленная методология, включающая в себя конкретные способы и средства осуществления такого «разворота», или столь же осознанная фиксация этой временной или принципиальной невозможности, роль которой как раз и выполняет культура.
Так, идеология любого толка - проектная, культурная, методологическая - не склонна видеть собственные границы. Пересечение мыслительных границ создает эффект «проскальзывания», т. е. сами границы упускаются из виду. Данный феномен, названный А.Г. Раппапортом «пограничной слепотой», становится причиной запустения пограничных зон. А.Г. Раппапорт пишет: «Отчуждение пограничного бытия - характерное для состояния наших городских пригородов -можно наблюдать и в культуре, границы сфер которой, с одной стороны, признаются крайне продуктивными (науки на “стыках”), а с другой стороны, крайне запущенными» [1, с. 344].
Для устранения подобных асоциальных тенденций необходимы прежде всего четкая экспликация проблемного поля, формирование последовательного и непротиворечивого терминологического аппарата и полная артикуляция возможных препятствий в процессе актуализации проблемы. В противном случае не будет средств, способов и возможности работать со сложными проблемами конструирования будущего на теоретическом уровне.
Инновационные границы проектирования. Очевидно, что проективная деятельность по определению является сильным источником инновации. Более того, вполне уместно распознавать само проектирование в качестве части процесса социальной инновации. Однако эти понятия далеко не всегда тождественны, на что указал А.Г. Раппапорт. Можно говорить об инновационном процессе, который не содержит проектирования, но также и о проектировании без инноваций. «Некоторые измерительные процедуры в геодезии требуют, например, проектирования, но не вносят никаких социальных инноваций. Есть и инновационные находки, которые обходятся без проектирования» [2, с. 348]. Аналогичные оценки отмечаются и зарубежными авторами в различных частных аспектах идеологии проектирования как самостоятельного понятия и в отдельных направлениях проективной деятельности. Так, исследователи отмечают, что существующие модели проектирования могут служить идеологическим функциям в различных дисциплинах проектирования, но при этом нет конечного или канонического списка идеологий проектирования при наличии уже устойчивых и активно используемых [3]. Так, объемы указанных понятий не покрывают друг друга, но тем не менее, «после того как инновационные процессы в обществе приняли широкий размах и стали рациональными, планомерными и организованными, т. е. именно в тех условиях, когда проектирование превратилось в сферу и начало экспансии в другие области деятельности культуры, вопрос о границах встал и в области проектирования, и в области инновации, причем по преимуществу (такова историческая специфика момента) как вопрос о проектировании прежде всего» [4, с. 349].
Социальная инновация в качестве процессуальной формы конструирования может состояться, с одной стороны, между прошлым и будущим, с другой - между мышлением и действием, т. е. именно в тех пространствах мысли и времени, где разворачиваются проективные возможности. Следовательно, в качестве пространства выступает настоящее, которое через разнообразные формы физической и мыслительной деятельности осознанно и целенаправленно созидает новые сферы реализации человеческого потенциала.
Далее социальная инновация может быть рассмотрена и в качестве снятого вида продукта, как результат. При этом достойно внимания замечание М.В. Рац и М.Т. Ойзермана о том, что «настоящее» здесь необходимо рассматривать как пустое место, над созданием которого следует отдельно потрудиться, и это составная часть инновационной деятельности. По мнению исследователей, настоящее, как пространство реализации инновации, предстает в качестве места, где прошлое не перетекает в будущее естественным, непосредственным путем, а преобразуется в него. Это означает, что здесь инновация может быть осуществлена только с помощью проектирования, т. е. скрупулезного анализа и обработки некоторого круга вопросов. Естественным путем возникшая новинка, нечто новое, как побочный продукт некоторого основного действия или продукта, она не может быть квалифицирована как инновация. Всякая инновация - это осознанный именно в этом качестве артефакт, хотя нужно отметить и то, что не всякий артефакт может претендовать на инновационность. Трехмерность инновации, на которую указывают М.В. Рац и М.Т. Ойзерман, также подтверждает предельную схожесть проектирования и инновации: 1) разработка замысла создать новое, 2) его реализация и 3) рефлексивная фиксация сделанного как инновации [5, с. 98], что представляет собой деятельность над деятельностью и объединяет ее с проектированием. Отсюда основные, существенные границы инновации являются и границами проектирования. В качестве таковых указаны нормирование и внедрение (М.В. Рац и М.Т. Ойзерман).
Нормирование устанавливает своеобразные легитимные нормы, оценки и стандарты, без предварительных изменений которых инновационная деятельность не может быть доведена до логического конца. Внедрение же практически представляет собой своеобразную альтернативу проектирования и тем самым ограничивает его. В отличие от инновационного проектирования внедрение не требует места, куда может быть погружено тело новшества [6]. Поэтому можно говорить о том, что в определенном смысле возможность использования механизма внедрения не позволяет разворачиваться инновационно-проектной мысли. Если есть возможность обходиться без кардинальных изменений, которые требуют и больших затрат, и времени, и усилий, часто используется именно этот механизм с целью хотя бы минимальной оптимизации некоторого процесса.
Еще одним способом ограничения проектных стремлений может оказаться степень утопичности проекта . Человеческие мысли имеют особенность материализоваться, в связи с чем самореализуемость проекта позволяет по-новому взглянуть на проблему утопий. Как отмечает А.Г. Раппапорт, с точки зрения культуры все утопии реализуются, хотя степень их влияния на культурную трансформацию может быть различной. Относительность различения реализованных и нереализованных проектов, а следовательно, и степеней утопичности проектов входит в понятие границ проектирования [7, с. 344].
Осмысление социальных идеалов, эмоциональная поддержка общества, телеологические и этические соображения в утопиях воплощаются чаще всего по мере развития самого социума. Горизонт ожидания общества можно считать определенным ограничением утопического проектирования. Предлагаемые прогнозы ближайшего будущего существенно определяются той конкретной эпохой, в которой рождаются эти утопии. Они своеобразное свидетельство рефлектации глобальных кризисных состояний. По мере развития общества и состояния науки утопии меняют свою ориентацию и направленность и выражают насущные проблемы настоящего. Так, если до эпохи Античности утопии практически сливались с мифами и легендами о «золотом веке» или «блаженных островах», то в Античности они чаще ориентированы на характеристику совершенного государства [8]. В Средневековье утопия уповает на божественную предопределенность прихода Царствия Божьего [9]. Эпоха Возрождения и Великих географических открытий заставляет утопию вернуться к описанию совершенных государств [10]. В Новое время и в эпоху Просвещения утопии предлагали проекты социальных и политических реформ [11], а еще позже они приобретают идеологические оттенки, став выразителями интересов и чаяний отдельных социальных групп и классов, не допущенных к власти [12].
Тем не менее основная ограничительная функция утопических проектов заключается в предостерегающем предвосхищении возможных нежелательных прогнозов и тенденций. Четкое осознание реализуемости утопических проектов происходит в ХХ в., что сразу отражается в утопической культуре. В свое время Н. Бердяев писал о том, что утопии обладают более реальным шансом на осуществление, чем это принято думать, и что перед человечеством стоит вопрос не о том, как осуществить нереальные планы социальных преобразований, а наоборот, как избежать их осуществления [13]. Настороженность, которую вызывают социальные последствия научно-технической революции, шаткое положение личности в «массовом обществе», возможности манипуляции сознанием и поведением человека провоцируют оформление отдельного жанра - жанра «антиутопии» [14].
Легитимные формы науки чаще всего срабатывают как препоны на пути кардинальных открытий и инноваций. Чем более неправдоподобна и утопична инновация, тем сильнее ограничительные способы ставших научными систем и точек зрения. С одной стороны, это оказывает не только ограничивающее, но и запретительное действие, но с другой - дает оберегающий эффект, побуждает к поиску более аргументированных положений, что повышает степень максимальной результативной фильтрации утопических концептов, делает их более правдоподобными, обеспечивает социальную безопасность их результатов. Так осуществляется возможность проверки и отбора более функциональных моделей прогрессивного развития. Предвидение и предупреждение, запреты и контроль со стороны легитимных форм знаний здесь распознаются как установление границ проектной деятельности, так как утопии выполняют роль социальной критики, стремятся трансцендировать общество за пределы наличной действительности.
Социальная необходимость и общественный контроль . Некритическая реализация любого проекта может привести не только к социальному и культурному насилию, но и к глобальной антропологической или природной катастрофе. Опасность может уменьшить лишь вынесение проекта на суд общественности, что является формой ограничения проектирования извне.
Проектирование социальных систем сильно предопределено, с одной стороны, предварительной осведомленностью о целевых функциях, природе конкретной социальной системы, с другой – знанием и оценкой возможной реальной организации системы. Примечательно, что А.Г. Раппапорт особо отмечает важность второго момента, так как реализация социальной системы зависит от решимости и воли конкретных людей, готовых участвовать в ее создании. Проектировщик обязан отдавать себе отчет в том, насколько его действия выражают эту волю будущих членов проектируемой системы или в какой мере он в состоянии склонить их к реализации системы. В связи с этим А.Г. Раппапорт отмечает: «Абстракционизм, информационные концепции, конструктивизм и функционализм – примеры гомогенизирующих стратегий в перестройке онтологии при посредстве проектной фантазии. Популизм в культуре, постмодернизм и трансавангард – противоположные тенденции, примыкающие не к проектной, но к коммуникативной стратегии» [15, с. 351].
Осведомленное общество в состоянии подтвердить или отклонить социальную необходимость реализации проекта. Так, наскоро сделанные и потому необдуманные проекты градостроительства, известные идеи о переброске сибирских рек на юг или либерализация постперестроечной России по западным калькам напоролись на активное сопротивление общественного мнения. Анализируя опыт разочарования в проективной деятельности в СССР, А.Г. Раппапорт пишет: «Односторонность и поспешность принятия проектных решений и их реализации питали панический ужас перед идеей тотального проектирования, которое, казалось, уже не оставляет никакой надежды на исправление допущенных ошибок и даже их критику. Принцип тотального проектирования стал ассоциироваться с идеей тотального государства. Технический оптимизм уступал место уравновешенности “постиндустриального” общества, модернистический конформизм вытеснялся идеалами плюрализма, а возможности обособления проектирования противопоставлялась идея децентрализации широкого включения населения в процессы принятия решений, т. е. идея “партисипации”, вплоть до отказа от проектирования и индустриального строительства и возвращения к традиционным ремесленным методам строительства» [16, с. 329]. Таким образом, социальный контроль практически формирует пределы социального прогнозирования, стимулирует развитие методов нормативного проектирования, влияет на легитимацию приемов анализа и оценки желательности и вероятности предлагаемого развития событий.
Рассмотренные в работе аспекты нуждаются в последующей теоретической детализации и конкретизации, так как современное технологическое состояние общества работает скорее против проективных возможностей человека. Технологии развращают большинство людей, так как средний жизненный уровень довольно высок, а потребность подняться выше среднего требует не только физического, но и интеллектуального труда. В обществе, где господствует культ красивой жизни, обеспечиваемой технологиями, трудно фундировать долгосрочные проекты, которые требуют постоянства и усидчивости.
Ссылки:
316 с.
Список литературы Культурные границы проектирования
- Раппапорт А.Г. Границы проектирования // Методология: вчера, сегодня, завтра. Т. 2. М., 2005. С. 327-354.
- Shelley C. Models and Ideology in Design // Springer Handbook of Model-Based Science / ed. by L. Magnani, T. Bertolotti. 2017. P. 1003-1014. DOI: 10.1007/978-3-319-30526-4_47
- Рац М.В., Ойзерман М.Т. Размышления об инновациях // Методология: вчера, сегодня, завтра. Т. 2. М., 2005. С. 93-114.
- Ксенофонт. Киропедия. М., 1993. 334 с.
- Платон. Государство. М., 2017. 448 с.
- Августин А. О граде Божием. Минск; М., 2000. 1296 с.
- Бэкон Ф. Новая Атлантида. М., 2017.
- Кампанелла Т. Город Солнца. М., 2017.
- Беллами Э. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 1. Через сто лет. М., 2018. 344 с.
- Верас Д. История севарамбов. М., 1956. 316 с.
- Фурье Ш. Трактат о домоводческо-земледельческой ассоциации // Избранные сочинения. Т. 1-4. М.; Л., 1951-1954.
- Бердяев Н. Новое средневековье. Берлин, 1924. 121 с.
- Бёрджесс Э. Заводной апельсин. М., 2014. 256 с.
- Замятин Е. Мы. М., 2015. 224 с.
- Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. М., 1989. 240 с.
- Хаксли О. О дивный новый мир. М., 2017. 352 с.