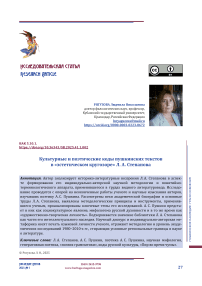Культурные и поэтические коды пушкинских текстов в «эстетическом кругозоре» Л. А. Степанова
Автор: Рягузова Л.Н.
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Пушкинское наследие: грани освоения
Статья в выпуске: 1 (41), 2025 года.
Бесплатный доступ
Автор анализирует историко-литературные воззрения Л. А. Степанова в аспекте формирования его индивидуально-авторской научной методологии и понятийно-терминологического аппарата, применявшегося в трудах видного литературоведа. Исследование проводится с опорой на неоконченные работы ученого и научные изыскания авторов, изучавших поэтику А. С. Пушкина. Рассмотрены вехи академической биографии и основные труды Л. А. Степанова, выявлены методологические принципы и инструменты, применявшиеся ученым, проанализированы ключевые темы его исследований. А. С. Пушкин предстает в них как социокультурное явление, мифологема русской духовности и в то же время как «художественно-творческая личность». Подчеркивается значение библиотеки Л. А. Степанова как части его интеллектуального наследия. Научный дискурс и индивидуально-авторская метафорика носят печать языковой личности ученого, отражают методологию и уровень академических исследований 1980–2010-х гг., стирающих условные региональные границы в науке о литературе.
Л. А. Степанов, А. С. Пушкин, поэтика А. С. Пушкина, научная мифология, генеративная поэтика, «поэзия грамматики», коды русской культуры, «Пир во время чумы»
Короткий адрес: https://sciup.org/170209415
IDR: 170209415 | DOI: 10.36343/SB.2025.41.1.002
Текст научной статьи Культурные и поэтические коды пушкинских текстов в «эстетическом кругозоре» Л. А. Степанова
ПУШКИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ: ГРАНИ ОСВОЕНИЯ

Лев Александрович Степанов (1938–2014)
Lev Aleksandrovich Stepanov (1938–2014)
PUSHKIN’S HERITAGE: FACETS OF EXPLORATION
Актуальность нашего исследования обусловлена возросшим интересом к изучению современной индивидуально-авторской научной методологии («научной мифологии», по выражению Р. О. Якобсона), истории пушкиноведения как части науки о литературе ХХ–ХХI вв., а также ее связей с литературным краеведением.
До настоящего времени нет обобщающего труда, посвященного анализу и оценке научной деятельности профессора Льва Александровича Степанова (1938–2014). Отдельные статьи мемориального или биографического характера в кафедральных сборниках не раскрывают в полной мере значение его филологического наследия [2] [12] [14]. Между тем назрела потребность в рассмотрении его наследия в более широком контексте академического пушкиноведения.
Цель исследования заключается в комплексном анализе научно-исследовательского метода Л. А. Степанова в контексте отечественного пушкиноведения 1980–2010-х гг., включая реконструкцию историко-литературных воззрений ученого, что позволит определить авторский стиль и логику интерпретации литературных текстов, присущие выдающемуся исследователю.
В статье представлен опыт прочтения пушкиноведческих трудов и незавершенных замыслов Л. А. Степанова (по материалам неопубликованных рукописей) как некоего культурного синтеза, как текста, отмеченного единством стиля и методов интерпретации, а также в соотнесении научного наследия с личностью и судьбой ученого. Материалом представленного исследования послужили диссертация, статьи и неопубликованные рукописи Л. А. Степанова, а массивом сравнительно-сопоставительных параллелей – труды Р. О. Якобсона [24] [25] [26], А. К. Жолковского [3] [4], В. В. Набокова [9], А. Г. Битова [1], посвященные изучению поэтики А. С. Пушкина.
Ведущие методы изучения – системнотипологический, структурно-семиотический – позволяют выявить приемы и принципы литературоведческого анализа и состав поэтологических категорий в научном дискурсе ученого. Методология исследования учитывает позицию ученого-филолога, объединившего в своем «эстетическом кругозоре» сравнительноисторический, структурно-семиотический, текстологический, герменевтический, концептуальный, ассоциативно-семантический подходы, адекватные объекту изучения.
Методологические принципы Л. А. Степанова формировались в 1970-е годы (метод «пристального чтения», системный анализ текста), но вобрали в себя опыт знания мировой классической философской эстетики и отечественной академической науки о литературе. Размышлениям над судьбой творческого наследия А. С. Пушкина и А. С. Грибоедова была посвящена многолетняя преподавательская и научно-исследовательская деятельность ученого. Обобщающие категории «художественный мир», «творческая личность», «художественное мышление», «картина мира» стали доминантными в его понятийной системе. Скрупулезный текстологический анализ пушкинских текстов позволяет вписать научные труды Л. А. Степанова в контекст академического литературоведения 1980–2010-х гг., по- ставить его в один ряд с такими учеными, как С. А. Фомичев, М. Н. Виролайнен, В. А. Кошелев, В. П. Старк, Н. И. Михайлова. А также соотнести поэтологические параметры его идей с мифотворчеством поэта у В. В. Набокова, А. Г. Битова, В. С. Непомнящего, варианты кластеров и устойчивых комбинаций их компонентов (например, «Я вышел на…») с «поэзией грамматики» Р. Якобсона, с принципами генеративной поэтики А. К. Жолковского и Ю. К. Щеглова. Л. А. Степанов одним из первых исследовал проблемы комизма в эстетике и поэтике А. С. Пушкина. В частности, им рассмотрена связь воззрений поэта с его художественной практикой в жанрах комического. Исследователь обосновывает свой главный тезис о том, что, не будучи сформулированы в виде завершенной концепции, «суждения Пушкина по широкому кругу вопросов носят концептуальный характер: они связаны единством творческой личности поэта» [21, с. 3]. Вот почему по аналогии можно провести параллель и представить Л. А. Степанова-филолога как творческую личность в единстве его научного мышления и техники письма. Для этих целей наша исследовательская оптика, направленная первоначально на изучение масштабных трудов ученого, обращена к замыслам его неопубликованных статей и заметок с целью установления их творческой эволюции и преемственности.
В настоящем исследовании выявляется специфика научно-исследовательского метода Л. А. Степанова в контексте традиций отечественного пушкиноведения 1980–2010-х гг.: принципов формулирования культуроспецифических концепций и актуализации метода «пристального» чтения поэтических текстов. Стиль научного мышления и приемы анализа (включающие в себя механизмы и инструменты разных научных школ) рассмотрены на примере замыслов неопубликованных статей ученого. А. С. Пушкин предстает в них, с одной стороны, как «привычка русского сознания» (В. Набоков), мифологема русской культуры, что соответствует общей концепции развития творческого восприятия наследия поэта как «вечно живущего и движущегося явления» (В. Г. Белинский), как «подвижного памятника» (А. Г. Битов), с дру- гой стороны, как «художественно-творческая личность» (Л. А. Степанов) [21, с. 3]. Доверие к исследовательской интуиции и эмпирике текстов, на наш взгляд, способствовало выявлению ученым мировоззренческих установок, соприродных художественному мышлению поэта.
Значимость выводов и научных результатов статьи заключается в уточнении содержания категорий «художественное мышление» и «художественно-творческая личность» в научной мифологии ученого. Черновые наброски и замыслы научных проектов - аналитическая лаборатория, позволяющая проникнуть в критическое сознание, «костный мозг мысли автора» (В. Набоков), формирующих научный дискурс и его индивидуальноавторскую метафорику, мотивные комплексы и емкие образы-понятия.
* * *
Л.А. Степанов, в свое время аспирант кафедры истории русской литературы Кубанского госуниверситета, блестяще защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблемы комического в эстетике и творчестве А. С. Пушкина» (1974) в Пушкинском Доме Академии наук в Ленинграде, навсегда связав свою творческую деятельность с работой пушкинского сектора. Впоследствии он стал членом Пушкинской комиссии Российской академии наук, комментатором полного собрания сочинений А. С. Пушкина [11], автором многочисленных статей, посвященных различным аспектам творчества А. С. Пушкина и А. С. Грибоедова. В докторской диссертации Л. А. Степанова «Эстетическое и художественное мышление А. С. Грибоедова» (защищена в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого в 2002 г.) предпринято целостное осмысление А. С. Грибоедова как художественно-творческой личности на основе его эстетических воззрений. Впервые в ней рассмотрены дипломатический дискурс, эпистолярное наследие драматурга, его натурфилософия [22] [23].
Творческая биография ученого - это библиография его трудов, научная, просветительская и педагогическая деятельность. «Библиография есть история наших открытий и гипотез, нашего ума и вкуса»,- говорил Ш. Но-
ПУШКИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ: ГРАНИ ОСВОЕНИЯ
PUSHKIN’S HERITAGE: FACETS OF EXPLORATION
дье [10, с. 11] 1. Список печатных работ ученого внушителен (пушкинских среди них более 40), но осталось «Неоконченное» (неопубликованные замыслы, наброски, планы статей, подбор пушкинских цитат). По архивам Л. А. Степанова можно было бы издать том «Недосказанный Пушкин», а в перспективе – собрать воедино и переиздать все его пушкинские работы. В неопубликованных записках ученый продолжал рассуждать о пародии и природе комического. Абсурд в его концепции есть расширение логически приемлемого пространства мира и мышления, в метафоре абсурда находится фигура логики [15]. Сравнительно-исторические литературные параллели привлекали его особое внимание, именно в установлении интертекстуальных, интермедиальных соответствий в пушкинских текстах проявлялась филологическая эрудиция ученого. Например, им замечено, что в «Сказке о царе Салтане» помещение в бочку и т. п. точно воспроизводит детали мифа о Персее. В «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях» в строках-обращениях к Ветру, Месяцу и Солнцу («…не видал ли где на свете ты царевны молодой?») использован плач Ярославны с ее обращениями к природным силам и др. [15].
Скептицизм, проблематизация, отстраненное видение общепринятых догм, широта научных проектов у исследователя от глубокого знания философской эстетики, мировой культуры и контекста пушкинской эпохи. В трудах о А. С. Пушкине и А. С. Грибоедове, реконструирующих единство их художественного и эстетического сознания, безусловно, отражены творческие интенции самого ученого. Его высказывания производят впечатление текучей разговорной речи. Наиболее характерные для научного стиля выражения Л. А. Степанова – суждение, тенденция, умозаключение, характеристика, воззрение, мышление – обозначают различные формы и стадии формулирования мысли, радость самого процесса словесного выражения и научного познания.
Достаточно обратиться к его «заметкам». По жанру это своего рода размышления про себя, или «мимолетное», «крохотки»
(А. И. Солженицын), «заметки на манжетах», как «разговоры» с Гете, но без Эккермана. Они напоминают «неприбранный манускрипт» (В. Набоков), но только по внешнему оформлению, не по логике и глубине мысли. Особый интерес представляют наблюдения Л. А. Степанова над выражением ментальности, проблем и устоев русского мира, увиденных через поэтическое слово, образы-понятия и художественную деталь. Это, в частности, «вся полнота русской смеховой стихии, которая дышит весельем и трепещет в “сердечной тоске” близ образов гнева, смерти и плача в “Капитанской дочке”» [18, с. 128]. Пушкинское слово, по характеристике ученого, в высшей степени «системно», оно «способно через деталь дать образ целого, ассоциативно расширяя его смысловые потенции, демонстрируя смещение семантического спектра» [20, с. 10]. Постижение психологии творчества, индивидуальнообразного видения мира поэта мотивируется его стилевыми и конструктивными повествовательными принципами.
В пушкинистике процессы де- и ремифологизации сменяют друг друга. В них заключена мысль о проявлении одной из базисных моделей национального самосознания. В. М. Маркович выделяет, как известно, несколько фаз формирования мифа о Пушкине: первая начинается после смерти поэта и заканчивается речью Ф. М. Достоевского – миф о всемирности и всечеловечности гения А. С. Пушкина. Вторая возникает после 1880 г. – укрепление общенационального культа поэта; третья фаза знаменательна становлением оппозиции двух мифов – «о пророке» и «о чистом поэте». Эти два мифа развиваются в русской культуре параллельно, как и официозный миф о Пушкине (имперский, советский, постсоветский), многократно изменяющий свое содержание, но неизменно сохраняющий все ту же функцию – превратить поэта в эталон наиболее ценных для власти политических достоинств [7, с. 67]. Популярны в наши дни идеи непереводимости поэта, закрытости гения Пушкина для мира, его двойного изгнания (дуэли и смерти как апофеоза творческого бессмертия).
Л. А. Степанов указывает путь к истинному пониманию «художественно-творческой личности» поэта через чтение и изучение текстов его произведений. Научная мысль его всегда движется индуктивно – от частных конкретных наблюдений к обобщающим формулам [19]. Это отражается в названии его статей: «Об одном фрагменте текста романа…» [17], «Об источниках образа…» [16], «По страницам…» [20]. Имплицитность, гипотетичность материала, извлекаемого из культурного и историко-литературного контекста, ставили перед исследователем трудную задачу: преодолеть стереотипы и сложившуюся традицию, предприняв своего рода «детективное расследование тайн словесного искусства» (В. Набоков).
Критическая оптика ученого в неопубликованных рукописях также подвижна: в ней заметен интерес к микроскопичной детали (малым величинам текста, микросюжету). Например, внимание исследователя привлекают образы мотылька и цветка в романе «Евгений Онегин», интертекстуальные образные связи: «нежней, как мотылек, в весенний впившийся цветок». «Татьяна – цвела, как ландыш потаенный, не знаемый ни мотыльками, ни пчелой» [15]. Л. А. Степанов учитывает такие механизмы культурной памяти, как жанр и семантический ореол. В частности, им моделируются компоненты и вариации формулы «Я вышел…», ее устойчивые комбинации у А. С. Пушкина, Б. Л. Пастернака, В. В. Маяковского. Например, тематическая парадигма образов: «Я вышел рано, до звезды»; эпиграф якобы из Цицерона в статье «Торжество дружбы…»: «Я вышел на арену против своих современников» («In arenam…»); в сказке: «вышиб дно и вышел вон», то есть «явил себя» [15]. Можно сопоставить эту технику прочтения с приемами генеративной поэтики А. К. Жолковского и Ю. К. Щеглова (ср.: анализ формул «Я вас любил…», «Я помню…») и принципами школы «гармонической точности», или «поэзии грамматики» Р. О. Якобсона, но рассмотренных в другой системе понятий. У А. К. Жолковского, например, описаны достаточно полно все проекции структуры кластера «Я вас любил…» и их родственные тексты у предшественников и потомков [4].
Л. А. Степанов анализирует семантическую функцию эпитета «верный» и его экви- валенты в пушкинских текстах: это не только Руслан, на его взгляд, но и кони, которые сочетают гордость и верность, например, в «Песне о вещем Олеге», в «Полтаве», в «Медном всаднике». Привлекал внимание исследователя ономастикон, в частности, второе имя князей и царей: Олег Вещий, а Ярослав Мудрый (Натан Мудрый) – Почему? В чем разница? Встреча Олега и кудесника – вариация эпизода встречи Руслана и Старца-финна [15].
Во всех поэмах А. С. Пушкина, по наблюдению ученого, есть жертва. («Кавказский пленник», «Цыганы»). Им отмечены тонкость психологического рисунка и многомерность образов в выражении мотивов вины, преступления и наказания в сюжетном развитии и эпизодах поэм. В «Полтаве» – Мария больше, чем Кочубей. В «Медном всаднике» этот сюжетный мотив обрел историко-философское звучание. Евгений – через сто лет после Петра, грозившего отсель шведу, неожиданно сам для себя грозит Петру, обернувшемуся Медным всадником: «Отсель грозить мы будем шведу» – «Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!». Наблюдатель намеревается показать, «как конфликт героя (главного лица) и его жертвы развивается, достигая развернутой, исконно значимой для самого поэта формы, в какие смысловые поля разворачивается этот конфликт. Стихийное и статуарное в образе Евгения объективно и подобно Медному Всадни-ку:Евгений в попытке покорить стихиюна лодке; Евгений на скульптуре льва сторожевого; Евгений, угрожающий Петру, подобен Петру во вступлении [15]. «Скульптурный миф» (статуарное / неподвижное) [26], «оживление» его образов (подвижное / живое) в поэмах отмечал и Р. О. Якобсон.
Заметки Л. А. Степанова имеют форму гипотетических, проективных построений, выявления ассоциативно-семантических, ал-люзивных связей, «поиска истины на ощупь» (В. Набоков). Например, он пишет: «Орден тамплиеров имел полное название: “Бедные рыцари девы Марии и храма Соломона ” . Может, скупой рыцарь был тамплиером – отсюда источник его богатства. Рыцарские турниры были прекращены после гибели на турнире короля Франции Генриха II. Значит, время действия Скупого рыца-
ПУШКИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ: ГРАНИ ОСВОЕНИЯ
PUSHKIN’S HERITAGE: FACETS OF EXPLORATION
ря – до этого момента (“Жил на свете рыцарь бедный”)» [15].
Формулируется ученым одна из центральных тем «Пира во время чумы»: «Мотивация страха и бесстрашия как привычного и непривычного, религиозного, должного и переосмысляемого в сравнении с Державиным (“На смерть князя Мещерского”)» [15]. Он упоминает имя Ю. М. Лотмана, который якобы у тверждает, что в модернизме особое значение имел мотив конца. Эсхатологические ситуации во всех модернистских текстах – принцип не столько конца света, сколько индивидуальной эсхатологии [6]. Л. А. Степанов развивает его идею. В «Пире во время чумы», по его мнению, больше «общей эсхатологич-ности – состояния конца света, наступившего для ныне живущих, этих – здесь и сейчас; священник не думает, что это конец света – апокалипсис в библейском смысле слова, буквальном; отсюда его апелляции к нравственному достоинству человека; опыт прошлого – такая же чума – свидетельствует только о личной, а не всеобщей эсхатологичности; но для участников пира всеобщее не актуально, не может быть мерой их поведения, здесь бунт человека не против предопределенного, а против несправедливого и случайного для них конца света. В модернистских текстах вообще действует принцип внезапности: таившееся вдруг выходит наружу и катастрофически разворачивается» [15]. Исследователь далее подчеркивает: «Залог бессмертья (“ Завет – это обещание ” (здесь и далее курсив наш. – Л. Р. )) – это не право, а ощущение, открывшееся ему состояние чувственного переживания, в котором ощущается возможность испытать сейчас всем обещанное бессмертие после смерти (А Раскольников требует признать за ним право на нарушение всеобщего запрета). На краю смерти, в этом пограничном состоянии, страх смерти преодолевается-таки ощущением жизненной силы, сопротивляющейся угрозе смерти, исходящей не от воли Господа, а от стихийных сил, “права” которых рядоположны праву человека в осязаемом, видимом и мысленном мире. Стихия – это не судьба, а случай, который может совпадать и не совпадать с “гением судьбы”, велением Рока или Божьей волей. Священник входит после песни Вальсингама.
Он реагирует не на смысл и пафос гимна, а, как и следует отцу паствы, усовещивает собравшихся на пир во время чумы – он обличает кощунство поведения заблудших, понимая, что оно вызвано горестным помрачением их разума. В речи Священника нет ни единой реплики, вызванной мотивами песни Вальсингама. Он обличает сам факт патетического песнопения – в трагической атмосфере – мелос – в голосе, а не смысл в слове. Это мотив-идея создает поэтический ряд: пир во время чумы (1), пир для чумы (2), пир вместо чумы (3)» [15].
Ученый анализирует, как видим, формулу мысли «бессмертья, может быть, залог …», которая дана не как решение или утверждение, а как порождение мысли, догадка и озарение, которое еще подлежит домысливанию и переживанию. Сходный процесс порождения мысли проходит сам исследователь, опираясь на логический анализ языка поэта.
В литературе нет мелочей, по убеждению ученого. Метод «мелких наблюдений» (А. Бём) обостряет художественное видение, демонстрируя бережное отношение комментатора к пушкинскому наследию, стимулирующему творческую мысль, а по сути, эпически по-своему решающему в условной поэтической форме жизненные коллизии, как, например, в интерпретации художественной онтологии образа Дон Жуана: «Провокации Дон Жуана – вызов судьбе. Герой экспериментирует прежде всего с самим собой – ну до какой степени еще можно дойти. Дон Жуан – жертва собственной самооценки (он все время доказывает, что он силен и достоин), он трикстер. Ядро донжуанизма – соблазн (инструмент соблазнения). Пока он охотник, он живет (равен себе); если он обретает – он становится жертвой. Жуан как герой возвышен над его “жертвами”. Мотив влюбляющейся во врага мстительницы (Медея, Юдифь – пьеса Геббеля). А ведь донна Анна – в этом ряду, как в рассказе Лавренева “Сорок первый”. Дон Жуан в по-слепушкинской культуре воспринимался как некий общекультурный тип, знак, созданный Моцартом, Байроном, Пушкиным. В конкретных обращениях к этому образу могли акцентироваться черты типа (или оперой, или поэмой, или маленькой трагедией)» [15]. В итоге рассуждений формулируется ученым замысел статьи: «Дон Жуан как культурный тип, знак в интерпретации Пушкина».
Рассматриваются Л. А. Степановым и коды русской культуры в пушкинских текстах, возникает проект статьи «Интеллектуально-культурный кругозор и событийно-психологический план героев романа “Евгений Онегин”». Здесь происходит смена оптики, берется более крупный масштаб видения проблем, тематических и семиотических блоков: «Пушкин в эстетическом сознании литературной критики: поиски кода», «Эпистолярный дискурс Пушкина (и “Роман в письмах”)», «Цветовой код “Капитанской дочки” в сравнении с “Повестями Белкина”»). Продуктивна, на наш взгляд, идея ученого о создании словаря личных имен, географических названий, пушкинских цитат, эпиграфов, отсылок, то есть «Культурологического словаря языка Пушкина» как дополнения к «Словарю языка Пушкина». Нереализованным остались замысел исследования поэтики пушкинских псевдонимов и словаря эпиграфов, по типу словаря крылатых выражений [8].
Взаимодействие «комического» с «возвышенным» и «трагическим» – один из важнейших принципов эстетики и художественной онтологии А. С. Пушкина, декларируемых Л. А. Степановым. Ум и ирония, различные оттенки комического свойственны были творческому сознанию самого исследователя, такой выбор предмета изучения для него органичен. Ценя юмор поэта, Л. А. Степанов-читатель допускал возможность жанра «биографического гротеска» [13], но требовал сохранять этический закон и меру, как сформулировал А. С. Пушкин в отзыве о дневниках Д. Г. Байрона: не потакать толпе, которая радуется «уничижению высокого, слабостям могущего» (цит. по: [1, с. 89]). Для ученого смех – категория, вписанная в рамки эстетического поля, к «комическому» следует подходить серьезно.
Эрудиция позволяла Л. А. Степанову смотреть на современность «под знаком вечности» и сознавать вторичность того, что многие современники принимали за художественные и научные открытия (игровую поэтику, кон-цептологию, теорию интертекста). Скептицизм – неотъемлемое свойство его ума.
Без преувеличения можно сказать, что личная библиотека ученого была одной из его главных материальных и духовных ценностей. Она размещалась в двух комнатах (на семи стеллажах, «до стропил»). Многое (скрытое, личное) говорят о владельце ее томá. Глядя на них, понимаешь истоки его любимой фразы: «В античности все уже было!». Философско-эстетический контекст, скрупулезно восстановленный при изучении грибоедовской комедиографии, ее комментарии и примечания к пушкинским текстам, конечно, из недр этой коллекции, созданной трудами истинного библиофила, собирателя, страстного читателя. Ш. Нодье писал о таких библиотеках: «В них было собрано все самое превосходное и полезное, что создали изящная словесность и наука, все, что необходимо для услаждения души и развития ума в течение долгой-долгой жизни» [10, с. 5].
Познания ученого носили не пассивносозерцательный характер, он активно и широко внедрял их в просветительскую и преподавательскую деятельность. Интерпретация пушкинских текстов в прочтении Л. А. Степанова сохраняет и сегодня живой интерес первоисточника, обостренный историколитературным, бытовым комментированием и поэтическим проникновением в глубь пушкинской строки.
В сознании коллег уход Л. А. Степанова невольно воспринимается через пушкинские мотивы «нестрашной смерти» (С. Г. Волконский), «светлой печали», «лелеющей душу гуманности» (В. Г. Белинский) и творческого послесмертия. Л. А. Степанов, как А. Г. Битов
ПУШКИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ: ГРАНИ ОСВОЕНИЯ
PUSHKIN’S HERITAGE: FACETS OF EXPLORATION
и В. В. Набоков, переводит А. С. Пушкина в свою модальность. Герой романа «Дар» В. В. Набокова «жил Пушкиным», «питался Пушкиным», утверждая, что у пушкинского читателя легкие увеличиваются в объеме. Пушкин проник в подсознание А. Г. Битова, который засыпал с Пушкиным и просыпался с болью в шее, сочиняя сборник парадоксальных анекдотических статей о поэте [1, с. 406]. Л. А. Степанов унес с собой неосуществленные замыслы статей, не домыслив, не досказав своего Пушкина.
Отдавая дань памяти, разбирая сегодня рукописи ученого, нельзя не упомянуть, что именно ему были адресованы, подарены, в числе избранных пушкинистов, тома репринтного издания рукописей поэта, присланных из Пушкинского Дома Академии наук, великолепно изданных в Англии. Они, как и вся библиотека, остались в руках частых лиц: у внучки Л. А. Степанова. Это значимый факт, на наш взгляд, продолжения и передачи наследия, знак биографического и творческого бессмертия: «бессмертья, может быть, залог …». В таких совпадениях чувствуется «привкус вечности» (В. В. Набоков), истинного служения ученого любимому делу всей его жизни.
* * *
Безусловно, идеи незавершенных замыслов Л. А. Степанова обнаруживают идейнохудожественную общность с его магистральными исследованиями о творчестве А. С. Грибоедова и А. С. Пушкина, в то же время в них содержатся оригинальные пути прочтения пушкинских текстов. Критическая оптика исследователя позволяет выявить его творческий процесс на уровне микро- и макроструктуры текста: от функции художественной детали, поэтики вещи, фрагмента до определения нарративной стратегии и формулирования индивидуально-авторской модели мира. Творческое наследие Л. А. Степанова еще ждет своего научного описания в системнотипологическом аспекте, впрочем, как и сама история кубанского литературоведения, не изученная в плане традиций и новаций. Мемориальный сборник научных статей, посвященный ученому [5], можно рассматривать как подступы к ее постановке. Предпринятый нами обзор и анализ архивных материалов -фрагмент более фундаментального изучения литературоведческих трудов Л. А. Степанова, посвященных классикам и современникам.
Настоящее исследование позволило выявить уникальность научноисследовательского метода Л. А. Степанова, синтезирующего герменевтическую глубину, структурно-семиотическую строгость и интертекстуальную чуткость. Незавершенные рукописи ученого, его черновые наброски и проекты демонстрируют, как «пристальное чтение» пушкинских текстов становится инструментом реконструкции культурных кодов русской ментальности. Л. А. Степанов, следуя индуктивному методу, выстраивал свои работы как своеобразное «детективное расследование» (В. В. Набоков), где микроскопичные детали - эпитет «верный» или образ мотылька в «Евгении Онегине» - становились ступенями к постижению макрокосма пушкинского творчества. Таким образом, критическая оптика исследователя позволяет выявить его творческий процесс на уровне микро- и макроструктуры текста: от функции художественной детали, поэтики вещи, фрагмента до определения нарративной стратегии и формулирования индивидуально-авторской модели мира.
Анализ ключевых тем в исследованиях Л.А. Степанова позволил не только вписать его труды в академический дискурс 1980– 2010-х гг., но и обозначить их созвучие идеям Р. О. Якобсона, Ю. М. Лотмана, А. К. Жолковского. Незавершенные проекты ученого, такие как замысел «Культурологического словаря языка Пушкина» или исследование поэтики использовавшихся А. С. Пушкиным псевдонимов, остаются актуальными для современной науки и подчеркивают необходимость системного изучения архива Л. А. Степанова.
Перспективы дальнейших изысканий видятся в публикации материалов «Недосказанного Пушкина», что позволит завершить начатое Л. А. Степановым «проникновение в глубь строки». Особое значение приобретает осмысление его роли в формировании кубанской научной школы, чьи традиции и новации, равно как и наследие самого ученого, требуют интеграции в общероссийский контекст лите- ратуроведения. Мемориальный сборник научных статей, посвященный ученому [5], можно рассматривать как подступы к постановке соответствующих задач. Скептицизм Л. А. Степанова, его доверие к «эмпирике текста» и неуклонное следование пушкинской традиции – не только дань прошлому, но также вектор будущих исследований, методологическим лейтмотивом которых может стать идея о том, что «оживление» классики возможно лишь через бережное воссоздание ее философско-эстетического контекста.
Личная библиотека Л. А. Степанова, ставшая его творческой лабораторией, хранит незавершенные рукописи, которые ждут своих читателей и исследователей. Их изучение, равно как и переиздание трудов ученого, может стать своеобразным мостом между смыслами пушкинской эпохи и динамикой современной гуманитаристики.
Lyudmila N. RYAGUZOVA Dr. Sci. (General Linguistics, Sociolinguistics, Psycholinguistics), Prof., Kuban State University, Krasnodar, Russian Federation
Cultural and Poetic Codes of Pushkin’s Texts in Lev Stepanov’s “Aesthetic Outlook”
PUSHKIN’S HERITAGE: FACETS OF EXPLORATION