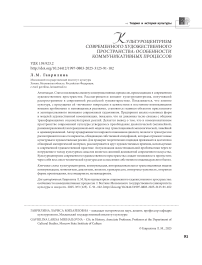Культуроцентризм современного художественного пространства: особенности коммуникативных процессов
Автор: Гаврилина Л.М.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 3 (125), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу коммуникативных процессов, происходящих в современном художественном пространстве. Рассматривается концепт культуроцентризма, получивший распространение в современной российской гуманитаристике. Показывается, что именно культура, с присущими ей «вечными» вопросами и ценностями и постоянно возникающими новыми проблемами и меняющимися реалиями, становится главным объектом пристального и заинтересованного внимания современных художников. Предпринят анализ основных форм и моделей художественной коммуникации, показано, что их динамика тесно связана с общими трансформациями социокультурных реалий. Делается вывод о том, что в коммуникативном пространстве современной культуры утвердилось преобладание диалогической (нелинейной, разнонаправленной) интеракциональной модели над трансляционной монологической, линейной и однонаправленной. Автор придерживается широкого понимания диалога; полилог и трансгрессия рассматриваются как его варианты, обладающие собственной спецификой, которые отражают новые культурные и художественные реалии. Для проверки теоретических подходов привлекается достаточно обширный эмпирический материал, рассматривается круг художественных приемов, используемых в современной художественной практике. Актуализация экзистенциальной проблематики через ее погружение в толщу культурных смыслов является сквозной доминантой современного искусства. Культуроцентризм современного художественного пространства создает возможность пропустить через себя весь опыт человеческой культуры для осмысления собственного индивидуального бытия.
Культуроцентризм, коммуникация, интеракциональная и трансляционная модели коммуникации, монологизм, диалогизм, полилог, трансгрессия, интертекстуальность, открытая форма произведения, постмодернизм, метамодернизм
Короткий адрес: https://sciup.org/144163480
IDR: 144163480 | УДК: 159.923.2 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-3125-91-102
Текст научной статьи Культуроцентризм современного художественного пространства: особенности коммуникативных процессов
XX век сдвигает все прошлые культурные перипетии в эпицентр человеческого бытия.
В. С. Библер
ХХ век возвращает культурам прошлого (уже — не прошлого, но распространенного настоящего) способность вновь задавать свои вопросы, вновь уточнять свои ответы, быть актуальными смыслами современной жизни.
В. С. Библер
Пространство культуры, которое Ю. М. Лотман остроумно и точно определил как семиосферу, – это пространство постоянно длящихся многообразных разнонаправленных коммуникаций, без которых невозможно самое ее существование. На разных этапах истории человечества складывалась своя конфигурация ком- муникативных процессов, менялись их формы, способы, алгоритмы, направленность, интенсивность. Современное социально-гуманитарное знание проявляет к ним пристальное внимание, в результате чего были выявлены типы и модели коммуникаций, оформились концепции коммуникативных процессов.
Искусство – как одна из неотъемлемых универсальных форм культуры – всегда выполняло коммуникативную функцию в той чувственно воспринимаемой эмоционально насыщенной форме, которая была доступна только ему. Поэтому на всех этапах развития человечества в условиях разных социокультурных реалий оно было востребовано и широко использовалось обществом, церковью, государством, существуя как в межличностном, так и в социальном пространстве. Структура, форма, способы коммуникативных процессов претерпевают изменения в контексте социокультурных трансформаций, соответственно корректируются они и в художественном пространстве.
В ХХ веке искусство претерпело радикальные изменения, оно «выплеснулось» за границы, отведенные ему классической эстетикой, перестало быть объектом для «незаинтересованного созерцания», растворилось в жизни, в ее политических и социальных катаклизмах, «срослось» с наукой, спортом, техникой, игрой, шоу, аттракционом, повседневными практиками. Радикальные изменения (иногда – до полной неузнаваемости) форм художественного высказывания провоцируют вновь и вновь возвращаться к обсуждению вопросов о кризисе или даже смерти искусства [9; 18]. Безусловно, эти трансформации не могли быть проявлением только лишь безграничных амбиций или творческого азарта художников. Изменившиеся социокультурные реалии ХХ–ХХI веков требовали новых форм коммуникации и трансляции смыслов и ценностей, на что чутко реагировало искусство. Стремление ответить на вопросы, которые еще даже точно не сформулированы, но уже тревожат художника, является специфической особенностью искусства, отражающей всю полноту человеческой природы.
Изменения культурной картины мира в ХХ веке, вызвавшие радикальные перемены в искусстве, глубоко проанализированы многими исследователями. Среди важнейших факторов, предопределивших этот процесс:
промышленная революция, индустриализация, урбанизация, массовизация общества, политические и социальные потрясения первой половины ХХ века. Становление неклассического типа научной рациональности знаменовало конец классического ставшего, статичного образа мира и формирование постклассического – становящегося, динамического. Во второй половине ХХ века процессы трансформации ускоряются и расширяются, исследователи характеризуют современность как «текучую» [1], бесконечно меняющуюся; складывается «общество риска» [4] – мультикультурное, глобализированное и одновременно индивидуализированное, в котором стремительно развиваются процессы цифровизации, виртуализации реальности. Мир становится все более многообразным, утверждается плюрализм культурных ценностей и норм, признается уникальность разных культур и – одновременно – ощущается их взаимосвязанность и взаимозависимость. По точному выражению В. С. Библера, «в XX веке типологически различные “культуры” <…> втягиваются в одно временное и духовное “пространство”, странно и мучительно сопрягаются друг с другом, почти по-боров-ски “дополняют”, то есть исключают и предполагают, друг друга. <…> Одновременность различных культур бьет в глаза и умы, оказывается реальным феноменом повседневного бытия современного человека» [5, c. 157].
В данном контексте представляется закономерным культурный поворот в социальном и гуманитарном знании, в результате которого культура переместилась в центр исследовательского интереса. Сложился теоретический дискурс вокруг понятия культуроцентризма, который, по мнению исследователей, «может претендовать на статус метапонятия, стоящего в одном ряду с такими метапонятиями, как «геоцентризм», «антропоцентризм», «нату-роцентризм», «социоцентризм» [21, с. 199]. К этому концепту обращались многие ведущие современные российские философы и культурологи, такие как В. С. Библер, В. М. Межуев, М. С. Каган, А. С. Панарин, В. И. Толстых,
А. Я. Флиер и другие. Всесторонний анализ данного концепта как социальной стратегии, научно-исследовательской программы и мировоззренческой позиции был предпринят Ярковой Е. Н. Представляется значимым ее вывод о том, что в рассматриваемом контексте «культура предстает как совокупность экзистенци-алов – модусов человеческого существования, сложившихся смыслов, которые переосмысливаются в процессе обретения человеком своей самости, <…> культура выступает как некий «семантический арсенал», без которого смыс-лообразование, <…> было бы неосуществимо» [21, с. 211].
По утверждению В. С. Библера, «в XX веке культура смещается в эпицентр человеческого бытия» [5, с. 166]. В отличие от далеких предков сегодня человечество существует не столько в мире природы, сколько в мире культуры. Искусство убедительно демонстрирует характерную для современной эпохи культуроцентричность. Именно культура – с присущими ей вечными вопросами и ценностями, с постоянно возникающими новыми проблемами и бесконечно меняющимися реалиями – становится главным объектом пристального и заинтересованного внимания современного художника. Он обращается не просто к природному, но к культурному ландшафту, то есть природе, воспринятой и осмысленной сквозь призму культуры, к человеку – как носителю и выразителю культурных ценностей и смыслов, укорененных в культуре, в разных ее пространствах и эпохах. Искусство репрезентирует и транслирует смыслы и ценности культуры, способствует формированию культурной памяти, фиксирует образ мира той или иной культуры. Будучи погруженным в это семантически наполненное предельно разнообразное культурное пространство, художник ищет ответы на возникающие у него вопросы, в том числе, в художественной практике, вступая таким образом в диалог со своими предшественниками и современниками, со сделанными ранее художественными высказываниями. Складывается насыщенная внутрихудожественная коммуникация, в рамках которой складывается перекличка тем, сюжетов, образов, запечатленных в художественных произведениях. Каждая культура или крупная историческая эпоха вполне узнаваема по приоритетным темам, сюжетам, героям. И сегодня все они существуют в нашей памяти одновременно: древние египтяне и греки, Троянская война и Наполеон, американские индейцы и китайские церемонии, японские гравюры и африканские маски и т. д. По выражению Библера, «культура есть форма одновременного общения и со-бытия культур» [5, с. 171]. Поскольку, по его мнению, культуры Европы, Азии и Америки «толпятся» в одном и том же сознании, возникает насущная необходимость понимания, возможности взаимодействия с Другим, Чужим.
Разработанная в ХХ веке философия диалога выявила большую эвристическую, гуманистическую и культурную значимость этой формы коммуникации. Уже у М. Бубера в известной работе «Я и Ты», опубликованной в Германии в 1923 году [6], диалог представлен как форма доверительного, проникновенного, направленного на понимание и взаимодействие-общение двух субъектов («Я и Ты» – в противоположность отчужденному противопоставлению «Я и Он»). У М. М. Бахтина диалог – фундаментальный принцип существования культуры и человека как таковых. Однако именно Бахтин раньше других выявил и актуализировал полифонию в культуре и, соответственно, возможности трансформации диалога в полилог в ситуации взаимодействия множественных субъектов. Полилог рассматривается большинством исследователей как специфическая, сложно структурированная, многоуровневая форма диалога, утверждение которой в современной культуре связано с сущностными изменениями самой культурной реальности. Е. М. Ивановой было предпринято специальное исследование, посвященное анализу трансформации диалога в полилог в современном обществе, ею выделены несколько базовых подходов к проблеме. Она определяет полилог
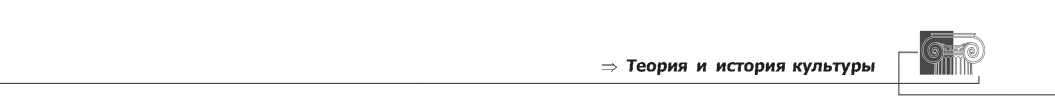
как инновационный тип диалога , который «протекает ситуативно и интервально, носит относительный, несистематизированный характер, а с другой стороны, посредством интерсубъективности полилога он приобретает способность соединять рассеянные миры субъектов между собой. Поэтому сущность полилога как нового типа диалога логически вытекает из специфики современного общества, позиционируемого в рамках постнеклассической философии как мультикуль-турное, индивидуализированное общество» [11, с. 22–23].
Искусство ХХ века – с его многообразием форм, направлений, разнонаправленностью художественных поисков – не просто раньше других вписалось в новые культурные реалии, но в значительной степени и способствовало их утверждению. Полиморфическое, полифоническое, полилогическое художественное пространство, находящееся в состоянии постоянной трансформации, включает в себя и сферу создания художественного произведения (творческую активность художника), и сферу рецепции (творческую активность воспринимающего). Знаменитая формула В. С. Библера: «Явление четвертое… Те же и Софья», помогает представить, понять и признать, что «в искусстве явно действует не схематизм «восходящей лестницы с преодоленными ступенями», но схематизм драматического произведения» [5, с. 159]. Новый контекст создает новые условия для восприятия и понимания. Здесь смыслы могут сосуществовать, меняться, процесс рецепции приобретает спонтанность и многовекторность. Произведение искусства приобретает «открытую форму», концептуализация которой предпринята рядом авторов [16; 20].
Современное искусство использует все многообразие способов взаимодействия с Другими – смыслами, текстами, стилями, авторами. Наиболее обсуждаемыми формами коммуникации в художественной сфере являются диалог, полилог и трансгрессия, специфика которых может быть выявлена по их отношению к Границе – Другому, Чужому смыслу, ценности, форме, культуре. После соприкосновения с Чужим, Другим возникает ощущение/переживание/осознание Границы и происходит выбор действия.
Диалог в классической трактовке строится на сопоставлении точек зрения и стремлении преодолеть отчуждение, породить возможность понимания, взаимодействия, создания нового общего смысла. Он предполагает встречу двух сознаний на Границе. Механизм преодоления Границы (Чужой – Свой) прекрасно описан Лотманом в специальном разделе «Понятие границы» в его большой монографии «Внутри мыслящих миров» [14, c. 257–268].
Полилог – форма многосубъектной коммуникации, которая строится на отталкивании от границ, иногда – на игровом взаимодействии между ними. Границы ощущаются и осознаются, но нет стремления их преодолеть. Как будто есть понимание того, что установить согласие невозможно, и потому каждый из участников полилога озвучивает свою позицию, сравнивая ее с другими, не надеясь на консенсус. Многоголосие рассматривается как ценность сама по себе, как проявление индивидуальности. Согласимся с А. П. Краснопольской, которая, анализируя коммуникативные принципы современного искусства, сделала вывод о том, что «принципиальным моментом для организации полилога становится выход из двойственности. Классическая диалогическая модель предполагает двойственность позиций и включает в себя ориентацию на поиск консенсуса. В основании полилогической модели лежит принцип выхода “в третью позицию”, удерживается ценность конфликта и столкновение позиций» [12, с. 51].
Трансгрессия (греч. trans – сквозь, через; gress – движение) в данном контексте может рассматриваться как желание преодолеть Границу, прорвать ее, утвердить Свое в противовес Чужому. Искусство авангарда было построено преимущественно на этом способе коммуникации с художественной и – шире – культурной традицией. Однако даже в этом
L
противостоянии все равно фиксируется реакция на некие прежде существовавшие реалии, отталкивание от них. Пикассо при всех его радикальных экспериментах, как минимум, помнит о прошлом. Так, в его «Авиньонских девицах» мы улавливаем отсылку и к мотиву трех граций, представленных в истории европейского искусства, и к облику древних масок, в том числе, африканских1. К. Малевич или Д. Кошут в их знаковых произведениях – «Черном квадрате» (1915) и «Фонтане» (1917) – осуществили акт трансгрессии, зачеркнув все имевшиеся способы репрезентации, представили нечто радикально Иное, вопреки тому, что было до них. Но для этого они должны были точно знать, чему они противостоят, от чего они отказываются, от каких форм, способов, художественных приемов, языка. То есть даже самые радикальные эксперименты, направленные на уничтожение прошлого, в каком-то смысле взаимодействуют с ним, сохраняя память о нем.
Представляется, были правы те, кто в философской рефлексии ХХ века воспел своеобразный гимн Диалогу как эвристически значимой, гуманистически обусловленной форме культурной (и художественной) коммуникации. Сегодня по-особому пророчески звучит известная формула М. М. Бахтина «Быть – значит, общаться диалогически». Диалог – основа культуры и самого человеческого существования . Все остальные формы могут быть рассмотрены как варианты диалога, но значительно преображенные, отражающие новые культурные и художественные реалии.
Отдельным вопросом, также обсуждаемым в современной научной литературе, является проблема соотношения понятий диалогичности и интертекстуальности. Известно, что концепция интертекстуальности сложилась в 60-е годы на основе теории диалога М. М. Бахтина. Сформировались разные точки зрения на соотношение диалогичности и интертекстуальности как форм ком- муникации. Есть авторы, которые радикально противопоставляют эти феномены. Так, Ю. В. Золоткова пишет: «Интертекст – понятие формальное, исключающее возможность настоящего диалогического общения. Соотношение текстов в “интертекстуальности” носит механический, игровой, деструктивный характер» [10, c. 97]. Другие акцентируют внимание на том, что сама концепция интертекстуальности «выросла» из диалогической теории Бахтина, являясь своего рода ее развитием в новых социокультурных условиях [8].
Нам представляется, что понятия диалогичности и интертекстуальности не являются взаимоисключающими, они утвердились в различных областях гуманитарного знания, отразив разные ракурсы рассмотрения реальности. Интертекстуальность – концепт, сложившийся в рамках семиотического подхода к осмыслению культурных реалий, базирующегося на анализе их знаковой стороны, поэтому в основу положено понятие текста как информации, запечатленной в определенной последовательности знаков. М. М. Бахтин много писал о диалоге как взаимодействии двух субъектов (Я – Другой, Автор – Адресат) но он не отрицал возможность диалога между текстами: «Текст живет, только соприкасаясь с другим текстом (контекстом). Только в точке этого контакта текстов вспыхивает свет, освещающий и назад, и вперед, приобщающий данный текст к диалогу» [3, c. 120]. При анализе ситуации интертекстуальности в различных художественных текстах можно встретить диалогичность в широком смысле слова, включающую и форму классического диалога, и полилога, и элементы трансгрессии.
Нужно отметить, что взаимоотношения искусства с культурой в истории были различны. На ранних этапах развития человечества в искусстве доминировала монологическая установка. Искусство ориентировалось на то, чтобы репрезентировать господствующие в обществе идеалы, соответствовать принятому канону, воплощать базовые принципы доминирующего стиля. В коммуникативном пространстве современного социума явно пре-
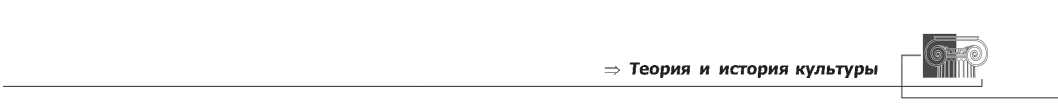
обладает диалогическая , нелинейная, разнонаправленная – интеракциональной – модель над трансляционной – монологической, линейной, однонаправленной. Это связано с ситуацией нарастающего «полиглотизма» культуры [13], глобализма и постглобализма, усиления внимания к Востоку, к архаическим, незападным, пограничным культурам и смыслам.
Изменение доминирующей модели коммуникации в художественном пространстве можно продемонстрировать на примере сквозных тем и образов, приобретших архетипический характер . Они дают возможность проследить, как менялись в разных культурно-исторических условиях их трактовка. Таковы, к примеру, сюжеты, связанные со строительством Вавилонской башни, образы Икара, Прометея. Они давали возможность каждой эпохе сделать акцент на наиболее значимых для нее сторонах. В этом отношении, возможно, самым показательным и востребованным в европейском и русском искусстве XVI–XXI веков является образ героя античных мифов Икара. В сотнях произведений литературы, живописи, скульптуры, анимации, кино этот образ предстает перед зрителем в самых разных интерпретациях. Примечательно, что в античном мифе главную роль играл Дедал – гениальный мастер, сделавший великие изобретения, но совершивший преступление и получивший наказание; в европейском искусстве на первый план вышел его сын Икар. Миф давал основания для разных трактовок, и история искусства прекрасно это демонстрирует.
Икар в произведениях европейских художников XVI–XX веков представлен в нескольких вариантах:
– как прекрасный смелый юноша, готовящийся к героическому полету (особенно характерно для искусства классицизма);
– как герой, не последовавший наставлениям старика-отца и дерзнувший подняться ввысь, к солнцу, в нарушение всех запретов и законов природы (искусство барокко);
– как трагический герой, на падение и гибель которого смотрят со страхом и сочувствием люди на земле;
– как дерзкий юноша, совершивший бессмысленный и безрассудный поступок, гибель которого осталась незамеченной людьми (П. Брейгель Старший «Падение Икара» (1558). Иногда он мог быть представлен даже в комически-униженном виде, как, например, это сделал чуть позже другой голландский художник Хендрик Гольциус в гравюре «Икар» из серии «Четыре позора» (1588).
Изображения мертвого Икара, тело которого распростерто на земле, могли выражать все вышеперечисленные оттенки смыслов.
В многочисленных произведениях, посвященных Икару, иногда присутствует прямое подражание авторитетному автору, иногда – собственная вариация на тему, отражающая дух и художественный стиль эпохи. Можно сказать, что у каждой культуры – свой Икар. Сложился длившийся больше двух тысяч лет межкультурный диалог в художественном пространстве. Это был именно диалог культур , который вели от лица культуры отдельные ее представители – художники, выражавшие доминирующие в их эпоху позиции. Трактовки образа Икара в искусстве XVI–XX веков укладываются в рамки культуры той или иной эпохи, отражая ее дух, особенности ее картины мира.
В произведениях второй половины ХХ – начала XXI века сохраняются вариации прежних трактовок и появляются новые, отражающие индивидуальную точку зрения автора, а варианты ее прочтения ложатся на плечи адресата – зрителя, слушателя, читателя. В качестве примера можно сослаться на работы современных российских художников Дмитрия Каминкера «Падение Икара в пробирку» или Вадима Григорьева-Башуна «Крылья ангела. (Икар XXI)». Обе работы были представлены на прошедшей весной 2025 года выставке в Государственном Рус-
L
ском музее2. На картине Григорьева-Башуна на спине стоящего юноши – всего лишь нарисованные крылья, что дает возможность усомниться в самой способности Икара взлететь. Падение Икара в узкую пробирку с нанесенными на нее делениями вызывает еще больше вопросов и создает пространство для множества вариантов ответов. Многообразие трактовок этого сюжета существует в современной культуре как данность; художники рассматривают разные варианты, не настаивая на единственно правильной точке зрения, заставляя зрителя сомневаться в их школьном знании, искать новые ответы. Налицо ситуация интеракциональной модели коммуникации, полилогической, нелинейной, разнонаправленной, в которой создается возможность для множества интерпретаций, автором которых должен стать зритель. Но при этом современное художественное пространство демонстрирует отмеченную выше «способность соединять рассеянные миры субъектов между собой» [11, c.123] в ходе длящегося дискурса, в котором могут быть исследованы и сопоставлены разные точки зрения.
Подобную же ситуацию мы можем наблюдать и на примере обращения современных художников к известным произведениям прошлого, среди которых, пожалуй, наибольшей популярностью пользуются «Лаокоон», «Джоконда» и «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, а также – «Черный квадрат» К. Малевича. По каждому из произведений можно проследить историю полилогического многовекторного взаимодействия с ними. В данном случае складывается диалог с конкретным произведением. Почему выбор пал именно на них – отдельный и не вполне проясненный вопрос3. Необходимо понять, что вообще яв- ляется причиной обращения к произведениям прошлого. Вероятно, не всегда здесь имеют значение высокие художественные достоинства работы. Похоже, что таким интересом пользуются памятники, которые современный человек воспринимает как знаковые, рубежные, прорывные, которые определили дальнейшее развитие значимых художественных тенденций, обращены к неким важным экзистенциальным проблемам, что позволяет включить памятник в новый культурный контекст через вживание- вчувствование-понимание, выявить новые смыслы или их оттенки. «Многоголосие каждого значительного произведения пропорционально обращенным к нему взглядам; можно сказать, что и саму свою жизнь оно обретает в нескончаемом потоке зрительских откликов самого разного толка: восторженных и раздраженных, неискушенных и профессиональных, глубоких и не очень» [16, c. 45].
Происходит погружение известных произведений в новый культурный контекст для выявления иных смыслов через постановку вопросов из современной нам реальности. Для этого используется многообразие художественных приемов, рассматриваем некоторые из них.
-
1. Остранение – как способ нарушить автоматизм восприятия, заставить зрителя посмотреть на изображение новыми глазами, как бы не узнавая его, увидеть его «странность». Так, итальянский скульптор Фабио Виале в 2009 году создает поясное скульптурное изображение Леонардовской Джоконды (2009) из мрамора высокого качества, но при этом мастерски создает иллюзию дешевого некачественного пенопласта, тем самым снижая высокий статус портрета, превращая его как бы в дешевую поделку, погружая его, таким образом, в контекст современной массовой культуры. Андрей Молодкин , российский художник-концептуалист, создает инсталляцию «Черный квадрат» (2006, ГРМ), для ко-
-
2. Концептуальный подход – использование архивов, бытовых вещей (К. Болтански «Призраки Одессы»4, И. Кабаков. «Лабиринт. (Альбом моей матери)5.
-
3. Использование открытой интерактивной формы произведения, введение элементов процессуальности, перформативности, что делает зрителя не только интерпретатором произведения, но и участником его создания. На смену искусству репрезентации, «искусству действия» приходит «искусство взаимодействия».
-
4. Масштабность – выплеск в открытое городское пространство, обращение к массовой аудитории (стрит-арт, паблик арт);
-
5. Усиление эмоционального воздействия через эпатажность, эстетизацию безобразного, трансгрессию, шокирующий эффект.
торой плоскую коробку из плексигласа заполняет черной нефтью и прикрепляет к ней шланг для выкачивания нефти, тем самым демонстрируя новые ценности современной предельно коммерциализированной культуры.
В условиях культурных реалий конца ХХ–начала XXI века в художественном пространстве наиболее востребованной формой коммуникации стал полилог с его многовекторностью, уходом от бинарности. Модель коммуникации «автор – текст – адресат» была потеснена моделью «автор – текст – контекст – множество адресатов». Механизм полилога позволяет художнику создавать новое через разные формы взаимодействия старого и нового, сопоставление чужого и своего, столкновение культур, позиций, ракурсов. Способствует этому утвердившаяся откры- тая форма произведения. С. Ступин, глубоко исследовавший этот феномен, резюмирует: «И структура, и восприятие произведения теперь многовекторны и ризоматичны, <…> каждое его материальное и рецептивное воплощение в известной степени спонтанно, незапланированно. Осознанно или нет, новое искусство творит образ непрестанно расширяющейся, самоорганизующейся Вселенной – нелинейного “мира в становлении”, устроенного по принципам динамического хаоса и отрицающего закрытые системы как упрощенные, “школьные”, не соответствующие действительности» [16, c. 13]. Именно этот новый «мир в становлении» и пытается осмыслить и репрезентировать современное искусство: культура – ее смыслы и ценности, ее динамика – по-прежнему находятся в фокусе внимания искусства, которое чутко реагирует на их изменения, исследует их и формулирует свои ответы. Для современных художественных практик принципиально важно существование в контексте длящегося дискурса (художник – куратор – зрители – художник и т. д.).
Полилог был хорошо освоен уже постмодернистским искусством ХХ века, в котором художник постоянно обращался к Другим – культурам, эпохам, авторам, смыслам, формам – в попытке поиграть, переиначить, развернуть, использовать новый ракурс, поставить в новую среду, контекст, в конечном итоге – создать новые смыслы или хотя бы вызвать новые ассоциации. Эпоха метамодернизма, наступление которой в начале XXI века провозгласили многие исследователи, обращается к «новой искренности», «новой серьезности» и новым приглашением к диалогу. Она не рассталась совсем с постмодернистской иронией, сомнением, но колеблется «между модернистским стремлением к смыслу и постмодернистским сомнением касательно смысла всего этого, между модернистской искренностью и постмодернистской иронией, между надеждой и меланхолией, между эмпатией и апатией…» [7].
Представляется, что сегодня можно фиксировать появление художественных высказываний, направленных на поиск нового понимания, обретения общего смысла, на преодоление тотальной иронии и деструктивности постмодернизма. Быть может, в этом проявляется некоторое движение к диалогу классического типа? В центре внимания – экзистенциальные проблемы современного общества, существования человечества как вида, смыслы и ценности культуры. Таково, к примеру, творчество российских художников Андрея Блохина и Георгия Кузнецова («Recycle Group»). Вместо дорогостоящих мрамора и гранита они используют стекло, пластик, строительную сетку. В своих произведениях они актуализируют важные особенности современной культуры, соотнося их с ценностями и идеалами прошлых эпох, призывая зрителя задуматься над «вечными» вопросами: «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?». Эти вопросы задавал Поль Гоген в картине 1898 года с таким названием; в 2017 году инсталляцию с этим же названием в рамках биеннале в Екатеринбурге сделал Тимофей Радя. Об этом же молча вопрошают многие произведения художников группы «Recycle Group». Их работа под названием «Селфи-башня», представленная в Итальянском дворике ГМИИ им. А. С. Пушкина в рамках персональной выставки группы6, давала точную отсылку к чумным столбам, стоявшим на городских площадях европейских городов и представлявшим изображения святых, ангелов и фигуру девы Марии, венчающей ярусную композицию. Скульптурные композиции устанавливались в знак благодарности за спасение города от мора или от нашествия врагов. В работе российских художников шестеро мужчин, составивших двухъярусную пирамиду, истово всматриваются в свое отражение на экранах смартфонов, вытянутых на селфи-палках. Чем заняты они? Напряжен- ным поиском самоидентичности? Самолюбованием? Произведение воспроизводит узнаваемые приметы современной культуры, соотнося их с прежним сакральным контекстом, призывают зрителя задуматься над теми же «вечными» вопросами: «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?». Хочется согласиться с выводом М. Шибаевой, уделившей большое внимание исследованию «вечных» вопросам в русской поэзии и философии: «Традиционный поиск ответов на «вечные» вопросы в ракурсе дихотомии сакрального и профанного связывает между собой различные эпохи и обусловливает проблемно-тематическое пространство полилога традиций. <…>. Открытый характер вопросов, связанных с миром человеческой субъективности, обнаруживается не только в логико-рациональной, но и в образнопоэтической формах» [19, c. 88].
Выставка «Homo virtualis» художников «Recycle Group» проходила в формате выставки-интервенции, предполагавшей размещение работ художников в пространстве постоянной экспозиции музея, что делало неизбежным сопоставление работ художников с произведениями искусства разных исторических эпох. Погружение работ молодых художников в Иной, Чужой культурный контекст создавало возможность понимания Себя через Чужого, Другого. Аннотация к выставке, составленная художниками, вопросы, обращенные к зрителю, также подталкивали к взаимодействию с Другими – культурой, смыслом, ценностью, к поиску ответов на «вечные» вопросы.
Актуализация экзистенциальной проблематики через ее погружение в толщу культурных смыслов является сквозной доминантой современного искусства. Культу-роцентризм современного художественного пространства создает возможность пропустить через себя весь опыт человеческой культуры для осмысления собственного индивидуального бытия.
Представляются исчерпывающе точными слова Библера, глубоко проанализировавшего эти процессы: «Культура XX века, сталкивая
и взаимоформируя все эти культурные средоточия, соотнося вопрос Эдипа – с вопросом Гамлета – с вопросом Августина, актуализирует их всеобщекультурный смысл. Повторю еще раз: актуализирует этот смысл в возгласе SOS, обращенном в Век XXI» [5, c. 175]. В этих словах философа звучит вера в культуру и ее возможности, но и большая тревога. Некоторые особенности эпохи метамодерна с ее отказом от тотальной иронии и игры в пользу «новой искренности» и «новой серьезности» дают основания для робкой надежды на воз- можность достижения общего понимания каких-то базовых экзистенциально значимых моментов. Возможно «возглас SOS» был услышан.
Однако, нужно иметь в виду, что логика культуры была глубоко исследована В. С. Би-блером на основе анализа работы человеческого сознания. Как поведет себя искусственный интеллект, который все более активно и широко вторгается в реалии современного социума, в том числе, в художественную практику, – большой вопрос.