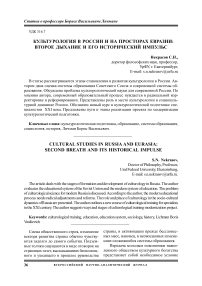Культурология в России и на просторах Евразии: второе дыхание и его исторический импульс
Автор: Некрасов С.Н.
Журнал: Вестник экономики, управления и права @vestnik-urep
Рубрика: Статьи о профессоре Борисе Васильевиче Личмане
Статья в выпуске: 2 (55), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются этапы становления и развития культурологии в России. Автором дана оценка системы образования Советского Союза и современной системы образования. Обсуждена проблема культорологической науки для современной России. По мнению автора, современный образовательный процесс нуждается в радикальной корректировке и реформировании. Представлены роль и место культурологии в социокультурной динамике России. Обозначен новый курс в культурологической подготовке специалистов ХХI века. Предложены пути и этапы реализации проекта по модернизации культурологической подготовки.
Культурологическая подготовка, образование, система образования, социология, история, Личман Борис Васильевич
Короткий адрес: https://sciup.org/142226997
IDR: 142226997 | УДК: 316.7
Текст научной статьи Культурология в России и на просторах Евразии: второе дыхание и его исторический импульс
Смена общественного строя, изменение вектора развития страны обычно чувствуются задолго до самого события. Подземные толчки ощущаются в виде оговорок на страницах газет, высказываниях беспомощного и уходящего в прошлое руководства страны, в активизации прежде бессловесных масс, наконец, в неожиданных изменениях сложившейся системы образования.
Передача молодым поколениям накопленного обществом культурного богатства представляет собой необходимое условие прогресса человечества. Этот механизм аккультурации древен, как само человечество. Но если в традиционном обществе передача культурного наследия происходила естественным путем без каких-либо специально созданных структур в совместной трудовой деятельности, игре и посредством имитации поведения авторитета, то с усложнением общественной и социокультурной динамики, при возникновении противоречия между сознанием и культурой образование становится важной самостоятельной сферой общественной жизни.
Содержание воспитательных процессов в образовательной системе индустриального общества сводилось к запоминанию и воспроизведению учебного материала, что составляло суть обучения, но не давало образования. Основным мотивом к учебе была конкуренция среди учащихся, основанная на системе экзаменов и наказаний. Понятно, что в такой образовательной системе не были задействованы факторы, идущие от природы человека и его запросов, психологических особенностей личности. Переход к постиндустриальной стадии развития цивилизации во второй половине ХХ в. в развитых странах Запада уничтожил традиционные оптимистические представления о жизненных ценностях и будущем человечества. Разрыв между сложившейся системой образования и новыми условиями жизни вызвал кризис системы и потребовал ее реорганизации. Ярко выделились факторы, вызвавшие потребность в таких переменах и объясняющие сложившиеся вскоре основные парадигмы образования взрослых. Так, усложнение и развитие динамики труда привело к тому, что работники все чаще имеют дело со сложными процессами, требующими интеллектуальных усилий и обработки информации. Уже в середине 1980 гг. в развитых странах мира от 70 до 90% занятых в производстве должны были иметь образовательную подготовку на уровне среднего или высшего образования, в результате чего человеку приходится на протяжении трудовой жизни несколько раз переквалифицироваться и непрерывно пополнять знания, то есть быть культурным феноменом. Таким образом, налицо устойчивая тенденция, определяющая потребность в такой системе образования, которая обеспечивала бы культурную способность легко адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни и производства.
Другим фактором, вызывающим к жизни новую образовательную систему, становится ориентация на новую модель развития. Речь идет об эффективности и окупаемости вложений в «человеческий капитал», который приносит больший доход и обладает большим экономическим эффектом, нежели капитал в его физической форме. Оказывается, более половины годового прироста валового национального продукта определяется инвестициями в «человеческий фактор» и, в первую очередь, в образование. Эта теория «человеческого фактора» поразила воображение финансистов и оказала сильное воздействие на государственную образовательную политику в области модернизации системы образования и обеспечения рынка труда квалифицированной рабочей силой. Однако доставшееся западной цивилизации от метафизического материализма ХVIII в. узкое понимание человека как «гомо экономикус» не позволяло долгое время сформировать новую модель развития, которая нацелена уже на удовлетворение индивидуальных духовных и интеллектуальных запросов человека, его культуры.
Распад советской системы образования и рождение гибридной формы
Распад советской системы гуманитарного образования можно рассматривать как продукт естественного кризиса индустриальной системы, однако мутации образования носили направленный характер. В крупнейшем на Урале вузе, кузнице индустриальных кадров - Уральском политехничес- ком институте имени С.М. Кирова в Свердловске во второй половине 80 гг. в период перестройки и гласности вдруг стали исчезать запреты. Если прежде на партийных собраниях института жестко осуждали обществоведов, в свободной манере ведущих занятия, использующих в качестве дополнительного материала записи песен В. Высоцкого и иногда в кабинете заведующего кафедрой аспиранта или ассистента вместо профессора ожидали один-два неприметных специальных молодых людей из органов, то сразу с началом перестройки начались явные подвижки. Если прежде в пике «застоя» заведующий кафедрой «научного коммунизма» требовал от подчиненных преподавателей проводить лекции и семинары исключительно по партийным документам и даже по произведениям генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева «Малая земля», «Целина», по публикациям газет «Правда» и другой партийной прессы, то теперь, с 1986 г., гуманитарии валом повалили на организованную в ДК железнодорожников Городскую дискуссионную трибуну идеологическим отделом Свердловского горкома КПСС.
В Трибуне принимали активное участие ректор СЮИ М.И. Кукушкин, профессор-экономист УрГУ А.В. Гребенкин, доцент УрГУ Л.А. Закс, заведующий лабораторией, кандидат экономических наук Ю.В. Лазарев, доктор экономических наук А.М. Илышев, депутат райсовета С.Ю. Радченко и многие другие уважаемые люди.
Ярко выделялся среди выступавших бывший доцент УПИ Геннадий Эдуардович Бурбулис, прежний парторг кафедры философии, ставший теперь заместителем директора ИПК Минцветмета СССР. Он по заданию Свердловского ГК КПСС активно участвовал в деятельности дискуссионной трибуны, выковывая победившую в 1991 г. либеральную идеологию буржуазной России.
На кафедре научного коммунизма «Уральского политеха», как называл тогда его ректор Станислав Степанович Набойченко, внезапно, несанкционированно и надолго появился большой самодельный фотопортрет сосланного в Горький опального тогда академика А.Д. Сахарова, диссидента и теоретика конвергенции капитализма с социализмом. Так на идеологической кафедре впервые проявились демократы, которые на самом деле, как показала новейшая история, оказались лжедемократами. Впрочем, народ оценил их не по словам, а по делам и дал им впоследствии более хлесткое наименование.
Партгрупорг кафедры старший преподаватель социолог Людмила Григорьевна Пи-хоя, которую по недомыслию активно продвигал по конкурсу коммунист-фронтовик доцент Ф.А. Поправко, как по какой-то команде, прихватив за компанию А.Л. Ильина, бывшего аспиранта Л.Н. Когана, включилась в продвижение к власти Б.Н. Ельцина, тогдашнего председателя Госстроя СССР. Туда же потянулись теоретик моделей социализма кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии А.П. Аулов и доцент, заведующий кафедрой истории КПСС Г.Н. Харин. Все они, антисоветски настроенные интеллектуалы, и были тогда первыми яркими демократами советского разлива. Они входили в группу советников Верховного Совета РСФСР, а вернувшись из Москвы, в короткие периоды временного возвращения к преподавательской работе сидели за залитыми кофе неряшливыми столиками в ЗХЗ (зала холодных закусок ГУКа) и обсуждали важность построения для атаки на Кремль «дуги напряженности» от бастующих шахтеров Ухты до неспокойного Кузбасса.
Возникло впечатление, что у институтских гуманитариев и коммунистов «снесло крышу». Если прежде любое скромное предположение о борьбе мнений, высказанное на семинаре со студентами, вызывало персональное дело и выговор с занесением в учетную карточку, то ныне на институтских партсобраниях в актовом зале можно было слышать с трибуны угрожающие заявления декана ФОН В.И. Кашперского о подготовке в стране государственного пе- реворота, которое дублировало заявления Э.А. Шеварднадзе на партийной конференции КПСС. Создавалось впечатление, что нормальных порядочных людей, верных советскому прошлому, не оставалось. Борис Васильевич Личман был одним из таких немногих спокойных, рассудительных ученых и коммунистов.
После ряда бурных массовых митингов в Главном учебном корпусе УПИ, особенно после митинга, организованного Г.Э. Бурбулисом, где осуждались события разгона январской демонстрации в Вильнюсе 1991 г., обстановка в институте резко изменилась. Стало ясно, что партийная и комсомольская организации института возглавляют вовсе не перестроечное движение под лозунгами: «Больше социализма - больше демократии!», в которое искренне поверили доверявшие партии люди, а движение в противоположном направлении. Первые годы перестройки принесли улучшение в стране, вызвали у людей подъем и энтузиазм, а затем начался процесс упадка, что было использовано антисоциалистическими силами сначала для дискредитации, а затем для подрыва советского общества.
Уже в 1989- 1990 гг. стало видно, что студенты плохо слушают и не воспринимают даже модернизированную марксистскую теорию, изменившуюся в ходе реализации идеологии гласности под влиянием потока газетно-журнальных, телевизионных разоблачительных и очерняющих советскую историю материалов. Средства массовой информации были переданы государственнопартийной верхушкой в руки противников социализма, и они занялись внесением сумятицы в умы людей, внедрением дезинформации в их сознание. Преподаватели идеологических дисциплин УПИ перестали читать лекции в соответствии с принятым прежде двойным стандартом - «с кукишем в кармане» (по выражению М.Е. Салтыкова-Щедрина), а многие стали откровенно менять свои взгляды, создавая феномен, впоследствии названный в народе «перевертышами». В этот же период кое-кто из моих наиболее продвинутых коллег, кстати, членов партии, осознавших себя в качестве реставраторов капитализма и носителей демплатформы в КПСС, уже прямо в частных беседах намекал, используя уголовный сленг: пора-де «отойти от красноперых», которых, возможно, они, «демократы», будут «скоро развешивать на деревьях».
Дело в стране и вправду шло к государственному перевороту. В это время стал активно развиваться созидательный проект организации научного центра, который бы занимался историей и теорией культурных процессов, а также возникла идея образования кафедры по аналогичной тематике. Когда летом и осенью 1991 г. советское общество фактически погибло в результате провала ГКЧП, запрета КПСС, развала СССР, в первое время для обмана народа еще никто открыто не говорил о смене общественного строя и реставрации дикого капитализма. В этих условиях объективно вызревала и возникла необходимость формирования нескольких новых дисциплин и соответствующих им кафедр.
От советской системы образования и от западной системы были взяты худшие свойства - образовался социальный гибрид. «Рогатый заяц», как выражался специалист по социальным химерам А.А. Зиновьев.
Новые дисциплины и новые кафедры
Первым шагом к изменению сложившейся структуры преподавания обществоведческого цикла стало создание в 1991 г. общеинститутской кафедры культурологического профиля. Вслед за ее созданием другие кафедры незадолго до ГКЧП и распада СССР изменили свои названия: кафедра истории КПСС стала кафедрой истории России, кафедра марксистской философии оказалась просто кафедрой философии, кафедра научного коммунизма стала кафедрой социологии и политологии, а кафедра политической экономии трансформировалась в кафедру общей экономической теории. Через год уже в новой стране началась про- цедура образования новых кафедр психологии, менеджмента. По ментальности все мы оставались еще советскими людьми, но жили в новом обществе. Многие предполагали, что происходит смена вывесок как в песне И. Талькова «Метаморфозы», когда «комсомольская бригада назвалась программой «Взгляд».
В этих условиях в 1987 г. у автора при активной поддержке историка Бориса Лич-мана с его идеей многоконцептуальности изучения истории впервые зародилась и оформилась идея о создании отдельной институтской кафедры культуры и связанного с ней общефакультетского исследовательского центра по социокультурной динамике.
Процесс образования новой кафедры шел следующим образом: в начале 1990-1991 учебного года была организована совместная комиссия УПИ и факультета общественных наук под председательством профессора Ю.Р. Вишневского по созданию кафедры теории и истории культуры. Юрий Рудольфович Вишневский в начале 80 гг. прибыл из Нижнего Тагила и, как у нас в шутку говорили, был «десантирован обкомом партии из Одессы» (имелось в виду его рождение в г. Одессе и дальнейший переезд в возрасте 1 года на Дальний Восток) в качестве молодого доктора философских наук для повышения идейно-теоретического уровня работы кафедры научного коммунизма крупнейшего вуза Урала.
Научная проблематика в области социологии художественной культуры, которой занимался Ю.Р. Вишневский, носила ярко выраженный культурологический характер. Прежде в Нижнем Тагиле он был деканом художественно-графического факультета, а затем вместе с профессором Л.Н Коганом издал тонкую книжку «Очерки развития советской социалистической культуры» в Средне-Уральском книжном издательстве «СУКИ», как сокращенно и афористично их именовал на своих лекциях М.Н. Руткевич, декан философского факультета УрГУ. Итак, прибытие Ю.Р. Вишневского в 1981 г. на руководство кафедрой научного коммуниз- ма хотя и было для большинства наблюдателей и инсайдеров загадочным десантированием, на самом деле было согласованной с парткомом УПИ и обкомом партии акцией, поскольку в то время высшие идеологические кадры партии были номенклатурой обкома КПСС со всеми вытекающими для этих кадров последствиями: прикреплением к спецполиклинике, выделением квартиры вне очереди, что и было вскоре сделано. Однако даже личная творческая работа Ю.Р. Вишневского на стезе преподавания научного коммунизма, использование творческих мнемонических приемов для понимания и систематизации материала, наглядная агитация - наклеивание вырезок (фотографий, картинок) из газет и журналов на листы ватмана - не спасли от необходимости деидеологизации курса преподаваемого кафедрой научного коммунизма и переименования кафедры в кафедру социологии и политологии.
В этих условиях в 1987 г. у меня впервые зародилась и оформилась идея о создании отдельной институтской кафедры культуры и связанного с ней общефакультетского исследовательского центра по социокультурной динамике. Тогда же я поделился этой мыслью с коллегой по кафедре доцентом Г.К. Чернявской и получил ее горячую поддержку. Вместе мы начали будировать эту тематику в парткоме и ректорате. К проекту по созданию и развитию культурологической кафедры я привлек члена Совета Федерации профсоюзов Свердловской области, члена комиссии Совета Федерации профсоюзов по культуре и детству, депутата Ор-джоникидзевского райсовета г. Свердловска (Уралмаш) С.Ю. Радченко, который создал и возглавлял лабораторию стратегических исследований проблем цивилизации культуры. Под моим руководством нами был написан детальный пошаговый проект создания кафедры теории и истории культуры, который я назвал загадочно - «Дорожная карта культуры». Увы, тогда я не знал, что уже созданы за рубежом и действуют у нас через «агентов влияния» глобальные
«дорожные» карты по деконструкции той страны, в которой я создавал локальную культурологическую карту в качестве крепящего культурного стержня народного и государственного единства вокруг культуры русского народа и лучших достижений мировой культуры. Этот проект я предполагал распространить на всю систему высшего образования СССР, наивно полагая, что меня окружают все те же простодушные и искренние советские люди, стремящиеся к усовершенствованию социализма и лучшей жизни для всех.
«Что за комиссия, создатель»?
В комиссию, используя слова А.С. Грибоедова, по созданию новой кафедры вошли экономист проф. Л.Е. Стровский и историк Б.В. Личман. Комиссия у А.С. Грибоедова используется в смысле поручения, которое доставляет много хлопот. Историческая и личная подоплека создания новой кафедры объясняет, как в конце концов руководство института под моим ежедневным давлением, влиянием Б.В. Личмана и активным воздействием делегата партконференции КПСС Г.К. Чернявской пришло к выводу о необходимости создания специальной комиссии, возглавлять которую и было поручено, повторим, вполне адаптировавшемуся на преподавании научного коммунизма профессору Ю.Р. Вишневскому. Полагаю, что он, будучи социологом культуры, увидел в подготавливаемом комиссией решении возможность отправить активных членов своей кафедры, потенциальных конкурентов и будущих докторов наук на новую кафедру для обеспечения им простора самореализации. Аналогичный интерес возник у других заведующих кафедрами, решивших воспользоваться организационными изменениями на факультете в своих целях. Увы, они так и продолжали рассматривать кафедру культурологии как одну из узкопрофильных кафедр факультета, но не как центр универсальной общекультурной подготовки.
В комиссию также вошли все те, кто так или иначе занимался культурологической проблематикой на факультете общественных наук: доктор искусствоведения Л.М. Кад-цын, доценты С.Н. Некрасов, Г.К. Чернявская, Т.И. Пронько. Члены комиссии активно работали прежде в созданной под эгидой парткома УПИ системе СНЭВ (системе нравственно-эстетического воспитания), а также на ФОПе (факультете общественных профессий). Эти две системы, а также издавна организованная комитетом ВЛКСМ УПИ общественно-политическая практика студентов (ОПП) нуждались в интеграции на новой основе как современное созвучное времени реформ управленческое организационное решение по духовному воспитанию и общекультурной подготовке студентов в новых условиях.
По результатам конкурса авторских программ развития кафедры теории и истории культуры ее заведующим по дополнительной рекомендации влиятельного в УПИ историка Б.В. Личмана был утвержден С.Н. Некрасов. Моя программа была обоснована всеми ссылками на новейшие структуралистские разработки в области дискурс-анализа, материалы которых были размещены в ведущих философских журналах страны в 80 гг. Немалую роль в выборе комиссией кандидатуры было то обстоятельство, что была написана и утверждена к защите диссертационным советом УрГУ докторская диссертация. Мной в ходе обучения в докторантуре в качестве старшего научного сотрудника были изданы две монографии, получившие широкую известность. Помнится, аргументация о том, что кафедрой будет руководить молодой перспективный 38-летний доктор наук, оказала решающее воздействие на членов комиссии. Важным был и аргумент, что у будущего заведующего закладывался широкий спектр возможностей: моя докторская диссертация была подготовлена к защите по специальности «История философии», а кандидатская в свое время была защищена в Новосибирске по специальности «Онтология и теория познания».
В результате 30 лет назад, 11 мая 1991 г., был подписан приказ ректора о создании кафедры теории и истории культуры. В основу работы кафедры была положена концепция культурологического образования. Стало ясно, что на кафедре теории и истории культуры собрался смешанный коллектив из преподавателей, которые были по разным причинам откомандированы своими заведующими на новую кафедру. Заведующие избавлялись от непрофильных педагогов и ученых, от всех, кто не вписывался в рамки социологии и философии, истории и политологии.
Получилось так, что руководство новой кафедрой перешло в руки выходцев с кафедры научного коммунизма, тех представителей этой кафедры, которые не согласились с мировоззренческой мутацией кафедры научного коммунизма, ее превращением в кафедру социологии и политологии. Нам хотелось бы всю отмобилизованную 30-летней работой мощную кафедру научного коммунизма плавно трансформировать в общеинститутскую кафедру теории и истории культуры, но так как это было невозможно, пришлось ограничиться процессом выделения культурологической секции, а затем кафедры на факультете общественных наук. Кафедра активно занималась проблемами реформы Высшей школы России, доклады по реформе были представлены на международные конференции и в Государственную Думу России. Заведующий выдвинул, опубликовал и на протяжении последних 30 лет разработал фундаментальную программу концептуального обоснования неоинду-стриального вектора развития России.
Новая кафедра возникла на площадях кафедры истории КПСС. Вначале мы получили кабинет Вечернего университета марксизма-ленинизма И-312, затем лекционную аудиторию, где историки партии вели лекции И-314. Культурологи сохранили портреты и бюсты Ленина, Кирова, на которых быстро радикализировавшиеся либеральные демократы мелом чертили эсесовские молнии и прочие рунические знаки. С ис- ториками новая кафедра стала жить дверь в дверь: двери были напротив, а это значит, что обсуждения, заседания и посиделки заведующих стали нормой. Старшие товарищи-историки были нужны институту, они издавали альбомы и исторические обзоры, теперь задача заключалась в обосновании необходимости новой науки культурологии в новых исторических условиях. И поддержка историков и Б.В. Личмана была неоценимой.
Осенью 1991 г. бывший завкафедрой истории КПСС Г.Н. Харин скончался. Хоронить его привезли на родину, возле актового зала УПИ был выставлен почетный караул. Мы стояли в нем с Борисом Васильевичем. После караула к нам подошел Госсекретарь новой России Г.Э. Бурбулис, мой друг и сокурсник, отсыпал нам по пригоршне значков и иной символики новой России. Так трагически начиналась наша последующая тридцатилетняя жизнь в постсоветской РФ.
Нас многое связывало лично с Борисом Васильевичем. Он из Днепропетровска, города, в котором я провел не одни летние каникулы, где живет мой брат и дядя, конструктор стратегических ракет. Близость духа и психологии значат в общении много. А еще больше значит совместная работа, служба государству и Родине, то, что наши отцы называли “сослуживцы”. Борис Васильевич работал в УПИ с 1980 г. на кафедре истории КПСС, я с 1974 г. на кафедре научного коммунизма. Вот сейчас я думаю, а у кого еще есть диплом доцентов по таким кафедрам? У нас они есть! На этой кафедре он прошел все должности - от ассистента до профессора. И интересовала его уральская индустрия, ее роль в экономической политике Советского государства во второй половине 1950-х середине 1980-х гг. А меня интересовала новая индустриализация, через которую Россия должна пройти, если желает выжить и построить новый социализм. Итогом изучения этой научной проблемы стала защита в1991 г. докторской диссертации и моя защита в 1992 г. с разрывом в полгода по тематике «Фетишизм и идеологический процесс как проблема постиндустриализма». После защиты Борис Васильевич возглавил кафедру истории КПСС, преобразовав ее в 1992 г. в кафедру истории России. Получается, он смотрел на эксперимент по созданию с нуля новой кафедры у меня, а затем преобразовал свою.
Профессор Борис Личман был выдающимся теоретиком исторического процесса, патриотом, он оказал серьезное влияние на мое становление как культуролога и теоретика социальной диалектики предыстории человечества. Уже после его ухода из нашего вуза я издал об этом двухтомник в Казахстане. А затем солидный том в столице, в центральном издательстве. Считаю, что именно на 1990-е гг. пришелся расцвет его таланта и демократического отношения к поискам коллег в науке: я в этот период переживал полосу поисков и общался в широком диапазоне: от крупных ученых до крупных политических и общественных деятелей. Был под идейным влиянием А.Г. Дугина и Э.В. Лимонова. Был доверенным лицом В.В. Жириновского и Г.А. Зюганова, работал с Конгрессом русских общин Д.О. Рогозина и Шиллеровским институтом науки и культуры Л. Ларуша, сотрудничал с учеными Франции, Мексики, Германии, Украины, Казахстана, США, и всюду Борис Васильевич с неизменной улыбкой помогал и подсказывал в моих поисках и публикациях.
Необходимость культурологической науки для современной России
30-летний юбилей кафедры истории и теории культуры (культурологии, культурологии и художественного творчества, культурологии и дизайна), в мае 2021 г. переименованной после нескольких изменений в кафедру культурологии и дизайна, прошел на фоне изменения самого вуза, который перестал быть политехническим институтом им. С.М. Кирова, а после объединения с Уральским государственным университетом им. А.М. Горького стал Уральским федераль- ным университетом им. Б.Н. Ельцина. Тем не менее памятники Горькому и Кирову стоят, поскольку Россия не только преемник, но и продолжатель советского прошлого. 9 мая 2021 г. в репортаже с Красной площади об этом сказал Сергей Брылев: пора отказаться от наследия 90-х в виде понятия “преемник”. Мы - продолжатели!
Но сегодня еще более остро нужна культурологическая реформа высшей школы, проект которой был разработан и доложен ГД ФС РФ еще в начале нулевых годов, где кафедра культурологии выступает как ядро общей подготовки студентов и на этой основе обосновывается введение госэкзамена.
Культурология как общая наука о культуре создает идеологию, ее ищут и пытаются создать искусственно и по заказу, но это слишком серьезное дело, чтобы доверять военным и политологам. Россия - страна культуры, и вопрос об идеологии страны, государства и народа - это наш вопрос. Вопрос для культурологов. Если США в рамках американской мечты сражаются за демократию, то русские борются исторически за справедливость.
Культурологическая экспертиза выступает в качестве обоснования необходимости культурологии. Подробности экспертизы - пункты и ее необходимость как научное обоснование нашей необходимости еще надлежит ввести в научный и государственный оборот.
Важна разработка теории культуры и не-сведение всего к деталям: музееведению, истории культуры, философии культуры, культуроведению, дизайну и прочему трансгуманистическому и плюралистическому обсуждению полифункциональной сущности искусства. В этом понимании искусством является все, что любому отдельному индивиду в агностическом и субъективно-идеалистическом смысле таковым представляется. Возникает путаница родовых категорий и видовых понятий, где забывается, что культурология как наука о культуре выступает в виде родовой сущности по отношению к дизайну, инфографике, сервисологии и прочему.
Российское общество «Знание» в результате инициативы Президента РФ (выступление в апреле 2021 г.) и принятого ГД Федерального закона о просветительской деятельности в мае 2021 г. проходит через перезапуск, результатом чего становится возвращение науки в общество, повышение авторитета науки, становление просветительской работы на единой информационной платформе. Интерес к текстам, литературе и серьезной тематике в стране высок: если прежде в СССР было 5 тыс. писателей, членов Союза писателей, то сейчас в России 75 тыс. писателей. Выдающиеся ученые по линии общества «Знание» уже начали выступления и массовые лекции онлайн, в офлайн лекции пойдут читать много людей, которые в этой работе будут зарабатывать деньги распространением знаний. Актуализируется такой критерий знания, как экспертная оценка, и историческая практика как критерии истины. Известно, что эксперты различают профессионала и демагога, а по сущностным вопросам они расходятся. Окончательным доказательством выступают факты, наиболее наглядный из которых будет доказан в ближайшее время - реализация термоядерной реакции, достигаемая температура процесса.
Год науки и технологий проводится в России в 2021 г., и во все эти тенденции нужно активно вписываться, иначе остатки культурологов окончательно коммерциализируют, предложат вести курсы-симуляторы типа управления проектной деятельностью или полифункциональной сущности искусства.
В России Научно-образовательное культурологическое общество было создано в -2006 г. для того, чтобы объединить ученых, исследующих проблемы культуры, специалистов в области культурологического образования, аспирантов и студентов-культурологов из всех регионов России. Президент НОКО С.А. Гончаров при его создании отмечал, что «сегодня чрезвычайно важно не только для развития гуманитарных наук, но и для развития образования, и для общественного сознания распространение целостной культуры, опыта духовной деятельности, культуры восприятия и понимания окружающего мира и человека в специфике его истории, этноса и вероисповедания. В нашей стране активно развивается культурология, у культурологов есть желание объединиться, многое наработано для того, чтобы совместная деятельность по сохранению культурного наследия и его изучению была наиболее плодотворной»1.
Интересно, что НОКО издавало журналы, проводило Российские культурологические конгрессы, но статуса общества было недостаточно для развития российской культурологии. И вот после долгих, почти двухлетних усилий в 2020 г. была завершена большая организационная работа по созданию Российского культурологического общества и получены официальные документы Министерства юстиции Российской Федерации о его регистрации. Сообщая об этом, руководство РКО выразило надежду, что «активная деятельность членов нового Российского культурологического общества сможет обеспечить широкое распространение в нашем обществе и государстве подлинных и глубоких культурологических знаний, а также позволит добиться законного признания культурологии, обладающей поистине неисчерпаемым эвристическим и прикладным потенциалом во всех сферах культуры. Мы с вами мечтали еще с конца 90-х годов создать именно Российское культурологическое общество, но в тех общественных условиях оказалось невозможным получить для нашего объединения общероссийский статус. Вследствие этого мы с вами организовали НОКО - Научно-образовательное культурологическое общество, которому удалось осуществить с 2006 по 2017 годы довольно много важных дел: познакомить между собой культурологов разных университетов, провести более со- рока различных конференций, семинаров, собраний, телемостов и других крупных мероприятий, которые консолидировали культурологические силы страны. Большую роль в публикации работ отечественных культурологов сыграл альманах «Мир культуры и культурология». Не менее важным и ощутимым было взаимодействие культурологов страны в подготовке кандидатов и докторов наук по нашей специальности. На этом новом этапе консолидации отечественных культурологических сил мы собираемся продолжить все лучшее, что было достигнуто ранее, и развивать Российское культурологическое общество, учитывая все риски и ресурсы настоящего времени».
Однако вызывает серьезные сомнения классификация приоритетных задач общества в свете тех задач, которые были поставлены нами выше. Что выделяет РКО? «К числу приоритетных задач, которые нужно решить с участием всего культурологического сообщества уже сейчас, мы относим:
-
· консолидацию российских культурологов и укрепление их профессиональной идентичности;
-
· актуализацию богатейшего интеллектуального достояния, накопленного к настоящему моменту отечественной культурологией;
-
· формирование системы разнообразной поддержки культурологов во всех регионах нашей страны, содействие изучению самобытных этнорегиональных культур России;
-
· формирование профессиональных стандартов культурологов с профилизаци-ей всего многообразия направлений их деятельности в различных сферах культуры (управления, проектирования, образования, просвещения, экспертизы и т.д.);
-
· разработку системы общественнопрофессиональной аккредитации образовательных программ по направлению 51.00.00 “Культурология”, а также активизацию работы нашего профессионального
сообщества в этой важной области;
-
· разработку системы мероприятий по позиционированию значимости культурологии как высоко эвристичной и эффективной практикоориентированной науки, а также продвижению ее достижений в государственных и общественных институциях;
-
· подготовку обоснования необходимости введения культурологии в классификаторы научных и общественных фондов России и ЕврАзЭС;
-
· налаживание связей и спектра сотрудничества с заинтересованными правительственными структурами, научно-исследовательскими, научно-образовательными, просветительскими и общественными организациями;
-
· регулярное систематическое проведение региональных, всероссийских и международных мероприятий по проблемам развития культурологии и актуализации ее практико-ориентированного потенциала;
-
· издание профессионального журнала культурологического сообщества с учетом современного мирового уровня требований к научной периодике для публикации передовых результатов исследовательской, методической и практической деятельности культурологов России;
-
· модерацию сайта Российского культурологического общества, информирующего о самых существенных и актуальных событиях в жизни Общества и его членов;
· создание Попечительского совета Российского культурологического общества с привлечением авторитетных представителей общественности, органов власти, финансовых структур, научной и художественной элиты нашей страны»2.
В результате 21 мая 2021 г. состоялась презентация РКО. Теперь посмотрим, что предлагал автор настоящей статьи. Эти предложения возникли в далекие 90-е годы, когда можно было только мечтать о культурологическом преобразовании всего образовательного, воспитательного и просве- щенческого проекта в стране. Мы и мечтали. Нас было мало, и нас не понимали ни философы, ни социологи. Только историки, подвергшиеся вивисекции - усекновению главы в ходе реформ, когда из историков партии как лучшей части народа и передового класса они превратились в аморфных историков некоей России. Тогда было непонятно, какова эта новая Россия, каков ее исторический выбор и каков ее глобальный проект? Только историки в союзе с культурологами способны сформулировать национальную идею страны и оформить теоретически русскую мечту. Именно это мы и обсуждали долгими зимними вечерами с Борисом Личманом, спорили. В результате он отправлял меня домой с неподражаемым юмором, рассказывая, что ночью по коридорам главного корпуса выпускают овчарок с военной кафедры и офицеры сторожат до утра имущество вуза. После таких рассказов мы отправлялись восвояси.
А как-то раз самых известных историков собрали и отправили на нескольких машинах в Каменск-Уральский для участия в заседании Академии военно-исторических наук, и мы все стали академиками с красными корочками удостоверений и дипломами. В начале 90-х я был избран в Объединенный ученый совет по гуманитарным наукам при президиуме УрО РАН и более двух десятков лет заседал в этом совете под руководством академика РАН В.В. Алексеева. Делал доклады, занимался экспертизой, участвовал в выборах и представлениях, что свидетельствует о том, что историки были мне ближе философов и социологов, и я был единственный культуролог в этом совете много лет.
Реформирование современного образования
Современный образовательный процесс нуждается в радикальной корректировке и реформировании. В этом мы были едины с Борисом Васильевичем. Более того, он признавал приоритет культурологов в реформи- ровании образовательного процесса. Он считал, что только культурологи могут найти ту точку опоры, которая сдвинет структурирование образовательного и воспитательного процесса в высшем образовании и стране. Он полагал, что это связано с глобализацией мирового интеллектуального процесса, реальным обобществлением производства и глобализацией реальной доми-нации капитала в третьем тысячелетии. В новом культурном пространстве образовательный ценз, само качество, содержание образования становятся принципиально иными, что требует подготовки специалиста, мыслящего концептуально, не испытывающего фобий по поводу глобальности или деглобализации происходящих процессов. Интеллект становится главным инструментом производственной деятельности специалиста, механизмом тонкого управления социокультурной динамикой в конкуренции с холодным искусственным интеллектом, активизированным и запрограммированным глобальными монополиями.
В связи с этим резко возрастают требования к участникам образовательного процесса, как к студентам, так и к преподавателям, которых все чаще переводят в разряд тьюторов или вовсе заменяют на информационные системы и сети. Все это ухудшает их положение и низводит до уровня ниже греческого раба-педагога, сохраняющего свободу собственного самосознания. Ужесточаются критерии профессионального отбора, возрастает роль имеющейся в социуме или отсутствующей в нем системы культурологической подготовки как базиса мировоззренческих оснований знаний и умений специалиста любого профиля.
Современная образовательная политика стран, сформированных из бывших республик СССР, реализуется на конкретной территории Евразийского континента, в рамках которого бок о бок проживают десятки и сотни братских, а ныне и враждебных народов и народностей, их элит и политических представительств. Представители этих этнических групп в РФ получают образо- вание в русском культурном поле, входящем в качестве станового хребта в единое евразийское мультикультуралистское пространство. В этом пространстве русский народ самой историей в различные периоды своего развития был принужден к исполнению роли, объединяющей разнородные этносы нации. Именно поэтому столь фундаментальное внимание в образовательном процессе должно быть уделено русской культуре как квинтэссенции мультикультурализма евразийского пространства.
Мы должны поставить вопрос об изменении взгляда на всю историю человечества и создании новой философии человечества. Для решения поставленных задач нам необходима образовательная реформа как соединение природных богатств евразийской Родины с ее колоссальным интеллектуальным потенциалом, старой индустриальной мощью, высоким культурным, заданным генетически потенциалом нации, направленным на новое индустриальное или постиндустриальное развитие. Сегодня современно, созвучно динамике третьего тысячелетия звучат слова Ф.М. Достоевского, устойчиво входящего многие годы в первую десятку самых читаемых и издаваемых авторов планеты, о русском народе как народе, несущем в себе Бога, - «богоносце». Поэтому проблема образования в плане научного мировоззрения, обогащенного диалектикоматериалистическим методом, есть проблема расширенного воспроизводства человечества как космического фактора, участвующего в активном преобразовании Земли и космоса.
Проблема реформы образования есть единственно возможный путь к спасению человечества, его защиты от глобальных катастроф как экологических, техногенных, космических, политических, так и социальных, и духовных. Образование как социальная технология - это и есть традиционный русский путь спасения народов Земли. Образование понимается нами как социальная практика «обработки человека человеком», в состав которого входит облагора- живание души (М.Т. Цицерон), формирование научного мировоззрения как фундамента научных знаний и умений специалиста в сфере государственно-правового регулирования человеческих отношений. Образование длится всю жизнь и является адаптационным фактором социализации личности как условие эмансипации общества. Таким образом, общекультурная задача формирования российского интеллектуала III тысячелетия в поле русской культурной традиции позволяет соединить в едином фокусе все актуальные проблемы страны: «русскую идею», национальную доктрину, концепцию образования и решить проблему мирного сосуществования народов планеты. Обоснование фундирующей роли культурологии в социокультурной динамике нашей страны не раз освещено в публикациях автора [1, с. 204-210].
Роль и место культурологии в социокультурной динамике России
Разработка концепции неоиндустриаль-ной системы, в отличие от западной концепции постиндустриализма, нацелена на теоретический и практический отрыв как от нынешней разрушенной производительной системы, так и от оставшейся в прошлом советской экономико-политической модели потребного социума будущего. Нашему народу известна позиция либералов-западников, полагающих, что только активная монетаристская политика в интересах богатого меньшинства и связанные с ней финансовые манипуляции могут спасти Россию. Либералы тем самым в антидемократическом духе оправдывают колоссальные потери промышленности, народонаселения, образовательных учреждений и научных институтов страны. Именно такое понимание называется в духе решений ООН «геноцидом».
Вторая позиция связана с работой так называемых «крепких хозяйственников», направленных на разработку новых программ. Это нелиберальная и нереформист- ская установка. Однако она не отвечает на вопрос о том, как следует строить всю систему жизнеобеспечения постсоветской России. В сущности, данная позиция стремится вернуться к старой советской индустриальной системе, поскольку надеется на взятие в руки реальной политической власти для претворения в жизнь выработанных идей. При этом забывается, что само население России нуждается в целостном и едином понимании миссии страны в мире, в создании новой системы отношений между научной, образовательной и индустриальной системами страны, выполняющей функцию континента Евразии.
Третья позиция носит технологический характер. Она исходит из того, что современный промышленный комплекс страны возник исторически и тесно связан с двумя другими системами - образовательной и научной. Существует единый промышленно-образовательно-научно-исследовательский комплекс, компоненты которого не могут быть в ходе «открытого заговора» произвольно и по отдельности реформированы в качестве очередного «апгрейда» в духе информационного постиндустриального общества, нацеленного на финансово-информационное развитие. Такова позиция нынешнего политического руководства России, в нулевые годы провозгласившего ошибочный курс на модернизацию с опорой на средний класс информационного общества. Этот курс сегодня, через 20 лет неудачных экономических реформ и разрушительных социальных экспериментов, получает название “стратегия вхождения в западную цивилизацию”, а людей, его провозглашающих, называют презрительно «вхожденцы».
Четвертая позиция связана с процессом инновационного развития науки, образования и промышленности. Постиндустриали-стское понимание современности полагает, что «информационное общество» целиком строится на высокой технологии и компьютерах. Действительной же задачей для настоящих реформаторов оказывается соединение информационных технологий с индустриальным производством и машинным парком в целях образования передовой промышленной системы городского типа. Новый тип промышленной организации строится в зависимости от передовых научных технологий, структуры подготовки и образования рабочей силы.
Возможны три типа проектов развития российской социальности в контексте динамики единого комплекса.
Первый тип проектов основан на традиционных отраслях промышленности и может быть назван консервативным вектором, замораживающим отсталость.
Второй тип направлен на создание новых форм промышленности и таких ее отраслей, которые ныне находятся в эмбриональном состоянии в лабораториях по оптоэлектронике, лазерной технике и выращиванию кристаллов, созданию умных роботов. Основная опасность этого направления развития - трансгуманизм и замена человека машинами. Эти машины должны быть «вечными машинами», отменяющими «живой труд» людей, включая ремонтников и разработчиков-проектировщиков.
Третий тип ориентирован на создание метапромышленности как основы метаэкономики, связанной с циклами инновационной деятельности в рамках корпоративных университетов и технопарков. Все это позволит обнаружить реперные и бифуркационные точки в советском индустриальном комплексе в качестве опоры развития технологических инноваций ХХ в. Источники развития извлекаются при таком развитии событий из сферы человеческого потенциала как важнейшего отечественного интеллектуального ресурса - мышления и образования. При этом предполагается использовать единственный критерий развития -«физическую экономику» (термин Л. Ларуша), экономику производства потребительских товаров и услуг. Какое же знание необходимо в такой интеллектуальной ситуации? Прежде всего это знание в области предвидения будущего развития, наука о будущем.
Важнейшим направлением такого предвидения выступает предположение об исключительно северно-уральском и арктическом направлении российского мультициви-лизационного развития. После распада СССР несомненна характеристика России как преимущественно северной цивилизации, а потому невозможно представить будущее страны без принципиально новой программы возрождения и освоения Севера, в том числе дальнего арктического Севера - Заполярья. Очевидно, что Россия не должна ни отворачиваться от Запада, ни поворачиваться лицом к Востоку, ее курс в ХХI в. - Норд-Ост. Российское Заполярье прирастать будет технополисами, технопе-диаполисами и, возможно, техноандрагопо-лисами. Идеи В.И. Вернадского о создании новых типов энергетического обмена и новых материалов в своем жизненном воплощении позволят создать достаточную для интенсивного развития плотность населения в доселе необжитых и невыносимых для жизни регионах.
Сейчас народы мира ждут спасения от катастрофы постиндустриального общества. Они нуждаются в избавлении от свободного рынка, информационной эры, от свободной торговли. Здесь необходимо применить силу и политическую волю вернуться средствами стратегического планирования к развитию сельского хозяйства и промышленности, улучшению качества образования и повышению жизненного уровня. Локомотивом такого глобального неоиндустриального развития в общее и безопасное будущее объединенного человечества может и должна стать Россия. Такое будущее может стать безопасным для настоящего, в любом ином случае нас ждет «фу-турошок» - столкновение с будущим в образе постиндустриализма, возврат в прошлое кастового феодального общества социального неравенства, насилия и войн.
В этих условиях остро встает вопрос о формировании средствами культурологического знания информационной культуры студенческой молодежи в соответствии с вектором движения от постиндустриальной контркультурной матрицы к неоиндустри-альной цивилизационной парадигме отечественного культурного кода. Культурологическая наука реализует в таком понимании программы достижения единства образования, воспитания и гражданской жизненной позиции молодых специалистов.
Новый курс в культурологической подготовке специалистов для специалистов ХХI века
Преподавание культурологии гарантирует подготовку кадров, обеспечивающих переход от индустриализма и постиндустриализма к неоиндустриальному состоянию. Культурология выстраивает основные параметры информационной культуры современной российской студенческой молодежи посредством преодоления постиндустриальной контркультурной матрицы. В результате происходит обнаружение разрывов с народной и исторической традицией русского народа, выявляется существование новообразований последних десятилетий (стереотипов, медиавирусов, коррекция внедренных в сознание мифов, рационализация мышления) - и подготовка к непрерывному образованию как потребности подлинной взрослости личности и общества, соответствующей неоинду-стриальной цивилизационной парадигме будущего. Такая культурологическая работа полностью восстанавливает отечественный культурный код, основанный на негласном общественном договоре, в рамках которого право строится на правде, а этика основывается на коллективной совести и стыде.
Информационная культура нового типа как условие образования для будущего нео-индустриального общества строится на принципе тождества мышления и бытия, единстве информации и знания в рамках культурного ценностно-рационального коллективного действия. Информационная культура обязательна для специалистов высочайшей квалификации. Информационная культура понимается как единство знания, информации и убеждения. В условиях пере- хода от манипулируемой информации в информационном обществе к «обществу знаний» (доклад ЮНЕСКО), а в русской цивилизации к неоиндустриализму суверенной демократии становится необходимым формирование национальной информационной культуры и государственная приемка специалистов в соответствии с приоритетами национальных проектов (госэкзамен по гуманитарным дисциплинам) в соответствии с приоритетами национальных проектов. Необходимо утвердить выделение финансов, учебных часов и ставок для реализации архиважного проекта единства образования, научной деятельности, воспитания и гражданской жизненной позиции молодых специалистов. Проверка единства будет производиться в соответствии с требованиями менеджмента качества и в русле «Проекта политики в области качества» в процессе госприемки единства знаний, убеждений и действий постсоветского русского патриотически ориентированного и толерантного специалиста.
В ходе преподавания полномасштабного курса культурологии (2 семестра) будет эмпирически и теоретически осуществлен переход от мутации культурной парадигмы к модернизации цивилизационного кода России посредством преодоления последствий манипуляции безответственных фейк-СМИ с общественным сознанием, выявлены манипуляции словами и образами, описаны размывание и подмена понятий в учебных курсах и обыденном сознании, обнаружены подмена имени и предмета, зафиксированы манипуляции с числом и мерой как основные формы разрушения классического логического мышления.
В результате будут даны практические рекомендации и предложены меры коррекции по устранению некогерентности (несоизмеримости частей реальности) сознания. Будут реализованы варианты преодоления эмоционального воздействия как предпосылки манипуляции, а следовательно, и пути восстановления исторической памяти, оживления символов и укрепления ядра нравственности формирующегося нового гражданского общества России. Излечение от прямой лжи, умолчания, сокрытия целей и средств, ложной мудрости позволит извлечь и деконструировать стереотипы антигосударственности, ролевые стереотипы социальной структуры, опасные антитехнологичес-кие и экологические мифы, направленные против души и менталитета народа.
Полученные знания будут переданы студентам выпускных курсов, а усвоение материала проверено в ходе государственных экзаменационных испытаний по информационной культуре. Активная трансформирующая роль культурологии позволит предложить практические изменения в системе высшего профессионального образования, обосновать необходимость культурологической реформы образования и перейти на этой основе от победившей в ходе образовательных реформ на Западе постиндустриальной модели образования как обучения и тренинга атомизирован-ной личности в условиях протекающей иррационалистической наркоконтрсексреволюции к спасительной и необходимой России нео-индустриальной модели образования как саморазвития личности в условиях свободного социалистического общества третьей глобальной исторической модели. В качестве пилотного эксперимента предполагается введение в отдельных ведущих университетах единого выпускного государственного экзамена по информационной культуре социума. Речь идет об экзамене по гуманитарным дисциплинам, по истории и теории культуры, возможны варианты названия, но с тремя вопросами: по философии (истории и философии науки), социологии и политологии, культурологии и праву. Опыт может быть предложен для распространения в системе вузов России [2, с. 52-57].
Пути и этапы реализации проекта по модернизации культурологической подготовки
В управлении образовательным процессом и самом образовательном процессе выделяются две составляющие:
специальная - индустриальная (или профессиональная) составляющая, культурологическая (общекультурная) составляющая, формирующая мировоззренческие основания знаний, умений, навыков специалиста любого профиля, где знания об истории и теории культуры человечества должны даваться целостно, концептуально, без узкого невзаимосвязанного друг с другом расчленения, т.е. обеспечивая подготовку глобально мыслящего, энциклопедически образованного человека, умеющего восходить от абстрактного к конкретному, чувствующего свою ответственность за судьбу планеты, страны, народа, личности.
В числе первоочередных мероприятий предлагается:
-
1. Создать единый центр, координирующий, управляющий процессом культурологической подготовки на протяжении всего процесса подготовки специалиста, - Культурологический межкафедральный комплекс (департамент). Исходя из требований методологического обеспечения процесса, обязанности руководителя Комплекса (департамента) возложить на заведующего кафедрой культурологии - назначить распоряжением ректора по решению Ученого совета УрФУ на правах проректора или руководителя департамента.
-
2. Ввести выпускной единый итоговый
-
3. Создать Общественный совет вуза по общекультурной составляющей образования из заведующих выпускающими кафедрами под руководством заведующего кафедрой культурологии.
-
4. Разработать дифференцированные учебные планы общекультурной подготовки с учетом специфики специальностей. К данной работе, на наш взгляд, целесообразно привлечь соответствующие учебно-методические комиссии вуза.
-
5. Обеспечить целостность, интегративность учебно-воспитательного процесса общекультурной подготовки - создать структуру при Культурологическом межкафедральном комплексе (департаменте), активно занимающуюся общекультурной подготовкой во внеучебное, внеаудиторное время.
государственный экзамен по истории и теории культуры - «основам мировоззрения» для государственной аттестации результатов общекультурной подготовки специалистов как квалификационное выпускное испытание.
Средством для реализации настоящего проекта культурологической реформы высшего образования в первую очередь выступают не усилия чиновников и менеджеров от образования, а профессорские собрания. Именно они становятся субъектами процессов изменения в образовании [3, с. 178-181].
Список литературы Культурология в России и на просторах Евразии: второе дыхание и его исторический импульс
- Некрасов С.Н. Миссия гуманитарного образования и гуманитарных наук в переходе к ноономике: русский прорыв в будущее // Аналитика на службе Отечеству. Вып. 2: Сборник статей по итогам научно-практической конференции РАШ 23 мая 2018 года в РАН-ХИГС при Президенте РФ / Под ред. д.ф.н., профессора Ю.В. Курносова. Серия «Русская аналитическая школа». М.: ООО «РИТМ», 2019. 256 с.
- Некрасов С.Н. Магистр марксизма в университетах КНР и магистр МBA в американских университетах: столкновение цивилизаций в образовании // Международное партнерство в образовании и науке: глобальные вызовы современности: Сб. докл. междунар. научного конгресса (10-15 сентября 2019 года). В 3 частях. Ч. 2. Усть-Каменогорск, 2019. 233 c.
- Некрасов С.Н. Почему в образовательных учреждениях Высшей школы России обязательно должны быть профессорские собрания, или Не сметь командовать профессорами! // Антикризисные механизмы в условиях экономических преобразований: новый общественный контракт: Материалы международной научно-практической конференции. Екатеринбург: УрГАУ, 2018. С. 178-181.