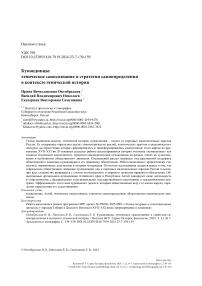Кумандинцы: этническое самосознание и стратегии самоопределения в контексте этнической истории
Автор: Октябрьская И.В., Николаев В.В., Самушкина Е.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Евразии
Статья в выпуске: 7 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу этнической истории кумандинцев - одного из коренных малочисленных народов России. Ее содержание определяет анализ этноисторических реалий, политических практик и академического дискурса, на пересечении которых формировалось и трансформировалось самосознание этого народа на протяжении XVII-XXI вв. В основных разделах работы рассматриваются история этнонима «кумандинцы» как символа этнической идентичности, стратегии самоопределения кумандинцев на разных этапах их существования и особенности общественного движения. Специальный раздел посвящен государственной поддержке общественного движения кумандинцев и его правовому обеспечению. Работа выполнена с привлечением статистики, нормативных документов и полевых материалов. По итогам исследования делается вывод о том, что современное общественное движение кумандинцев, как и коренных малочисленных народов России в целом, при всех сложностях развивается с учетом отечественного и мирового политико-правового обеспечения. Общественные организации кумандинцев Алтайского края и Республики Алтай планируют свою деятельность в сотрудничестве с федеральными и региональными государственными структурами и академическими центрами. Эффективность этого многоуровневого диалога, который общественники ведут от имени народа, определяет перспективы его существования.
Кумандинцы, алтай, этническое самосознание, стратегии самоопределения, общественное национальное движение
Короткий адрес: https://sciup.org/147244531
IDR: 147244531 | УДК: 394 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-7-139-159
Текст научной статьи Кумандинцы: этническое самосознание и стратегии самоопределения в контексте этнической истории
Кумандинцы – один из коренных народов России. Общая численность кумандинцев по данным Всероссийской переписи населения 2002 г. составляла 3 114 чел., в 2010 г. – 2 892 чел.; в 2020 г. – 2 408 чел., в том числе 48,4 % горожан. Кумандинцы до настоящего времени расселены в границах традиционного обитания – в верхнем и среднем течении р. Бии, на территории Красногорского и Солтонского районов Алтайского края, Турочакско-го района Республики Алтай и Таштагольского района Кемеровской области. Местами их компактного проживания являются: города Бийск и Горно-Алтайск, села Красногорское и Солтон Алтайского края. В современной культуре кумандинцев представлены различные модели природопользования и жизнедеятельности: от урбанизированных до традиционных аграрных. Кумандинский язык, по мнению одних исследователей, является диалектом алтайского языка уйгуро-огузской группы тюркских языков, другими рассматривается как самостоятельный [Баскаков, 1960, с. 184–185, Уртегешев, 2005, с. 105]. В 1990–2000-е гг. куман-динцы получили статус коренного малочисленного народа Севера, Сибири и Дальнего
Востока. Их интересы на региональном, российском и международном уровнях представляет ряд локальных общин и общественных организаций.
История этого народа на протяжении двух последних столетий остается предметом широкого научного и общественного дискурса. С начала XIX в., в период активного освоения Алтая, они находились в фокусе интересов российского государства и науки. О кумандинцах как о самостоятельном народе по результатам многолетних исследований на Алтае в 1884 г. впервые написал один из основоположников российской тюркологии В. В. Радлов в работе “Aus Sibirien” («Из Сибири») [Радлов, 1989, с. 92–93]. По его мнению, кумандинцы входили в общность «татар Северного Алтая» вместе с челканцами, черневыми татарами (тубалара-ми) и шорцами. В работах миссионера и выдающегося исследователя В. И. Вербицкого 1860–1890-х гг. эти народы под именем «черневые татары» были отнесены к «северным алтайцам», в этнокультурном и лингвистическом отношении противопоставлены «южным алтайцам» [Вербицкий, 1993, с. 21]. Ориентированный на этническую стратификацию, этот концепт осваивался российской наукой и властью на рубеже XIX–ХХ вв.
В ходе проведения Первой Всероссийской переписи 1897 г. численность населения Верх-не-Кумандинской и Нижне-Кумандинской волостей, к которым были приписаны кумандин-цы, была определена в 4 509 чел. На уровне научно-практических исследований с кумандин-цами работали Н. Б. Шерр [1903] и Н. Богатырев [1908]. О результатах статистического обследования кумандинских поселений писал С. П. Швецов [Горный Алтай…, 1903].
В 1930–1940-е гг. кумандинские материалы публиковала Н. П. Дыренкова [1936; 1949]. В 1926 г. кумандинцы были включены в официальный список Всесоюзной переписи: их численность составила 6 335 чел. В последующие десятилетия они учитывались в составе алтайцев. В политической и академической сферах к середине ХХ в. возобладал интеграционный подход, рассматривающий северных и южных алтайцев как единую общность. Но при этом с 1950-х гг. издавались работы первого этнографа-кумандинца П. И. Каралькина, посвященные его родному народу [Каралькин, 1953]. В 1968 г. последовательный сторонник интеграции, один из лидеров советской этнографии Л. П. Потапов работал над проблемой этногенеза кумандинцев [Потапов, 1968]. Важной вехой в изучении самобытной культуры этого народа стало издание монографии Ф. А. Сатлаева «Кумандинцы (Историко-этнографический очерк XIX – первой четверти XX в.)» [1974]. В 1990–2000-е гг. цикл дискуссионных статей о ку-мандинцах был опубликован В. Д. Славниным [1990; 2005].
С 1990-х гг. шла кропотливая работа по составлению словарей, методических пособий и разговорников кумандинского языка. Издавались фольклорные материалы, в том числе записи выдающегося знатока фольклора Е. И. Тукмачевой, которые она вела с 1950-х гг. [Учитесь говорить…, 1990; КРС, 1995; Тукмачева, 2011; 2015].
С 1993 г. на официальном уровне о кумандинцах заговорили как о коренном малочисленном народе. В 2000 г. они были включены в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации. В этом статусе вошли во Всероссийскую перепись 2002 г. Процесс возрождения рубежа XX–ХХI вв. привлек внимание целого ряда авторов (см.: [Октябрьская и др., 2005; Карасева, 2010; Чемчиева, 2012; 2016; Назаров, 2013; Аткунова, 2017] и др.). В фундаментальной академической серии «Народы и культуры» появился том «Тюркские народы Сибири», где кумандинцам был посвящен самостоятельный раздел [Добжанская и др., 2006].
Изучение кумандинцев продолжилось на базе АлтГУ и ИАЭТ СО РАН [Назаров, 2018; Николаев, 2018; 2020; Николаев, Самушкина, 2021; Николаев, Назаров, 2021; Николаев, Октябрьская, 2021; Октябрьская и др., 2021]. Очерки по истории и культуре кумандинцев вошли в издание МАЭ РАН «Коренные малочисленные народы России: этнокультурные проекции» [Головнёв и др., 2022] и «Интерактивный атлас коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: языки и культуры», подготовленный на базе ИЭА РАН.
Параллельно происходило осмысление традиций кумандинского народа и их современного состояния местной интеллигенцией [Данилов, 2000; Кастараков, 2010; Тукмачев-Собо- леков, 2001; Попов, 2023]. В последние годы большую работу по собиранию и тиражированию сведений о собственной традиционной культуре проделали лидеры кумандинских общин городов Барнаула, Бийска, Солтонского и Красногорского районов Алтайского края. Итогом освоения историко-культурного наследия стала аутентичная стратегия позиционирования этничности, отвечающая вызовам современности.
Попыткой проследить динамику этничности кумандинцев в контексте их истории стал данный очерк. Его содержание определил анализ этноисторических реалий, политических практик и академического дискурса на пересечении которых формировалось самосознание кумандинцев. Цель данной работы заключается в том, чтобы показать основные тенденции и результаты этого процесса в динамике на протяжении XX в.; оценить стратегии самоопределения и содержание этнокультурных, этносоциальных проектов, обозначавшие перспективы кумандинского сообщества в XXI в.
Этническая история кумандинцев: основные тенденции развития в ходе административно-территориальных преобразований XIХ–XX вв.
Как полагают исследователи, формирование кумандинского народа происходило на протяжении нескольких столетий в результате сложного взаимодействия тюркских, самодийских и енисейских сообществ в предгорных районах Алтая. Документирование истории народонаселения региона началось на рубеже XV–XVII вв. с втягиванием его населения в границы и административно-фискальную систему Московского царства. К 1628 г. относится первое достоверное упоминание Кумандинской волости. Оно содержится в документе, повествующем о превратностях обложения ясаком местного населения [Славнин, Шерстова, 2008, с. 6]. На протяжении последующих десятилетий Московское / Российское государство пыталось закрепиться в пределах Алтая, но ему противостояла мощь Джунгарского ханства, образовавшегося в 1635–1637 гг. и подчинившего себе большую часть Центральной Азии.
В результате столкновения интересов России и Джунгарии на Алтае сложилась ситуация двойного подданства и двоеданничества. В 1709 г. у слияния Бии и Катуни была построена Бикатунская крепость, через год сожженная джунгарами. В 1718 г. ее восстановили, перенеся выше по течению Бии и превратив в русский форпост в предгорьях Алтая. Со временем Бийская крепость стала уездным городом Бийском.
Стремление сохранять мирные отношения с Джунгарией, усиливая свое присутствие в регионе, определяло стратегии Российского государства по отношению к коренному населению XVII–XVIII вв. К этому периоду исследователи относят появление Верхне-Куман-динской и Нижне-Кумандинской волостей. Согласно архивным поискам Л. П. Потапова, их первые упоминания относятся к 1640–1653 гг. В «Чертежной книге» 1701 г. тобольского картографа и летописца С. У. Ремезова фигурируют Нижняя Куманда и Верхняя Куманда по Бие до впадения в нее Лебеди [Потапов, 1969, с. 108; Славнин, Шерстова, 2008, с. 12–15]. Полагают, что они закрепились в составе Российского государства после падения Джунгарского ханства и добровольного вхождения Алтая в состав России в 1756 г.
По мнению Л. П. Потапова, возникшее в ходе политических трансформаций административное деление кумандинцев на Нижне-Кумандинскую и Верхне-Кумандинскую волости отчасти заменило их деление по родам. Известные в прошлом родовые структуры (в том числе иноэтничного происхождения) – со / солу, тон-кубанды, алтына-куманды, оре-ку-манды, тастар, чабат, керзал, алтон, ере – постепенно утратили функции регулирования социальных отношений, в том числе экзогамии, которые перешли к инородческим волостям [Радлов, 1989, с. 96–97; Потапов, 1969, с. 57–61].
После 1804 г., когда была образована Томская губерния и выделился Бийский округ, к нему был причислен ряд волостей, в том числе Верхне- и Нижне-Кумандинская. Известно, что в том же 1804 г. Верхне-Кумандинская волость насчитывала 137, а Нижне-Кумандинская – 448 ревизских душ [Славнин, Шерстова, 2008, с. 17]. Согласно Уставу об управлении ино- родцев 1822 г., эти волости были переименованы в инородные управы, а их обитатели отнесены в основном к разряду кочевых инородцев. Это было сделано с учетом «непостоянства их жительства, степени гражданского образования, простоты нравов, особых обычаев, образа пропитания, трудности взаимных сообщений» [Шерстова, 1999, с. 170].
В 1824 г., после введения Устава, в Нижне-Кумандинской управе насчитывалось 444 кочующих и 42 оседлых инородца. К Верхне-Кумандинской было причислено 133 кочевых инородца, а также оседлые инородцы улуса Кокшинского – выходцы из Телеутской инородной управы 2-й половины Кузнецкого округа. Оседлые инородцы проживали и в других селениях [Славнин, Шерстова, 2008, с. 19–21].
Кумандинцы Нижне- и Верхне-Кумандинских инородных управ находились в плотном иноэтничном окружении. В местах их расселения происходили активные процессы аккультурации и ассимиляции.
В ходе проведения Первой Всероссийской переписи 1897 г. было установлено, что к Верхне-Кумандинской волости приписано 1 102 кумандинцев, и 3 407 – к Нижне-Куман-динской. В 1905 г. здесь началась землеустроительная реформа, сопровождавшаяся переводом инородцев в оседлый разряд с введением у них волостного правления по типу крестьянского. К 1911 г. кумандинцы жили в 29 населенных пунктах (871 дворов): в Верхне-Куман-динской волости насчитывалось 15 населенных пунктов, 245 дворов; к ней было приписано 653 мужские души и 672 женские. В Нижне-Кумандинской волости проживали по 2 500 душ обоего пола [Славнин, Шерстова, 2008, с. 26].
После административной и земельной реформ 1905–1906 гг. часть коренных жителей, ранее составлявших население Кумандинских волостей, вошла в число русских сибиряков. Тем не менее, перепись 1926 г. выявила 6 335 кумандинцев, из которых 922 чел. проживало в Уймонском аймаке Ойротской автономной области (современный Усть-Коксинский район Республики Алтай). На протяжении ХХ в. они постепенно растворились среди местных жителей (Всесоюзная перепись…, 1928, с. 256; ПМА, 2017, с. Усть-Кокса).
Большая часть кумандинцев в начале XX в. компактно проживала в Верхне- и Нижне-Кумандинской волостях, в 28 аилах: Алешкин, Богучак, Ебике, Егона, Елей, Елтош, Иртыш-кин, Калташ, Камышак, Каракан, Карасев, Кичеков, Кубия, Курлаган, Курлек, Нарлык, Озерки, Пешпер, Пильно, Подчайный, Сарыков, Сайлапка, Сузоп, Ташта, Тебенда, Теберек, Тос-ток и Ужлеп [Назаров, 2013, с. 109].
В результате землеустроительных работ начала XX в. кумандинцы потеряли часть земель, переданных переселенческому управлению. В 1911 г. только в Верхне-Кумандинской волости были выделены 4 переселенческих участка. Число крестьянских (русских) дворов в инородческих селениях неуклонно росло. В результате в 1914–1915 гг. Томское губернское правление, рассмотрев прошение волостного правления Верхне-Кумандинской волости, приняло решение о переименовании ее в Макарьевскую. Это стало показателем качественных изменений состава (этнического самосознания) населения региона [Славнин, Шерстова, 2008, с. 31].
Аналогичные процессы были характерны и для Нижне-Кумандинской волости. В ходе землеустроительных работ и последовавшей затем административной реформы в 1912 г. в ее окрестностях было образовано более десятка волостей, в том числе Нижне-Кумандинская (меньше прежней), Сузопская, Тайнинская и Урунская волости, между которыми были распределены все кумандинские домохозяйства. Также кумандинцы проживали в соседних Ле-бедской (Алешкино, Санькин), Озеро-Куреевской (Алешкин, Сапожкин) и Троицкой (Чапша) волостях. Все волости, за исключением Урунской (оказавшейся в пределах Кузнецкого уезда), вошли в состав Бийского уезда Томской губернии.
Последующие административно-территориальные преобразования определили направление этнических процессов на Алтае. В декабре 1918 г. решением Сибирского Временного правительство из южной части Бийского уезда был образован Каракорумский уезд; 13 апреля 1920 г. его переименовали в Горно-Алтайский уезд в составе Алтайской губернии, существо- вавшей в 1918–1925 гг. В июне 1922 г. была образована Ойротская автономная область, а Горно-Алтайский уезд упразднен.
В состав новой автономии кроме территорий Горного Алтая были включены Лебедская, Верх-Бийская, Успенская и Ыныргинская волости. В результате территория расселения ку-мандинцев оказалась разделенной: часть кумандинцев осталась в пределах Ойротской автономной области (позже Горно-Алтайской автономной области), а нижние кумандинцы – в составе Бийского уезда Алтайской губернии (позднее Сибирский край), с 1937 г. – в составе Алтайского края. Оказавшись по разные стороны административных границ, на протяжении ХХ в. они ориентировались на независимые треки этносоциального развития.
Этническое имя и самосознание в контексте истории
В процессе истории XIX–XX вв. идентичность кумандинцев, показателем которой являлось их этническое имя, находилась в процессе трансформации. Эксперты считают, что к Новому времени у различных локальных групп тюрков предгорной зоны Алтая не было единого самоназвания. Они были известны по именам своих родов, одним из многочисленных среди которых был род куманды. Некоторые исследователи считают, он был образован от гидронима Куманда / Лебедь (приток Бии). Соответственно, этноним «куманды» мог означать «лебединский человек». По мнению Л. П. Потапова, термин «куман» соответствовал имени половцев и кипчаков. Его актуализация произошла в период создания ясашных волостей, которые, согласно административным практикам Российского государства, соотносились с названиями местных родов – сеоков. В свою очередь, сеоки алтына-куманды (нижние кумандинцы) и оре-куманды (верхние кумандинцы) сложились, как принято считать, в ходе образования Верхне-Кумандинской и Нижне-Кумандинской инородных управ. Административно-территориальные преобразования на Алтае XVIII–XIX вв. оказали большое влияние на специфику этнических процессов региона. Совмещение родовых и волостных названий было описано Л. П. Потаповым [1969, с. 58].
К концу ХIХ в. этноним «куманды» приобрел консолидирующее значение, хотя наряду с ним по-прежнему широко использовались родовые имена и квазиэтнонимы. В карточках Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г. отразились самоопределения, озвученные переписчикам главами кумандинских домохозяйств. Среди них были имена: «верхний и нижний кумандинец», «кумандинец», «инородец», «татарин». Наиболее распространенными в списке переписи были таксоны «кумандинец» и «татарин». К кумандинцам отнесли себя главы 27,4 % «коренных» домохозяйств Нижне-Кумандинской волости, 33,3 % – Озеро-Куреевской и 45,1 % – Сузопской [Николаев, 2018, с. 35–36, 83–93].
Известно, что имя «татарин» / тадар-кижи / тадарлар появилось среди монгольских племен, кочевавших в VIII–IX вв. в зоне Байкала. Со ссылками на тунгусские и китайский языки, исследователи предполагают, что оно могло означать «стрелок из лука» [Штернберг, 1902, с. 347–350]. Именем «татары» китайцы, вероятно, обозначали кочевников-варваров, которые создавали угрозу границам. После завоеваний Чингисхана народы, им покоренные, приняли общее название «татары». С XIII в. этот этноним стал известен в Европе. Уже в русских землях он приобрел собирательное значение как обозначение тюркских народов, которые постепенно включались в состав формировавшегося Российского государства. На протяжении XVII–XIX вв. имя «татары» было перенесено на большую часть изначально «иноземного», а затем «инородческого» населения Сибири, в том числе на тюрков Алтая.
Этноним «татары» использовался параллельно с термином «инородцы»: долгое время эта категория обозначала статус коренного населения Сибири и других вновь присоединенных территорий. После принятия Устава об управлении инородцев 1822 г. она фактически превратилась в сословное определение. Принадлежность к инородцам предполагала ряд преференций. Народы Алтая относились, по большей части, к кочевым инородцам; имели во владении территории, на которых могли заниматься скотоводством, земледелием и про- мыслами. На их землях запрещалось самовольно селиться русским; они лишь могли брать их в оброк по договоренности. Во взаимоотношениях между собой кочевые инородцы руководствовались собственными обычаями, они участвовали во всех губернских повинностях и были обязаны содержать за свой счет органы самоуправления. К началу ХХ в. из внешнего определения категория «инородец» превратилась для них в самоопределение, так как прежде всего подчеркивала их обособленность и ориентированность на патерналистские ценности во взаимоотношениях с государством.
К 1920-м гг. категория «инородцы» была исключена из активного пользования; имя «татары» приобрело этноспецифическую направленность. В ходе подготовки Всесоюзной переписи населения 1926 г. для народов Северного Алтая были введены наименования «куман-динцы», «ку-киши», «лебединцы» (Программы…, 1927, с. 4). Эти этнонимы охватывали как собственно кумандинцев, так и челканцев.
В дальнейшем кумандинцы были официально включены в состав алтайской социалистической народности. При подготовке переписи 1937 г. в составе алтайцев (ойротов) выделялись: «кумандинцы» и «кумандж-кижи» (Словарь…, 1937, с. 5). В дальнейшем в Словаре национальностей СССР, который использовался для подготовки переписей, остались лишь «кумандинцы». Они, как и другие народы Северного Алтая, на прикладном и концептуальном уровнях были отнесены к числу этнографических групп алтайцев, являвшихся титульной группой Горно-Алтайской автономной области, в 1991 г. преобразованной в ГорноАлтайскую АССР, в 1992 г. – в Республику Алтай.
Административно-территориальное обустройство значительной части кумандинцев в пределах Алтайского края обусловило сохранение этнонима на местном уровне [Николаев, 2012, с. 90–91]. В последние десятилетия их история была связана с существованием национальных сельских советов – Калташинского, впоследствии объединенного с Красногорским, и Шатобальского, в 2010 г. объединенного с Солтонским сельсоветом.
В 1993 г. кумандинцы, а в 2000 г. челканцы и тубалары получили статус коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; в период подготовки к первой Всероссийской переписи населения 2002 г. были включены в алфавитный перечень народов страны. Набор этнонимов для переписи был расширен – их предполагали указывать точно со слов опрашиваемых. В связи с возможной актуализацией самосознания малых сообществ на Алтае возникли опасения по поводу уменьшения численности титульного алтайского этноса, что оценивалось сквозь призму риска утраты республиканского статуса. Для предотвращения подобного сценария была проведена кампания в пользу алтайского единства. В результате к алтайцам в Республике Алтай отнесли себя 62 192 чел., к коренным малочисленным народам – 5 662 чел., из них к кумандинцам – 931 чел.
В целом по России в 2002 г. к кумандинцам отнесли себя 3 114 чел., в том числе в Алтайском крае – 1 663 чел.; подавляющее большинство назвали себя «кумандинцами» (3 072 чел.), а также «кубанды» (3 чел.), «куманды» (25 чел.), «орё куманды» (6 чел.), «тадар-кижи» (6 чел.), «тюбере куманды» (3 чел.) (Перечень…, 2002). Актуализация исторических этнонимов и родового самоопределения обозначила многомерный характер идентификации при высоком уровне консолидации народа и едином самосознании, выраженном в самоназвании «кумандинцы».
В ходе переписи 2010 г. кумандинцев в Республике Алтай учитывали, как самостоятельный народ; челканцев, тубаларов, теленгитов – и как малочисленные народы, и в составе алтайцев. В региональной прессе обсуждался вопрос о двойственной этнической идентичности. В результате к коренным малочисленным народам отнесли себя 7 714 чел. (11,0 % от всего числа алтайского населения). Но, по мнению экспертов, многие представители этих сообществ продолжали считать себя частью алтайцев [Чемчиева, 2017, с. 143–149].
При этом процесс самоопределения для представителей коренных малочисленных народов с 2000-х гг. был связан с правовой процедурой подтверждения их статуса, гарантирующего социальные и этнические преференции. Это актуализировало этничность, но не остано- вило процесс сокращения численности, который все-таки был связан с изменением идентичности [Октябрьская и др., 2021].
Общая численность кумандинцев, по переписи 2010 г., составила 2,9 тыс. чел., в том числе в Алтайском крае – 1,4 тыс., в Республике Алтай – 1,1 тыс. чел., в Кемеровской обл. – 0,2 тыс. чел. Социологический опрос, проведенный по итогам переписи среди кумандинцев Бийска (530 чел.) в 2016 г., показал определенность и целостность самосознания сообщества. По мнению респондентов, кумандинский народ объединяли обычаи и традиции (14,7 %), историческое прошлое (14,2 %), язык, родная земля и природа (по 12,7 %), а также культура (10,7 %) (ПМА, 2016, г. Бийск).
Как следовало из опросов, историческая память имела для кумандинцев очень большое значение. Связь с «материнской» этничностью сохраняли даже потомки смешанных браков. Показательна в этом плане работа краеведа И. В. Попова «К истокам рода Софроновых и основанию села Маймы» 2023 г. В ней автор проследил историю семьи Поповых – Софроновых – Чендековых с XVIII в. [Попов, 2023, с. 11]. В интервью, опираясь на семейные хроники, автор так обозначил свое понимание идентичности: «Я – русский, но я точно знаю, что мои предки были выходцы из разных народов, сложно даже сказать, кем они себя считали и как называли, т. к. человеческие знания достаточно субъективны. Например, род Софроновых на протяжении 300–500 лет претерпел следующие изменения в официальных названиях от наших дней и вглубь: русские, алтайцы, инородцы, оседлые инородцы, ясачные, новокрещеные, кумандинцы, кыпчаки. Прабабушка моя носила фамилию Зырянова – скорее всего ее предки из рода зырян. Мой предок по отцу, скорее всего, выходец с Русского Севера, может быть из поморов. Как, впрочем, и еще один род по линии прабабушки – Волосниковы, выходцы из Пинежья. Тот, кто говорит, что он чистый русский или татарин, имея в виду своих предков, не может быть прав в принципе. В десятом поколении у каждого человека уже будет более двух тысяч прямых предков, и кто поручится, кем они себя считали? Я себя считаю русским. Практически все современные Софроновы себя считают русскими. На первой презентации, помню, одна пара слушала внимательно, в конце выдала, нет, это не наши предки, мы русские, в роду алтайцев не было. Но это не так, удалось найти практически всех, за небольшим исключением. Но теперь с моей подачи говорят: да предки были обрусевшие ку-мандинцы. И уже не отказываются от своих корней» (ПМА, 2022, с. Майма).
Таким образом, в развитии ситуации для значительной части населения (смешанного происхождения) этническое имя превратилось в меморат, подтверждающий укорененность семьи в истории региона. Динамика процесса самоопределения отличала кумандинское сообщество Алтая на протяжении XX в.
Стратегии самоопределения кумандинцев и общественное движение
Исследователи полагают, что процесс самоопределения в среде кумандинцев (как и других коренных малочисленных народов Алтая) активизировался еще в 1980-е гг., когда отчетливо обозначились кризисные тенденции в развитии демографических, языковых, социокультурных процессов.
Известно, что до середины ХХ в. большая часть кумандинцев проживала в небольших селах, сохраняя преимущественно традиционный уклад жизнедеятельности, хотя мобильность в их среде усиливалась с 1920–1930-х гг. С началом кампании по ликвидации неперспективных сел 1960–1970-х гг. миграционные потоки по направлению в город устойчиво росли. Спровоцированная «урбанизация» имела закономерные последствия: отказ от традиций, унификация повседневной культуры и усиление ассимиляции. К концу ХХ в. состояние коренного населения Алтайского края (Красногорского и Солтонского районов) характеризовало снижение численности и значительное увеличение доли смешанных браков.
Для кумандинцев, включенных в состав алтайцев, эти процессы протекали на фоне нивелировки языковой специфики и сокращения этнически значимого информационно-коммуникативного пространства. В результате к 1980-м гг. на уровне общественного дискурса в их среде была обозначена проблема этнического самосохранения. Развернулось фольклорное движение, появились местные музеи, предпринимались попытки реконструкции и переноса в публичную сферу традиционных обрядовых и сакральных практик. Был поставлен вопрос о создании национальных сельских советов. Основой для разработки программ возрождения культуры и языка кумандинцев стали общественные инициативы.
В 1992 г. была создана Ассоциация северных этносов Алтая, объединившая кумандинцев, челканцев и тубаларов. Постановлением Совета национальностей Верховного Совета Российской Федерации № 4538-1 от 24.02.1993 кумандинцы были отнесены к малочисленным народам Севера. В Бийске в 1993 г. оформилось «Общество возрождения кумандинского народа», наследницей которой стала Алтайская региональная общественная организация «Объединение кумандинцев Алтая». Действующая по сей день, она сплачивает представителей творческой интеллигенции. Основными направлениями ее деятельности стала защита национально-культурных интересов, изучение и пропаганда истории и культуры; развитие самосознания кумандинцев.
Понятие «коренные малочисленные народы Российской Федерации» было сформулировано в Федеральном законе 1999 г. № 82 (ред. 2009) «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». В соответствии с первой статьей данного закона под «коренными малочисленными народами» понимались те сообщества, которые проживали на территориях расселения своих предков, сохраняли традиционный образ жизни и хозяйствования, насчитывали менее 50 тыс. чел. и осознавали себя самостоятельными этническими общностями (Федеральный Закон…, 1999). Постановлением Правительства РФ 2000 г. «О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации», в который вошли 40 народов, в том числе кумандинцы, был утвержден их статус.
Согласно Федеральному закону № 82, коренные малочисленные народы (их объединения и представители) имели право на защиту исконной среды обитания, традиционного образа жизни и хозяйствования, право на общественное самоуправление и на замену военной службы альтернативной гражданской, право на сохранение и развитие самобытной культуры (Федеральный закон…, 2009).
В развитие ситуации в 1999 г. в г. Горно-Алтайске была создана региональная общественная организация «Возрождение кумандинского народа», деятельность которой свернули в 2015 г. В настоящее время действует Местная общественная организация коренного малочисленного народа кумандинцев г. Горно-Алтайска «Аай» («Деревня»).
В 2000 г. возникла Ассоциация коренных малочисленных народов Республики Алтай. В 2006 г. появился Союз общин «Бия», объединяющий тубаларов, челканцев, кумандинцев, шорцев Турачакского района республики. В с. Майма с 2009 по 2013 г. действовал культурный центр кумандинцев «Токнас» (Ласка). Основными положениями их программ стало восстановление культурно-языковой и экологической среды обитания коренных малочисленных народов. В 2012 г. была создана Ассоциация коренных малочисленных народов Республики Алтай «Звенящий кедр». В 2013 г. была образована региональная молодежная общественная организация коренных малочисленных народов Республики Алтай «Родник».
К началу 2020-х гг. в Алтайском крае действовало несколько кумандинских общественных организаций, в том числе «Объединение кумандинцев Алтая», Алтайская региональная общественная организация «Исток» и Алтайская региональная общественная организация «Тореенчер» (Родина). Особое место в развитии движения возрождения кумандинцев принадлежало Профессиональному училищу № 4 Бийска. С 2002 г. в училище осуществлялась программа «Образовательный потенциал культуры кумандинцев в целостном педагогическом процессе». При училище был открыт Центр возрождения культуры и ремесел коренных малочисленных народов Алтая; в 2006 г. создан Музей коренных малочисленных народов
Алтая. Он стал центром популяризации традиционной культуры кумандинцев [Назаров, 2018, с. 42; Шорина, 2014, с. 131–135].
На становление и развитие общественных инициатив кумандинцев повлияли Федеральный закон 2000 г. № 104 (ред. 2006) «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», Распоряжение Правительства Российской Федерации 2006 г. «Об утверждении перечня коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (ред. 2011 г.)», Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации»; Распоряжение Правительства 2009 г. № 132 «О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».
В настоящее время деятельность общественных организаций направлена в первую очередь на сохранение кумандинского сообщества через защиту исконной среды обитания. В качестве первоочередных задач обозначаются сохранение и развитие традиционных технологий природопользования, народных промыслов и ремесел. Инициативы последних лет и в Республике Алтай, и в Алтайском крае связаны с формированием хозяйствующих коллективов, занимающихся заготовкой и переработкой лекарственного сырья, изготовлением сувенирной продукции, мелкооптовой торговлей и т. д. [Назаров, 2018]. В границах расселения кумандинцев зарегистрированы территориально-соседские и семейно-родовые общины «Айрычак», «Самзар», «Алтын-Кель», «Пай-кижи».
С эколого-экономическими вопросами связано обсуждение статуса сакральных ландшафтов и их сохранности при реализации бизнес-проектов в регионе. Ориентируясь на расширительную трактовку культурного наследия в единстве природной и культурной составляющих, общины коренных малочисленных народов Алтая предпринимают значительные усилия по формированию рекреационной инфраструктуры с целью развития историкокультурного туризма и обеспечения занятости местных жителей.
В 2000-е гг. в Турочакском районе открылся музей «Эрми-таш», этнотуристический центр «Алтайский аил». В с. Красногорском Алтайского края был создан Малиновский культурнодосуговый центр. В 2013 г. на его базе возник экспериментальный центр традиционной культуры кумандинцев и этноцентр «Эстей». В сфере их интересов и инициатив находится организация и проведение традиционных праздников и фестивалей кумандинской культуры [Назаров, 2018].
Создание культурных и туристических центров этнической направленности является одним из трендов региональной политики по развитию сельских территорий Алтая. Активную работу в этом направлении ведет организация «Тореенчер». Значимым пунктом туристического маршрута «Большое золотое кольцо Алтая» является рекреационный кластер «Красно-горье» с комплексом «Вотчина кумандинцев». В рамках туристического маршрута «Малое золотое кольцо Алтая» развивается этнографический комплекс «Уикэнд-парк» около Бийска.
В последние годы общественные кумандинские организации реализуют проекты «Возвращение к истокам», «Язык – национальное достояние народа» и др. В прошлом в газете Красногорского района Алтайского края «Восход» при поддержке администрации была постоянной рубрика о жизни кумандинцев «Наши корни».
Большое значение представители общественных организаций коренных малочисленных народов Алтая придают сохранению родного языка: проводятся летние языковые лагеря для детей и курсы для взрослых; при грантовой поддержке издаются книги, брошюры, словари.
Эти проекты соотносятся с региональными программами развития культуры и образования коренных малочисленных народов, обеспечивающих их устойчивое поступательное раз- витие. Они опираются на взаимодействие общественных организаций, государственных структур, музейных и академических центров.
Государственная поддержка общественного движения кумандинцев
Наиболее разработанным в сфере защиты интересов коренных малочисленных народов в настоящее время является законодательство Республики Алтай. Гарантии коренных малочисленных народов обозначены в ее Конституции: «Республика Алтай гарантирует и обеспечивает защиту исконной среды обитания и традиционного самобытного уклада жизни и хозяйствования коренного народа и малочисленных этнических общностей в местах их компактного проживания в соответствии с федеральными и республиканскими законами, принципами и нормами международного права» 1.
С 2002 по 2006 г. при Министерстве экономического развития, торговли и предпринимательства Республики Алтай существовал отдел по делам Севера, занимавшийся реализацией федеральной программы «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 г.». На ее основе разрабатывалась целевая программа Республики Алтай до 2015 г.
Для воплощения в жизнь программ поддержки коренного населения, согласно Указу Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай № 195 2012 г. был создан Совет по межнациональным отношениям, в задачи которого входило определение целей национальной политики Республики Алтай, а также механизмов их реализации. Несколько позже Распоряжением Правительства № 397 2014 г. был создан Консультативный Совет по делам коренных малочисленных народов Республики Алтай. Также действовал Комитет по национальной политике и связям с общественностью. Он осуществлял разработку правовых инициатив, реализацию принятых законов и информирование населения о них.
В Законе № 72 2007 г. «О регулировании отдельных вопросов в области лесных отношений на территории Республики Алтай» было зафиксировано право на бесплатную заготовку древесины для собственных нужд лицам, относящимся к коренным малочисленным народам. Законом № 48 2009 г. «О перечне территорий компактного проживания коренных малочисленных народов в Республике Алтай» очерчены территории компактного проживания коренных малочисленных народов.
Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай № 97 2015 г. «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Алтай, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения» допускалась охота в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Постановлением Правительства Республики Алтай № 80 2016 г. «Об утверждении Порядка использования водных объектов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Республики Алтай» было регламентировано приоритетное и безвозмездное использование водных объектов в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.
Важным событием стало принятие закона № 16 2017 г. «О регулировании некоторых вопросов в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Республике Алтай», охватывающего проблемы исконной среды обитания, традиционной культуры и языков, хозяйствования и промыслов, а также государственной программы Республики Алтай «Реализация государственной национальной политики», утвержденной Постановлением Правительства Республики Алтай № 246 2018 г. и предполагающей поддержку коренных малочисленных народов, и др.
В Алтайском крае интересы коренного населения кумандинцев были оговорены в Законе Алтайского края № 87 2007 г. «О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края» и Законе № 11 2013 г. «О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае». Важной вехой развития общественного движения кумандинцев стало принятие администрацией Алтайского края «Плана мероприятий по реализации в Алтайском крае в 2013–2015 годах Стратегии государственной национальной политики в Российской Федерации на период до 2025 года», куда были включены разделы, касавшиеся коренного населения региона. Были акцентированы: улучшение демографических показателей посредством развития медико-санитарной помощи населению; поддержка коренного населения при получении высшего образования; сохранении и популяризации культурного наследия. Дальнейшим развитием Плана мероприятий стало Постановление Правительства Алтайского края № 110 2017 г., утвердившее программу «Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае».
Особенно активно на региональном уровне разрабатывалось законодательство, обеспечивающее защиту интересов коренных малочисленных народов Алтая в сфере культуры. Действовали законы «Об охране объектов культурного наследия в Республике Алтай» 2003 г., «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае» 2005 г., «О регулировании отношений в области развития нематериального культурного наследия Республики Алтай» 2008 г., программы «Сохранение и развитие традиционной народной культуры Алтайского края» (2012–2014 гг.), «Развитие культуры Алтайского края» (2015–2020 гг.), положение «Об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края» 2016 г. и др. Параллельно с развитием законодательства разрабатывались и запускались ведомственные программы: «Развитие и популяризация истории коренных малочисленных народов Республики Алтай на 2015 год», «Развитие сферы культуры в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Республики Алтай на 2013–2015 годы», «Этнокультурное наследие народов Республики Алтай» на 2016– 2018 гг. и др.
В Алтайском крае, как и в Республике Алтай, был создан в 2010 г. Совет по этнокультурному развитию, в 2015 г. преобразованный в Совет по вопросам реализации государственной национальной политики Алтайского края. В его состав вошли представители национальнокультурных организаций. Акцент был сделан на реальных мерах их поддержки посредством грантов.
Один из грантов губернатора Алтайского края был направлен на реализацию проекта «Возрождение и развитие кумандинской культуры в Алтайском крае». Он позволил создать электронный ресурс «Алтай – родина кумандинцев» (в настоящее время не функционирует) и издать сборник кумандинского фольклора. В последние годы различные общественные организации кумандинцев реализуют проекты «Возвращение к истокам», «Язык – национальное достояние народа» и др.
В рамках реализации региональных программ «Государственная поддержка общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае на 2011–2013 годы» и «Сохранение и развитие традиционной народной культуры Алтайского края» стало возможным развитие инициатив.
Объединение усилий государства и общественных организаций является основанием для реализации программ поддержки коренных малочисленных народов Сибири, в том числе кумандинцев.
Заключение
Общий анализ ситуации показывает, что общественно-политическая и культурная активность кумандинцев в конце ХХ в. была обусловлена изменением политической ситуации в России и ее регионах и опытом их социальной адаптации. К началу ХХI в. значительная часть представителей кумандинского народа стала горожанами. Сокращение численности, риски утраты родного языка и культуры актуализировали этническое самосознание, аккумулировали усилия общественности коренных малочисленных народов Республики Алтай и Алтайского края.
Как реакция на вызовы быстро меняющейся реальности в 1990-е гг. стали появляться первые национальные организации. Законодательное закрепление прав коренных малочисленных народов Республики Алтай и Алтайского края (как и России в целом) подготовило почву для формирования новой социально-политической реальности, нового типа солидарности. Статус коренного малочисленного народа актуализировал самосознание кумандинцев, способы презентации этнокультурной идентичности, которые оказались действенными при поддержке государства и общественного движения.
На протяжении 1990–2010-х гг. на Алтае сложились законодательство и административно-правовые механизмы, обеспечивающие интересы коренных малочисленных народов. В регионе возникла инфраструктура, объединяющая организации различного уровня, среди них: ассоциации коренных малочисленных народов, местные общественные организации, культурные, образовательные и музейные центры, семейно-родовые и территориально-соседские общины кумандинцев, занимающиеся в большей степени хозяйственной деятельностью.
В настоящее время общественные организации кумандинцев играют значительную роль в воспроизводстве этничности, в решении жизненно важных проблем. При этом в целом этносоциальная ситуация остается неблагоприятной. Общая численность кумандинцев продолжает уменьшаться (с 3 114 чел. в 2002 г. до 2 408 чел. в 2020 г.). Меняется соотношение городского и сельского населения: в 2002 г. доля кумандинцев-горожан составляла 54,7 %, в 2010 г. – 48,4 %. Тенденция снижения числа горожан сохранилась и в 2020 г.: из 1 101 чел. кумандинцев Алтайского края 707 проживали в сельской местности, в Республике Алтай из 1 061 – 666 чел. Эксперты связывают этот процесс с ассимиляционными процессами, глубоко проникшими в кумандинское сообщество. В настоящее время кумандинцы находятся на высоком уровне демографической старости, половозрастная структура городских куман-динцев регрессивна.
Но именно пожилые кумандинцы сегодня владеют родным языком и знанием традиций, тогда как значительная часть молодежи использует только русский язык и ориентируется на унифицированные стандарты жизнедеятельности. Проблему родного языка кумандинцы считают наиболее острой. Закон Республики Алтай «О языках народов, проживающих на территории Республики Алтай» был принят в 1993 г. и (с изменениями 2002–2020 гг.) определил охранительные меры в языковой и культурной сферах. Но существенных изменений не произошло. Если по переписи 2010 г. родным языком владели 25,5 % кумандинцев, то сегодня их число уменьшается. Языковые компетенции в среде кумандинцев воспроизводятся главным образом на бытовом уровне и в системе дополнительного образования. Преподается кумандинский язык лишь в средних классах Шатобальской школы в Солтонском районе Алтайского края. По данным переписи 2020 г., кумандинский язык считают родным 637 чел. (из 2 408 чел.) – 26,5 %, используют – 302, владеют – 429 чел. Утрата языка вызывает беспокойство среди активной части народа. Пессимисты отводят кумандинскому языку 20 лет жизни. Одной из причин является практически полное отсутствие моноэтничных семей (ПМА, 2022, г. Бийск). В то же время общественные организации кумандинцев стараются популяризировать кумандинскую культуру и язык в дни проведения фестивалей и празд- ников. При этом государственный патернализм оценивается как фактор сохранения этнокультурного и этноязыкового многообразия Алтая.
Согласно опросам, проведенным в Алтайском крае в 2016 г., а затем в 2022 г., в силу угрозы ассимиляции, бедности, утраты культуры и языка подавляющее большинство опрошенных кумандинцев считают необходимым предоставление государственных льгот. Особенно важной считается поддержка в области образования, медицинского обслуживания, социальной защиты, предоставления жилья, в использовании природных ресурсов.
В целом значительная часть кумандинского сообщества отмечает проблемы в реализации действующих законов. Проблемным представляется недостаточное финансирование и неоперативное решение административных и организационных вопросов. Переход от планового к грантовому субсидированию оценивается как негативный фактор в развитии общественной деятельности кумандинцев.
Очень широко обсуждаются в сообществе проблемы раннего выхода представителей коренных малочисленных народов на пенсию и доплаты к ней. Это предполагает прохождение длительной проверки со стороны контролирующих органов и необходимость проживания в населенных пунктах из утвержденного списка. Попытки скорректировать список традиционных мест проживания, исключив исчезнувшие поселения и обозначить реальные, пока не увенчались успехом. Известно при этом, что в Республике Алтай поддержка коренных малочисленных народов осуществляется несколько шире, чем в Алтайском крае: согласно законодательству, там удается получать квоты на промысел и т. п.
Но, несмотря на все имеющиеся трудности, лидеры общественных организаций видят перспективы культурной и экономической деятельности. Рассматриваются вопросы поддержки национальных видов спорта, создания электронного словаря и приложения для изучения кумандинского языка на смартфонах, производство сувенирной продукции, организация обработки дикоросов и т. д. При всех противоречиях общественное движение кумандин-цев, как и коренных малочисленных народов в целом, сохраняет свое значение и развивается с учетом российского и мирового политико-правового обеспечения. Региональные организации кумандинцев планируют свою деятельность в сотрудничестве с федеральными, республиканскими и краевыми государственными структурами, академическими центрами и фондами. Эффективность этого многоуровневого диалога определяет перспективы существования народа. Добрым предзнаменованием на будущее стал договор об использовании рыбных запасов реки Бии, который территориально-соседская община «Пай-кижи» заключила с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края в мае 2024 г.
Список литературы Кумандинцы: этническое самосознание и стратегии самоопределения в контексте этнической истории
- Аткунова Д. А. Национальное возрождение коренных малочисленных народов Северного Алтая (конец XIX - начало XXI в.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 2017. 24 с.
- Баскаков Н. А. Тюркские языки. М.: ЛКИ, 1960. 248 с.
- Богатырев Н. Об ореховом и зверовом промысле кумандинских инородцев Бийского уезда // Алтайский сборник. Барнаул, 1908. Т. 9. С. 1-31.
- Вербицкий В. И. Алтайские инородцы. Горно-Алтайск: Ак-Чечек, 1993. 268 с.
- Головнёв А. В., Албогачиева М. С-Г., Белоруссова С. Ю., Беляева-Сачук В. А., Киссер Т. С., Перевалова Е. В. Коренные малочисленные народы России: этнокультурные проекции. СПб.: МАЭ РАН, 2022. 200 с.
- Горный Алтай и его население. Кочевники Бийского уезда. Кумандинцы. Барнаул, 1903. Т. 3, вып. 4, ч. 1. 253 c.
- Данилов В. М. Кумандинцы (большие заботы малочисленного народа) // Жизнь национальностей. 2000. № 2. С. 62-63.
- Добжанская О. Э., Назаров И. И., Функ Д. А. Кумандинцы // Тюркские народы Сибири. М, 2006. С. 324-374.
- Дыренкова Н. П. Отражение борьбы материнского и отцовского начала в фольклоре телеутов и кумандинцев // СЭ. 1936. № 6. С. 70-84.
- Дыренкова Н. П. Охотничьи легенды кумандинцев // СМАЭ. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 11. С. 110-132.
- Каралькин П. И. Кумандинцы // КСИЭ. Л., 1953. Вып. 18. С. 29-38.
- Карасева Н. К. Формы хозяйственной деятельности кумандинцев: устойчивость и изменчивость традиций: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 2010. 28 с.
- Кастараков М. В. Белые кони духов. Бийск: БГПУ им. В. М. Шукшина, 2010. 124 с.
- КРС - Кумандинско-русский словарь / Отв. ред. Л. М. Тукмачев. Бийск: Бийский котельщик, 1995. 150 с.
- Назаров И. И. Кумандинцы: традиционное хозяйство и материальная культура. Барнаул: Алтайский дом печати, 2013. 192 с.
- Назаров И. И. Основные тенденции современного этнокультурного развития кумандинцев Алтайского края // Вестник Кемеров. гос. ун-та. 2018. № 2. С. 39-49.
- Николаев В. В. Этнодемографическое развитие коренного населения предгорий Северного Алтая (XIX - начало XXI века). Новосибирск, 2012. 312 с.
- Николаев В. В. Этнодемографическая и этносоциальная характеристика коренного населения предгорий Северного Алтая: по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 года. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. 143 с.
- Николаев В. В. Национально-культурное возрождение кумандинцев на рубеже XX-XXI веков // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. Т. 26. С. 789-794.
- Николаев В. В., Назаров И. И. Урбанизация коренного населения Алтая в XX - начале XXI века (на примере кумандинцев города Бийска) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2021. Т. 20, № 3: Археология и этнография. С. 149-162. https://doi.org/10.25205/1818-7919-2021-20-3-149-162
- Николаев В. В., Октябрьская И. В. Урбанизация коренных народов Сибири и Дальнего Востока (XX - начало XXI века) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2021. № 4. С. 127-139.
- Николаев В. В., Самушкина Е. В. Этноязыковые процессы у кумандинцев, тубаларов и челканцев в XIX - начале XXI века // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. 2021. № 3. С. 139-157.
- Октябрьская И. В., Самушкина Е. В., Николаев В. В. Коренные малочисленные народы в современном этнополитическом пространстве Республики Алтай // Уральский исторический вестник. 2021. № 2. С. 108-117.
- Октябрьская И. В., Ульянова М. В., Лавряшина М. Б. Динамика демографических процессов в различных территориальных группах кумандинцев Алтайского края // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭ СО РАН, 2005. Т. 11, ч. 2. С. 135-143.
- Попов И. В. К истокам рода Софроновых и основанию села Маймы. Барнаул: Алтайский дом печати, 2023. 296 с.
- Потапов Л. П. Из этнической истории кумандинцев // История, археология и этнография Средней Азии. М.: Наука, 1968. С. 316-323.
- Потапов Л. П. Этнический состав и происхождение алтайцев. Историко-этнографический очерк. Л.: Наука, 1969. 196 с.
- Радлов В. В. Из Сибири: Страницы дневника. М.: Наука, 1989. 749 с.
- Сатлаев Ф. А. Кумандинцы (Историко-этнографический очерк XIX - первой четверти XX в.). Горно-Алтайск: Алт. кн. изд., 1974. 199 с.
- Славнин В. Д. Погребальный обряд кумандинцев // Обряды народов Западной Сибири / Под ред. В. М. Кулемзина. Томск: Изд-во ТГУ, 1990. С. 132-146.
- Славнин В. Д. Очерк представлений о браке и свадебной обрядности у чедыберов // Сибирь, Центральная Азия и Дальний Восток: взаимодействие народов и культур. Вторые науч. чтения памяти Е. М. Залкинда: Материалы конф. Барнаул: АзБука, 2005. С. 71-91.
- Славнин В. Д., Шерстова Л. И. Народы Северного Алтая: некоторые проблемы этногенеза и этнической истории // Культура и традиции коренных народов Северного Алтая. СПб.: ИД СПбГУ, 2008. С. 5-124.
- Тукмачева Е. И. Кумандинские легенды и сказки. Бийск: Бия, 2011. 52 с.
- Тукмачева Е. И. Два рыжих жеребенка. Кумандинские легенды. Бийск: Бия, 2015. 52 с.
- Тукмачев-Соболеков Л. М. У истоков древнего Алтая. Бийск, 2001. 195 с.
- Уртегешев Н. С. Социолого-лингвистическая ситуация у кумандинцев // Вестник Казах. нац. ун-та им. аль-Фараби. 2005. № 5. С. 105-107.
- Учитесь говорить по-кумандински. Русско-кумандинский разговорник. Горно-Алтайск: Б. и., 1990. 152 с.
- Чемчиева А. П. Алтайские субэтносы в поисках идентичности. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. 254 с.
- Чемчиева А. П. Движение северных алтайцев за правовой статус коренных малочисленных народов // Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость. М.: Рос. об-во социологов, 2016. С. 5535-5539.
- Чемчиева А. П. Субэтнические группы алтайцев: противоречия и символы коллективной идентичности // Новые исследования Тувы. 2017. № 1. С. 134-150.
- Шерр Н. Б. Из поездки к кумандинцам в 1898 году // Алтайский сборник. Барнаул: ТипоЛитография Главного Управления Алтайского округа, 1903. Т. 5. С. 81-114.
- Шерстова Л. И. Этнополитическая история тюрков Южной Сибири XVII-XIX веков. Томск: ТПУ, 1999. 432 с.
- Шорина Д. Е. Национальный праздник в музейном пространстве // Проектно-технологические и организационно-методические аспекты деятельности этнокультурных коллективов. Барнаул: Азбука, 2014. С. 130-137.
- Штернберг Л. Я. Татары // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1902. Т. 67. С. 347-350.