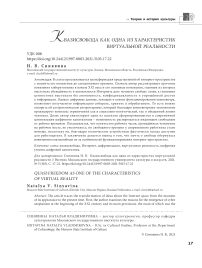Квазисвобода как одна из характеристиквиртуальной реальности
Автор: Синявина Н.В.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 5 (103), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье прослеживается трансформация представлений об интернет-пространстве с момента его появления до сегодняшнего времени. Сначала автор рассматривает причины появления киберутопизма в начале ХХI века и его основные положения, главным из которых выступала убеждённость в возможности Интернета дать человеку свободу слова, а главными ценностями выступали бы анонимность, конфиденциальность и упрощённый доступ к информации. Однако цифровые данные, лежащие в основе функционирования компьютера, позволяют получаемую информацию собирать, хранить и обрабатывать. То есть можно говорить об алгоритмическом авторитаризме, который благодаря компьютерным технологиям продуцирует комплекс ограничений как в социально-политической, так и обыденной жизни человека. Далее автор анализирует один из аспектов сформировавшегося в современной цивилизации цифрового капитализма - возможность распоряжаться индивидом свободным от работы временем. Показывается, что количество рабочих часов, проведённых человеком на рабочем месте, не увеличилось, но свободного времени у современного работника стало меньше, поскольку он, благодаря техническим устройствам фактически всегда доступен для работодателя. В заключение делается вывод о том, что мечта о свободе обернулась появлением квазисвободы из-за особенностей функционирования интернет-пространства.
Квазисвобода, интернет, цифровизация, виртуальная реальность, цифровая утопия, цифровой капитализм
Короткий адрес: https://sciup.org/144162235
IDR: 144162235 | УДК: 008 | DOI: 10.24412/1997-0803-2021-5103-17-22
Текст научной статьи Квазисвобода как одна из характеристиквиртуальной реальности
Сначала необходимо сделать несколько замечаний относительно термина «квазисвобода». Как известно, префикс «квази» (от лат. quasi – ‘якобы, почти, словно’) указывает, что слово с его использованием означает «мнимый, ложный, ненастоящий». В частности, П. Тиллих, рассуждая по поводу квази- и псевдорелигии, считает, что это качественно разные явления, поскольку префикс «псевдо» «указывает на неудачную попытку добиться сходства и потому на обманчивое сходство» [6, с. 399]. Исходя из сказанного, термин «квазисвобода» точно отражает контекст (то есть процесс и результат), в который попадает пользователь интернет-пространства (виртуальной реальности).
Начало 2000–2010 годов можно рассматривать как расцвет философии киберутопизма (цифрового утопизма), основу которой составляют убеждённость её представителей в способности виртуальной реальности даровать человеку долгожданную свободу. Киберутопизм относят к одной из форм технологического утопизма, исходящего из представления, что достижения в науке и технике помогут качественно иначе организовать жизнь общества в ближай- шем будущем, предложив новые стандарты и работая на его развитие, благодаря чему и остальные условия, детерминирующие жизнь социума (экономические, политические, культурные и пр.), будут стремиться к идеалу. В интернет-сообществе же возникнут новые формы участия, что приведёт к продуцированию солидарности.
Идеологию технологического утопизма рубежа ХХ–ХХI веков в целом следует рассматривать лишь как логическое продолжение техноутопизма ХIХ века. В частности, К. Маркс писал о влиянии науки на развитие демократии, о возможностях науки и техники даровать человечеству вместо царства необходимости царство свободы. Можно упомянуть Р. Оуэна, Ш. Фурье, А. де Сен-Симона, которые видели в научно-технической эволюции общества одно из главных условий социального прогресса.
Ценностями, которые появятся в результате данного процесса, должны стать анонимность и конфиденциальность пользователей, расширение возможностей доступа к информации и в высказывании собственной позиции, отсутствие цензуры. Формирование этих ценностей должно привести общество к цифровому социализму, рассматриваемому киберутопистами как конечную цель [3]. В 2010 году итальянская редакция журнала Wired, специализирующегося на анализе влияния компьютерных технологий на различные сферы жизни современного общества, выдвинула Интернет на соискание Нобелевской премии мира. Свой выбор представители журнала из Англии, Италии, США обосновывали тем, что Интернет «дал нам шанс вернуть власть, захваченную правительствами и транснациональными корпорациями. Он сделал мир совершенно прозрачным» [2, с. 18].
В работе «О чём мечтают алгоритмы: о нашей жизни в эпоху больших данных?» (2015) французского социолога Д. Кардона дана критическая оценка современного интернет-пространства. Социолог подчёркивает, что в жизни человека осталось не так много сфер, где он может проявлять индивидуальность, поскольку фактически все его действия подвергаются манипуляции и калькуляции [7]. Данное заявление первоначально может показаться абсурдным. Однако существующие поисковые системы, благодаря которым мы ориентируемся в пространстве Интернета, «подбирают», «формируют» контент, соответствующий нашим интересам и запросам. Кроме того, в любой из подобных систем работают фильтры, «сортирующие» данные, что приводит к иерархизации поступающей к пользователю информации.
С одной стороны, указанные инструменты – контент и фильтры – необходимы в огромной виртуальной реальности, дабы отсекать всё лишнее, они как бы направляют пользователя. Но, с другой стороны, не есть ли это своего рода манипуляция? Проведённые социологами исследования показывают, что не только поисковые системы, но и банки, и кредитные компании, и мага- зины используют алгоритмы, чтобы изучать интересы потенциальных клиентов через соцсети и другие «следы», оставляемые нами в Интернете. Об этом и пишет в своей работе Кардон, подчёркивая, что эти алгоритмы выступают не только экономическим инструментом, но могут рассматриваться и как социально-политический и социокультурный фактор, поскольку он моделирует нашу жизнь [7].
Более того, в пространстве Интернета оказываются и наши персональные данные, которые также подвергаются алгоритмизации. Если в предшествующие периоды доступ к ним имел ограниченный круг лиц (как правило, сотрудники силовых структур, лечащий врач), то сегодня получить их может любой человек. Таким образом, подобная «открытость» продуцирует новую категорию социокультурного, ведущую к появлению «поведенческого социума», в контексте которого кардинально трансформируются взаимоотношения власти и индивида, общества и индивида, поскольку реальность начинает рассматриваться через призму статистики.
Современное общество, признавая положительные стороны цифровизации (возможность получить справки и другие документы, не выходя из дома, образовательные онлайн-платформы, электронная запись на приём в различные учреждения и пр.), постепенно привыкает к подобной ситуации открытости и посчитанности. Действительно, алгоритм как бы задаёт определённый вектор поиска информации в виртуальной реальности, представляющий интерес для конкретного человека. В результате этого как бы «отключаются» все/частично идентификационные маркеры (этнический, религиозный, гендерный и пр.), сформированные реальным социокультурным простран- ством и детерминирующие жизнь индивида. То есть «исключается» всё, что может быть навязано человеку обществом, что устанавливает якобы границы и барьеры для проявления индивидуальности. Не есть ли это та долгожданная свобода, о которой мечтает современная цивилизация?
Однако здесь необходимо остановиться, чтобы проанализировать механизм функционирования алгоритмизации. Формируемый для индивида интернет-контент возникает в результате нескольких совершённых им запросов (кликов), которые были математически-автоматически обработаны. Можно ли рассматривать выводы этой алгоритмической процедуры как отражение действительных интересов человека, его особенностей как индивида? Стоит ли полагаться на выводы (или профиль), полученные в результате количественного анализа интересов и основывающиеся лишь на фиксации поведения человека в конкретный момент времени, когда он делал запрос? «Может ли профиль, полученный в результате моих действий в Интернете, не приводить к искажённым и пристрастным решениям?» [7, с. 80]. Кардон отмечает, что «такой перевёрнутый способ конструирования общественной жизни ведёт к полной перестановке причинно-следственных связей, лежащих в основе статистических вычислений» [7, с. 53].
Индивид в данной ситуации попадает в пространство квазисвободы, поскольку его подталкивают к принятию определённого решения, и он лишается главного антропологического посыла – свободы выбора, того, что делает человека человеком.
Здесь возникает резонный вопрос: а всегда ли наш выбор свободен? Насколько он свободен? В связи со сказанным можно вспомнить теорию, предложенную Р. Талером и К. Санстейном, которые обозначили её как «архитектуру выбора». Одним из системообразующих термином этой концепции становится «либертарианский патернализм», подразумевающий свободу выбора. «Выбор не ограничивается, не навязывается, и люди не ограждаются от неправильных решений» [4, с. 15]. Другими словами, у человека может быть меньшее число данных по сравнению с компьютером, он медленнее машины обрабатывает полученную информацию, но совершаемый им процесс есть экзистенциальный акт выбора, которого он лишён в ходе алгоритмизации.
В момент своего возникновения в 1970-е годы Интернет воспринимался многими как пространство свободы. В частности, именно так его воспринимало, например, журналистское сообщество, испытывавшее в тот период двойное давление: и со стороны властей, и со стороны общества. Если первые настаивали на распространении официально одобренной идеологии/позиции, то социум требовал правдивого отражения и оценки происходящего. Для Интернета же в момент его появления были характерны децентрализация и возможность выстраивать плохо контролируемые властно-политическими структурами горизонтальные связи. В этот период Интернет воспринимался как пространство свободы слова, и представители СМИ стали рассматривать его как реализацию, воплощение их утопического проекта. Однако совсем скоро международные корпорации и политические элиты, поняв потенциал виртуальной реальности как инструмента влияния, начали разрабатывать способы контроля и методы калькуляции.
Таким образом, Интернет, изначально декларировавший о собственной децентрализации, спровоцировал формирование алгоритмической зависимости. Кардон, в частности, пишет о так называемой цифровой близости, в контексте которой доминирующее значение приобретает внимание [7]. Если в обычной жизни для привлечения внимания необходимо совершить Поступок (положительный или отрицательный в данной ситуации не имеет значения), то в пространстве виртуальной реальности показателем внимания выступает накрутка (количество просмотров, кликов). При анализе данного феномена Кардон опирается на теорию «измерителя славы» («триумфометра»), разработанную Г. Тардом, который, следуя традиции французской социологии, заложенной Э. Дюркгеймом, строил свою модель с опорой на статистические данные [5]. В основе предложенной Кардоном позиции лежит представление о социальных сетях как «совокупности экспрессивных знаков». Поскольку речь идёт о знаках, то, следовательно, они имеют количественное выражение, которое всегда можно подсчитать. То есть чем больше пользователь/страница набирает лайков/кликов, тем выше статус (в частности, именно от этого отталкивались С. Брин и Л. Пейдж при создании первой поисковой системы – Google, где действует «рейтинг страницы»).
Уже сегодня можно наблюдать, что человек с большим числом подписчиков в Интернете в реальной действительности получает разного рода бонусы (узнаваемость, привлекательность для рекламодателей, возможность публичного высказывания). Опасность этой тенденции заключается в том, что алгоритмизация в виртуальной реальности и её результаты не имеют ничего общего с объективной реальностью, в которой протекает жизнь человека.
Ещё одним результатом развития цифровых технологий стало формирование цифрового капитализма, который, казалось бы, затрагивает лишь IT-специалистов.
Однако это впечатление обманчиво. Оставим в стороне и тех мастеров и инженеров в Китае, Камбодже, Индии, которые часто вынуждены работать по 11–12 часов в день, собирая комплектующие для мобильных телефонов или компьютеров. Они также выступают неотъемлемым элементом цифрового капитализма. Но есть неявные участники данного процесса, и это – фактически каждый из нас. В доцифровую эпоху время работника было более или менее чётко поделено на рабочее и свободное. Последним он мог распоряжаться по собственному усмотрению, проявляя свободу выбора (тем более что именно в этот период активно развивалась и индустрия досуга).
Сегодня же ситуация кардинальным образом изменилась: количество часов, проводимых человеком на рабочем месте, остаётся прежним (этот вопрос чётко регулируется трудовым законодательством), но в целом рабочее время увеличилось. Произошло это за счёт сокращения свободного времени, поскольку технические устройства (в частности, мобильный телефон, выполняющий сегодня и функцию компьютера) позволяют продолжить работу и вне рабочего места. «Дело не только в том, что работница/ работник может находиться в постоянном доступе для работодателя, но и в том, что само взаимодействие с цифровыми платформами превращается в форму отчуждённого труда» [1, с. 11]. То есть в ту форму, о которой в ХIХ веке писали Маркс и Энгельс как об исторически сформированной форме организации труда в классовых сообществах. Более того, работы Маркса сегодня приобретают особую актуальность, поскольку помогают проанализировать нарождающиеся способы и типы взаимоотношений в контексте цифрового капитализма (пролетарий и капиталист, товарная форма и капитал, прибавочная стоимость). Конечно, те явления, о которых пишет Маркс, и те понятия, которыми он оперирует, трансфор- мировались, но тем не менее его теория важна для понимания процессов, протекающих в современном обществе.
Таким образом , можно констатировать, что сегодня алгоритмы перестали быть лишь инструментом калькуляции, они меняют реальность, преобразовывая её. Желание избавиться от детерминирующих жизнь современного общества факторов (национальных, религиозных, гендерных и пр.)
привело к появлению детерминизма нового типа – алгоритмическому. Постмодернизм, давший, казалось бы, абсолютную свобо- ду современному человеку, постмодернизм, уничтоживший сформированные в предшествующие периоды границы и трансформировавший оппозицию «свой – чужой» в толерантную пару «свой – Другой», спровоцировал и появление квазисвободы, которая, являясь результатом особенностей функционирования интернет-пространства, оказывает воздействие на индивида в реальной действительности.
Список литературы Квазисвобода как одна из характеристиквиртуальной реальности
- Атанасов В. Цифровой капитализм и утопии Интернета // Цифровой капитализм и утопии Интернета / под ред. В. Атанасова. Киев: ЦСТД; АВНПОСТ-ПРИМ, 2020. С. 5-33.
- Морозов Е. Интернет как иллюзия. Обратная сторона сети / перевод с английского И. Крингера. Москва: АСТ. CORPUS, 2014. 235 с.
- Салецл Р. Искусство больших данных: невежество, мифы и фантазии прогресса [Электронный ресурс] // Художественный журнал. 2019. № 109. URL: http://moscowartmagazine.com/issue/93/article/2072.
- Талер Р., Санстейн К. Nudge. Архитектура выбора. Как улучшить наши решения о здоровье, благосостоянии и счастье / перевод с английского Е. Петровой. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 240 с.
- Тард Г. Законы подражания. Москва: Академический проект, 2011. 304 с. Тиллих П. Христианство и встреча мировых религий // Избранное. Теология культуры. Москва: Юристъ, 1995. С. 396-441.
- Cardon D. A quoi rêvent les algoritmes: Nos vien á l'heure des bit data. Paris, Seuil, 2015. 112 p.