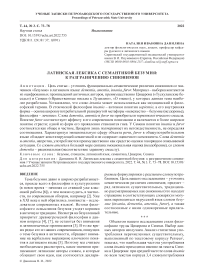Латинская лексика с семантикой безумия: к разграничению синонимов
Автор: Данилина Наталия Ивановна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 3 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - уточнить функционально-семантические различия синонимов со значением «безумие» в латинском языке: dementia, amentia, insania, furor. Материал - выборка контекстов из оцифрованных произведений античных авторов, преимущественно Цицерона («Тускуланские беседы») и Сенеки («Нравственные письма к Луцилию», «О гневе»), у которых данная тема наиболее разработана. Установлено, что слово insania может использоваться как медицинский и философский термин. В стоической философии insania - антоним понятия sapientia, а его внутренняя форма - основа широкоупотребительной развернутой метафоры «невежество - безумие (нездоровье). философия - лечение». Слова dementia, amentia и furor не приобретали терминологического смысла. Понятие furor соответствует аффекту в его современном понимании и включается в более широкое понятие страсти; одной из форм его проявления становится гнев. У Сенеки понятия insania и furor соотносятся как общее и частное, Цицерон лишь подчеркивает их нетождественность, не определяя соотношения. Характеризуя эмоциональную сферу объекта речи, furor в общеупотребительном языке обладает констатирующей семантикой и не содержит оценочного компонента. Слова dementia и amentia, напротив, употребляются преимущественно как средство оценки говорящим описываемой ситуации. Со словом amentia в большей мере связана эмоциональная оценка (неодобрение), со словом dementia - рациональная (несоответствие здравому смыслу).
Безумие, стоицизм, латинский язык, семантика, цицерон, сенека
Короткий адрес: https://sciup.org/147237064
IDR: 147237064 | УДК: 811.124,
Текст научной статьи Латинская лексика с семантикой безумия: к разграничению синонимов
Тема безумия давно и широко разрабатывается, прежде всего в философии и культурологии (в новое время – начиная со ставшей уже классикой работы [6]), о чем можно судить, в частности, по современным обзорам, например [2]. Уже в XXI веке к ней обратились лингвисты – исследователи современных языков1. Истоки философского осмысления безумия уходят корнями в античную традицию. Несмотря на безусловный приоритет древнегреческой философии в данном вопросе [4], [7], не остаются без внимания и латиноязычные произведения [3]. В то же время редко кто из наших современников, пишущих о теме безумия в античности, обращает внимание на вербальное выражение ключевого понятия в латинском языке [5]. Поэтому мы считаем необходимым рассмотреть, какое значение приписывают латинские авторы словам, в которые облекают свои идеи, как соотносятся деклари
руемые формулировки с реальным словоупотреблением. Цель нашего исследования – уточнить семантические различия синонимов; предмет – ряд латинских существительных, традиционно рассматриваемых как синонимы (что находит отражение в соответствующих словарях) и могущих переводиться на русский язык словом безумие ( insania , dementia , amentia , furor ), а также соотносимые с ними однокоренные прилагательные.
***
Объектом нашего исследования стали философские труды Цицерона и Сенеки. Выбор данных авторов неслучаен. Анализ статистики употребления перечисленных существительных, выполненный по текстовому корпусу Perseus2, показал, что наибольшая частота употребления слова insania приходится именно на тексты Сенеки и Цицерона: при средней частоте слова insania по всем текстам корпуса 3,4 словоупотребления на 1 млн у названных авторов этот показатель может достигать 4,8. В абсолютном выражении материал также представляется валидным: в «Нравственных письмах к Луцилию» отмечено 19 примеров, большинство в письме № 94; «О гневе» – 10 примеров; в «Тускуланских беседах» – 35 примеров. Слово amentia значительно чаще, чем другие авторы, также употребляет Цицерон (до 5,1 при средней частоте по корпусу 1,0), особенно много примеров (57) находим в речах. Слово dementia у названных авторов не отклоняется по частоте от среднестатистического показателя (2,9). Слово furor имеет большую среднюю частоту, чем все перечисленные (5,9), и встречается преимущественно у Сенеки (с частотой до 59,7), однако не в философских произведениях, а в драматических (161 пример). Следует отметить, что и произведения других авторов, в которых частота слова furor значительно превышает среднюю, не являются философскими (элегии Проперция, лирика Катулла, «Аргонавти-ка» Флакка, речи Цицерона и др.). В то же время достаточное количество контекстов со словом furor можно найти и в философских произведениях Сенеки и Цицерона, которые посвящены осмыслению темы безумия. Таким образом, основным материалом нашего исследования выбраны «Тускуланские беседы», «Нравственные письма к Луцилию» и «О гневе», но привлекались и контексты из других сочинений. Латинские цитаты приведены по изданиям, оцифрованным в корпусе Perseus, переводы – по изданиям, представленным на странице «Античная литература» сайта «История Древнего Рима»3.
В «Тускуланских беседах» теме безумия посвящены фрагменты 7–11 третьей книги («Об утешении в горе») и 52–55 четвертой книги («О страстях»). Причем отдельное внимание уделяется рассуждениям о словесном выражении идей. Значение слов Цицерон старается вывести из их внутренней формы (1). Слова dementia и amentia трактуются как синонимы друг друга и антонимы слова mens (2). Слово insania , по мнению Цицерона, выводит на первый план идею болезни как длительного состояния ума, в отличие от волнения, возникающего ситуативно (3). В согласии со стоической философией, insania – антоним мудрости ( sapientia ) (4).
-
(1) « Totum igitur id quod quaerimus quid et quale sit, verbi vis ipsa declarat. В самом смысле их уже раскрыто, что́ мы ищем и каково оно» [Cic. Tusc. III. 9].
-
(2) «… animi adfectionem lumine mentis carentem …вол-нение души, не освещенное светом ума» [Cic. Tusc. III. 10].
-
(3) «… nomen insaniae significant mentis aegrotationem et morbum …что такое безумие? Страдание и болезнь ума» [Cic. Tusc. III. 8].
-
(4) «… omnes insipientes igitur insaniunt …кто не мудрец, – все они душевнобольные» [Cic. Tusc. III. 9].
В то же время следует отметить, что вне обозначенного фрагмента теоретических рассуждений употребление Цицероном слов рассматриваемого синонимического ряда дает несколько иную картину.
Слово amentia Цицерон никогда не употребляет в философском смысле, но частое его использование в речах для характеристики обвиняемых согласуется с пониманием amentia прежде всего как affectio , причем нравственно не одобряемого. Здесь оно вписывается обычно в контекст других отрицательно оцениваемых поступков человека или в ряд антитез (5). Безумие, близкое к аффекту, обозначается словом amentia и у других авторов (6–8). Однако в переписке Цицерона amentia появляется и там, где заходит речь о недостаточно продуманных решениях и действиях, не связанных со страстями (9). То же изредка находим и у других авторов (10).
-
(5) «… copia cum egestate, bona ratio cum perdita, mens sana cum amentia… confligit. …изобилие сражается с нищетой, порядочность – с подлостью, разум – с безумием» [Cat. II. 11].
-
(6) « Arma amens capio. Я вне себя хватаюсь за меч» [Ver. Aen. II. 314].
-
(7) « Dolore pulsa gravi gravis est amentia. Сменилось тяжким страданьем в ней беспамятство тяжкое» [Ov. Meth. V. 510].
-
(8) « Quod si furore atque amentia impulsum bellum intulisset. Если даже под влиянием бешенства и безумия он действительно начнет войну» [Caes. Gal. I. 40].
-
(9) « amens mihi fuisse videor a principio… do, do poenas temeritatis meae. etsi quae fuit illa temeritas? quid feci non consideratissime ? Безумен , мне кажется, был я сначала… Несу я, несу кару, за свое безрассудство. Впрочем, что это было за безрассудство? Чего не сделал я самым осмотрительным образом?» [Cic. Att. IX. 10].
-
(10) « uti Licymnius revivisceret et corrigeret hanc amentiam tectoriorumque errantia instituta! » [Vitr. VII. 5].
Словом dementia также могут обозначаться не только волнения души, но и поступки, и даже мысли, не согласующиеся, по мнению автора, со здравым смыслом. Словари русского языка выделяют такое значение слова безумие как самостоятельное, противопоставленное значению ‘сумасшествие’. Именно лексика мыслительной деятельности часто окружает в текстах слово dementia (11, 12). Аналогичное употребление слова dementia характерно и для Сенеки (13– 15); синонимом слова demens у него выступает stultus (16).
-
(11) « Tu ips Paulo ante cum tamquam senatum philosophorum recitares, summos viros desipere delirare dementis esse dicebas . Ты сам немного ранее, когда словно зачитывал список сената философов , говорил,
что эти великие люди безумствуют , бредят , сошли с ума » [Cic. N.D. I. 94].
-
(12) « Sed quae tanta dementia est, ut in maxumis motibus mutationibusque caeli nihil intersit qui ventus, qui imber, quae tempestas ubique sit? Но какое безумие не придавать никакого значения величайшим переменам и переходам в состояниях неба, тому, где какой ветер, дождь, погода» [Cic. Div. 94].
-
(13) « Demens est, qui fi dem praestat errori . Безрассуден тот, кто остается верен своему заблуждению » [Sen. Ben. IV. 36].
-
(14) « Quanta autem dementia eius est quem clamores imperitorum hilarem ex auditorio dimittunt! Но как велико безумие того, кто покидает круг слушателей , радуясь восторженным крикам невежд ?» [Sen. Ep. LII].
-
(15) « Atqui ut his irasci dementis est, quae anima carent, sic mutis animalibus . Гневаться на бессловесных животных так же безумно , как и на бездушные предметы» [Sen. Ir. II. 26].
-
(16) « His irasci quam stultum est, quae iram nostrum nec meruerunt nec sentiunt! А ведь гневаться на них тем глупее, что они не только не заслужили нашего гнева, но и не могут его почувствовать» [Sen. Ir. II. 26].
Таким образом, dementia и amentia являются, по сути дела, не философскими понятиями, а оценочными словами общеупотребительного языка, что и объясняет их невысокую частоту в философских произведениях. Причем amentia , по-видимому, чаще связано с состоянием аффекта, чем dementia .
Обратимся к слову insania . Оно, в отличие от dementia и amentia , по-видимому, не употребляется как оценочное, а является констатацией медицинского факта (17–19) или метафорой (20, 21). Неслучайно именно словом insania пользуется Цельс (18), описывая разные виды сумасшествия. Пример 21 демонстрирует такой потенциал значения ‘безумие’, который в новых языках порождает отдельный семантический вариант либо десемантизирует лексему: в русском безумный ‘достигший крайней степени проявления, очень сильный’4, аналогично в английском mad 5.
-
(17) « in felle nigro insaniae causa homini morsque toto reddito » [Plin. Nat. XI. 79].
-
(18) « robusto adhuc corpora insolitus dentium stridor insaniae signa sunt » [Cels. II. 7].
-
(19) « Quae mentem insania mutat? Какое безумье дух мой мутит?» [Ver. Aen. XII. 38].
-
(20) « O miseri, quae tanta insania, cives? Creditis avectos hostis? Несчастные! Все вы безумны! Верите вы, что отплыли враги?» [Ver. Aen. II. 40].
-
(21) « Quorum uero studio teneretur, omnibus ad insaniam fauit. Чем бы он ни увлекался, в своей страсти он доходил до безумия» [Suet. Cal. 55].
В контексте философских сочинений слово insania приближается к термину. При этом безумие медицинское выступает метафорой безумия философского (4, 22). Понимание философии как средства исцеления непросвещенных, и потому безумных, душ – излюбленная тема стоиков, в частности Сенеки. Рассуждения о безумии, именуемом insania, часто разворачивают метафору болезни и лечения, заложенную во внутренней форме слова, насыщая контексты словами медицинской тематики (23, 24). У Сенеки это проявляется особенно ярко: в трактате «О гневе» мы нашли 16 подобных контекстов, в 94-м письме – 10. В то же время антитеза insania – sapientia у Сенеки не обсуждается подробно, лишь изредка и в трактате, и в письме встречаются слова sapiens, mens, ratio.
-
(22) « Inter insaniam publicam et hanc, quae medicis traditur, nihil interest nisi quod haec morbo laborat, illa opinionibus falsis . Нет разницы между безумием всеобщим и тем, которое поручают лечить врачам, – кроме одной: тут страдают недугом, а там – ложными мнениями» [Sen. Ep. XCIV. 17].
-
(23) « qui pecuniae cupiditate, qui voluptatum libidine feruntur, quorumque ita perturbantur animi, ut non multum absint ab insania , quod insipientibus contingit omnibus, is nullane est adhibenda curatio ? Utrum quod minus noceant animi aegrotationes quam corporis , an quod corpora curare possint, animorum medicina nulla sit? Кто увлечен стяжательством, кто похотью, у кого душа в такой смуте, что остается один лишь шаг до безумия , – а именно таковы многие неразумные, – разве все это не нуждается в лечении ? Или страдания души меньше, чем страдания тела , или для тел лекарства есть, а для душ – нету?» [Cic. Tusc. III. 4].
-
(24) « Si intrassem valetudinarium exercitus ut sciens aut domus divitis, non idem imperassem omnibus per diversa aegrotantibus ; varia in tot animis vitia video et civitati curandae adhibitus sum; pro cuiusque morbo medicina quaeratur. Если бы я пришел в больницу или в богатый дом как знающий врач, я не стал бы прописывать одно и то же лечение разным больным . Теперь же мне поручена забота о здоровье общества, и я вижу в разных душах самые разные пороки; для каждой болезни нужно изыскать свое средство » [Sen. Ir. I. 16].
Однако в трактовках философского безумия присутствуют и спорные моменты. Как будто бы признавая в третьей книге оппозицию insania – sapientia , Цицерон оспаривает ее в четвертой (25, 26). Предметом спора выступают страсти. Неслучайно слово insania часто встречается в философских рассуждениях о страстях.
-
(25) « Stoici, qui omnes insipientes insanos esse dicunt, none ista conligunt? Remove perturbations maxumeque iracundiam: iam videbuntur monstra dicere. Эту связь ведь придумали стоики, считающие, будто, кроме мудрецов, все безумны, достаточно из этого их понятия о безумии исключить гнев и другие страсти, – и мнение их окажется нелепо» [Cic. Tusc. IV. 54].
-
(26) « quod cum maius esse videatur quam insania, tamen eius modi est, ut furor in sapientem cadere possit, non posit insania . И хоть бешенство, кажется, тяжелей, чем безумие – однако не надо забывать, что бешенству мудрец может быть подвержен, безумию же и неразумию – никогда» [Cic. Tusc. III. 11].
В ряду синонимов со значением «безумие» понятие страсти представлено словом furor . Если последовать логике Цицерона и восстановить внутреннюю форму, то увидим, что furor родственно глаголу fervere ‘кипеть, клокотать’. Следует отметить, что переводят furor чаще как бешенство или ярость , хотя вариант безумие предлагается словарем. Цицерон не формулирует значение данного слова, говоря лишь, что это не то же, что insania (27). Понятие furor он иллюстрирует гневом (28) и отграничивает от insania на том основании, что временные состояния человека ( ira ‘гнев’) cледует отличать от его постоянных свойств ( iracundia ‘гневливость’), так как первые не предполагают обязательного безумия, а могут изредка появляться и у мудрецов (26). Впрочем, в этом противопоставлении Цицерон не всегда последователен. Так, он не акцентирует противопоставление временного и постоянного furor на вербальном уровне, хотя таковое и существует ( furens и furiosus ). Или, например, любовное безумие в одном и том же фрагменте именуется и furor [Cic. Tusc. IV. 76], и insania [Cic. Tusc. IV. 72]. Цицеронова аналогия с парой ira и iracundia также, по-видимому, нарушается его собственным словоупотреблением: в статье А. М. Браговой, посвященной понятию гнева у Цицерона, собраны многочисленные контексты, из которых видно, что часто словом iracundia обозначается гнев как временное состояние [1].
-
(27) « Нanc enim insaniam, quae iuncta stultitiae patet latius, a furore disiungimus . Мы отличаем “безумие” (к которому примыкает более широкое понятие “неразумие”) от “бешенства”» [Cic. Tusc. III. 11].
-
(28) « Sic iracundus non simper iratus est; lacesse: iam videbis furentem . Так и гневливый не всегда гневен: но, задень его, он и вправду покажет свою ярость» [Cic. Tusc. IV. 54].
Сенека, разделяя позицию стоиков, склонен отождествлять понятия furor и insania (29, 30), придавая им, кроме философского, медицинское значение ( phrenesis ), возможно, на уровне метафоры, но и это весьма показательно (31). Антитеза «временное – постоянное» для него не принципиальна. По мнению стоиков, одной из ипостасей и причин безумия выступает гнев (32), однако мы оставим анализ слова ira за пределами данного исследования, так как оно обозначает конкретную страсть и никогда не переводится словом безумие . Более того, это самостоятельный концепт, эволюции которого в философии посвящена, например, работа [8].
-
(29) « Si tantum irasci vis sapientem, quantum scelerum indignitas exigit, non irascendum illi sed insaniendum est. Если, по-твоему, мудрец должен чувствовать гнев, какого требует возмутительность каждого преступления,
то ему придется не гневаться, а сойти с ума» [Sen. Ir. II. 9].
-
(30) « Si quis furioso praecepta det… erit ipso, quem monebit, insanior . Кто начнет наставлять безумца… тот будет безумнее вразумляемого» [Sen. Ep. XCIV. 17].
-
(31) « Isto modo dic et phrenesin atque insaniam viribus necessariam, quia saepe validiores furor reddit. Скажи уж тогда, что и умопомешательство необходимо для придания сил: известно ведь, что в приступе бешенства безумцы часто становятся намного сильнее» [Sen. Ir. I. 13].
-
(32) « Multi itaque continuaverunt irae furorem nec quam expulerant mentem umquam receperunt. Aiacem in mortem egit furor, in furorem ira. Многие так и остались в буйном помешательстве гнева: они не смогли вернуть назад ум, который на время отбросили. Аякса гнев подтолкнул к безумию, а безумие – к смерти» [Sen. Ir. II. 36].
Слово furor , подобно dementia и amentia , не является ни философским, ни медицинским термином; но, в отличие от них, не выступает и в роли оценочного и не может быть употреблено в контексте Tantum *furor est + описание поступка ( Что за безумие …). Несмотря на отсутствие четкого определения, оно более остальных оказывается значимым социально, в частности юридически. Возможно, именно этим объясняется его высокая, сравнительно с остальными словами рассматриваемого ряда, относительная частота в текстах нефилософского содержания. Ссылка Цицерона на законы XII таблиц (33) дает основание предполагать, что оно могло обозначать не только краткое, но и продолжительное состояние человека – юридическую недееспособность.
-
(33) « Qui ita sit adfectus, eum dominum esse rerum suarum vetant duodecim tabulae; itaque non est scriptum “si insanus”, sed “si furiosus escit”. Кто поражен бешенством, тому XII таблиц запрещают владеть имуществом: не “кто безумен”, написано в них, а “кто бешен”» [Cic. Tusc. III. 11].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщим наши наблюдения. Из проанализированных слов выделяется прежде всего insania , которое, помимо функционирования в общеупотребительном языке, могло выступать как медицинский и философский термин. В стоической философии понятие insania противопоставляется понятию sapientia . Различия в объеме понятия insania связаны с релевантностью (для Цицерона) / нерелевантностью (для Сенеки) противопоставления временных аффектов продолжительным состояниям (свойствам) человека. Эвфемистическая метафора, заложенная во внутренней форме данного слова, часто получает развитие в рассуждениях на уровне текста, перерастая в развернутое сопоставление «невежество – безумие, философия – лечение».
Остальные слова проанализированного ряда не имели специального значения ни в медицине, ни в философии и являлись исключительно словами общеупотребительного языка. Хотя через слово affectio Цицероном определяются amentia и dementia, современному пониманию аффекта как «эмоционального состояния, характеризующегося болезненным возбуждением чувств, включением воли, вместе с тем сильным ослаблением ясности мышления и его влияния»6 соответствует, скорее, furor. Это слово употреблялось для обозначения неистовства в чистом виде как поведенческого факта, не становящегося предметом оценки говорящего. В философских сочинениях понятие furor иллюстрируется преимущественно гневом (ira).
Специфика семантики слов amentia и dementia заключается, напротив, в имплицитном присутствии субъекта, оценивающего, насколько мысли и поступки, о которых идет речь, соотносимы с mens или ratio . При этом со словом amentia в большей мере связана эмоциональная оценка (неодобрение), со словом dementia – рациональная (несоответствие здравому смыслу).
Список литературы Латинская лексика с семантикой безумия: к разграничению синонимов
- Брагова А. М. Содержание цицероновского понятия iracundia // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4, № 5. С. 727-734.
- Железовский А. Д. Феномен безумия как объект культурологического исследования // Обсерватория культуры. 2016. Т. 1, № 2. С. 218-224.
- Новичкова Е. В. Лики безумия в культуре латинского средневековья // Человек. 2009. № 1. С. 92-103.
- Обидина Ю. С. "Mania" в древнегреческой культуре: эволюция безумия в историческом и религиозно-антропологическом контексте // Вестник Марийского государственного университета. Сер. Исторические науки. Юридические науки. 2018. Т. 4, № 4. С. 40-47.
- DOI: 10.30914/2411-3522-2018-4-4-40-47 EDN: TGFGDX
- Овсянников С. А. История и эпистемология пограничной психиатрии. М.: Альпари, 1995. 204 с.
- Фуко М. История безумия в классическую эпоху / Пер. с фр. И. К. Стаф. М.: АСТ, 2010. 698 с.
- G uv e n F. Madness and death in philosophy. New York: State university of New York Press, 2005. 220 p.
- Harris W. V. The Roman version. Ten years of the Agnes Kirsopp Lake Michels lectures at Bryn Mawr College. (S. B. Faris, L. E. Lundeen, Eds). Bryn Mawr, PA, 2006. 240 p.