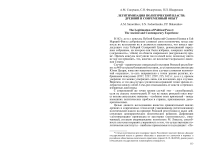Легитимизация политической власти: древний и современный опыт
Автор: Сморчков Андрей Михайлович, Федорченко Сергей Николаевич, Шкаренков Павел Петрович
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Европа в прошлом
Статья в выпуске: 70, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья продолжает сравнительный анализ античных и современных технологий легитимизации политической власти на примере Римской республики и ныне действующих демократий. Для сравнения легитимизационных практик были выделены три этапа: электоральный, промежуточный, инвеститурный. В данной статье рассматриваются два последних этапа. Анализ показал, что меры рационального характера, призванные обеспечить честность и справедливость выборов, в реальности могут способствовать делегитимизации - разрушению традиционного политического строя и его демократической составляющей в ходе совершенно законных практик оспаривания результатов. В то же время меры иррациональные, базирующиеся на глубинных верованиях и традициях, эффективно служат сохранению гражданского мира и существующего строя. Это позволяет говорить о демократии как о воспроизводимой традиции через соответствующие выборные практики, сопровождаемые процедурами ритуального характера. Легитимность режима обуславливается сохранением справедливых демократических процедур как честных и прозрачных перед внутренними акторами (гражданами) и способными спровоцировать их на критику лидерами оппозиции. Наиболее очевидным сходством ритуализованного характера легитимизации античной и современной демократий выступает сохранение процедуры вступления в должность глав современных государств (инаугурация).
Легитимизация, демократия, римская республика, выборы, ритуалы, масс-медиа, предвыборная борьба, политические кризис
Короткий адрес: https://sciup.org/149139216
IDR: 149139216 | DOI: 10.54770/20729286_2021_4_113
Текст научной статьи Легитимизация политической власти: древний и современный опыт
В 162 г. до н.э. консулы Публий Корнелий Сципион Пазика и Гай Марций Фигул добровольно сложили свои полномочия, когда уже после их вступления их в должность выяснилось, что консул предыдущего года Тиберий Семпроний Гракх, руководивший народным собранием, на котором они были избраны, совершил ошибку («огрешность», vitium) из области сакрального (авгурального) права1. Причем консулы поступили так по своей воле, поскольку никто не мог им приказать, что, конечно, не исключает морального давления Сената.
Случай - практически уникальный в истории Римской республики: за 460 лет республиканской истории, до установления диктатуры Юлия Цезаря, известно максимум пять случаев сложения полномочий «огрешно», то есть неправильно с точки зрения религии, избранными консулами (393?, 223?, 220?, 215, 162 гг. до н.э.), причем уверенно это можно утверждать лишь для последних двух случаев. Впрочем, и эти два случая с религиозно-правовой точки зрения отличаются между собой. Семь раз отказывались от власти «огрешно» избранные диктаторы.
С современной же точки зрения случай этот - своеобразный, если не сказать экзотический. И тем не менее римский опыт имеет вполне актуальное значение - особенно опыт кризисный - ввиду нынешних политических проблем в странах, признаваемых демократическими.
Целью данного исследования является сравнительный анализ древних и современных технологий узаконивания (легитимизации) политической власти на примере Римской республики и ныне действующих демократических политических режимов. Дефиниция «легитимизация» производна от категории «легитимность», означающей, согласно американскому политологу М. Липсету, способность системы сохранять уверенность в том, что существующие политические институты - наиболее приемлемые и подходящие2. «Ле- гитимизация» означает конкретные технологии достижения «легитимности» - от институциональных до ценностно-символических. «Делегитимизация», напротив, имеет противоположное значение и может проявляться в различных ипостасях: от молчаливого несогласия, отказа от участия в выборах до протестов и вооруженного захвата власти.
В данной работе основной исследовательский фокус сосредоточен на связи легитимизации, узаконивания демократических институтов с традициями и ритуалами.
В античных политических системах эта связь наглядна, осознаваема и не подлежит сомнению. Но и в современных условиях американский политолог Дж. Стаут не разделяет, а, наоборот, рассматривает как неразрывное целое «демократию» и «традицию»3. Принципиально важное значение в этом отношении имеет его тезис, согласно которому любая демократическая процедура, сохранившая преемственность у ряда поколений, в конце концов становится значимой традицией. Английский ученый Д. Битем также обращает внимание на то, что политическая легитимизация не только связана с существующими нормами, но и опирается на распространенные в гражданской среде убеждения4.
А потому сохраняет актуальность трехзвенная модель М. Вебера, который кроме харизматической и рациональной легитимизации выделял традиционную5. Элементы традиционной легитимизации, основанной на сакральной интерпретации политических актов, не исчезли, а, скорее, претерпели метаморфозу в современных демократиях. Примечательно, что и в римской республиканской организации имелись такие нюансы и особенности, которые переводили приоритет религии, скорее, в область идеологических представлений, чем реальной политической практики, что сближает античность и современность.
Для сравнения легитимизационных практик взяты случаи из истории Римской республики и современных политических режимов. Можно выделить три этапа общего легитимизационного механизма: а) электоральный; б) промежуточный; в) инвеститурный. Данные этапы могут считаться условными, но все же их признаки прослеживаются и в разных современных политических режимах, и в демократиях древности.
Электоральный этап включает предварительную регистрацию кандидатов, предвыборную агитацию и собственно выборы, в ходе которых имеют место процедуры ритуального характера.
Промежуточный этап (после выборов и до официального вступления победившего кандидата в должность) представляется наиболее опасным с точки зрения легитимизационных рисков: ведь именно тогда у современной оппозиции, как и у античной, сохраняется признанная законом возможность оспорить результаты выборов, предъявив претензии к соблюдению должных процедур и ритуалов 114
вплоть до обвинений власти в фальсификации. Наконец, инвести-турный этап (церемония инаугурации) в современной политической практике является наиболее ритуализированным - соответственно, он демонстрирует наибольшее сходство с древними практиками.
Изучение первого этапа (электорального) выявило черты сходства и различия между античными и современными практиками, принципиальное совпадение содержания и целей этих практик несмотря на значительную разницу в формах. В частности, в республиканском Риме при легитимизации электоральной процедуры большую, пожалуй, даже преобладающую роль играли религиозные акты, а именно две процедуры гадания с целью выявить волю богов (ауспиции). Одна проходила непосредственно перед выборами, другая в их ходе, завершаясь объявлением итогов голосования (renuntiatio).
О важности надлежащего совершения ауспиций перед электоральными народными собраниями (комициями) говорит тот факт, что обнаружение нарушения (vitium) именно при их проведении являлось основной причиной отказа от должности уже избранных магистратов. Именно на этом этапе совершил упомянутую ошибку Тиберий Гракх. Таким образом, ауспиции перед электоральными комициями образовывали, по выражению некоторых исследователей, сакральный фундамент должности новых магистратов6.
В современном мире древнеримским религиозным ритуалам соответствуют социологические опросы общественного мнения и политические прогнозы накануне выборов, которые в современных демократиях приобрели вполне ритуально-легитимизационный характер. Кроме того, ключевым актом в процедуре избрания новых магистратов, без которого выборы считались недействительными независимо от их реального результата, являлась процедура объявления результатов голосования (renuntiatio), которая фактически сохраняет ритуальную функцию легитимизации и в современных демократиях. Эта миссия возлагается, как правило, на представителей избирательных комиссий. На выборах в древнем Риме решающее влияние на результаты голосования оказывала жеребьевка, определявшая порядок подачи голосов среди голосовательных единиц (центурий или триб). Современные государства также пытаются усилить свою легитимизацию, внедряя алеаторную (с помощью жребия) форму демократических процедур.
Таковы основные выводы и наблюдения, сделанные при анализе электоральных процедур в античности и современности. Конечно, в древнем Риме религиозный компонент легитимизации политической власти был представлен шире. Но, что характерно для прагматического Рима, религиозный контроль за выборами был опосредован политическим: коллегия жрецов-авгуров, в ведении которой находилась теория ауспиций, в случае возникновения сомнений действовала исключительно по запросу политической власти, а их решения фактически проходили утверждение в Сенате, который решал, какие меры необходимо принять7. Более того, очень рано в Римской республике стал развиваться собственно политический контроль за «чистотой» выборов, не имевший религиозных коннотаций. Он создавался постепенно законами de ambitu, что можно перевести как законы «о нарушениях при соискании должности». Такое толкование термина ambitus/ambitio («обход») отражает принятую в Риме практику, когда кандидат обходил потенциальных избирателей, агитируя за себя. Соответственно, оно получило затем значение «соискание должности» и даже попало в русский язык («амбиции»). Первое решение, касавшееся предвыборной кампании, было принято в 432 г. до н.э. (Liv. IV. 25. 13-14), а первый закон непосредственно de ambitu - в 358 г. до н.э. (закон Петелия: Liv. VII. 15. 12-13). В конце II в. до н.э. была учреждена постоянная судебная комиссия, рассматривавшая дела о нарушениях при соискании должностей. Всего же за время Республики было утверждено около двенадцати таких законов, а также иные правовые акты8. Со временем добавились наказания вплоть до полного запрета на дальнейшее соискание в случае осуждения по суду (закон Кальпурния 67 г. до н.э.).
В итоге к концу Республики в Риме в дополнение к религиозно-политическим методам легитимизации сформировалась весьма похожая на современную чисто политическая система регулирования предвыборной борьбы, призванная обеспечить честную конкуренцию. Наличие регулирования предвыборной борьбы позволяет выделить промежуточный этап легитимизации власти - между избранием и вступлением в должность, поскольку именно тогда оказывались задействованы нормы, относящиеся к предвыборной борьбе. Строго говоря, к процедуре легитимизации власти этот этап отношения не имеет, являясь, так сказать, проверочным для первого этапа. Но все же в глазах общества он вносит немалый вклад в признание законности новоизбранной власти и влияет на ее авторитет. Более того, данный этап заключает, пожалуй, наибольшие риски для существующей системы.
Продемонстрируем это утверждение сначала на примере из римской истории. В последний век Республики между выборами и вступлением в должность (1 января) имелся промежуток в несколько месяцев, что давало достаточное время политическим оппонентам для инициации судебных процессов против победителей. Один из законов de ambitu, предусматривавший десятилетнее изгнание для осужденного, был принят в консульство знаменитого Марка Туллия Цицерона (63 г. до н.э.). Правда, инициатива исходила не от него, а от Сената, но формально именно Цицерон как консул предложил народу этот закон. И ему же пришлось защищать против обвинения в незаконном соискательстве своего преемника Луция Лициния Мурену, избранного консулом следующего года на народном собрании под руководством того же Цицерона. Поэтому в начале речи он был 116
вынужден оправдывать свое выступление в защиту Мурены государственной пользой (Czc. Pro Mur. 2-6; 67). Процесс против Мурены состоялся во второй половине ноября 63 г. до н.э. (выборы - в октябре). Это был самый неопределенный момент в борьбе Цицерона против заговора Катилины: глава заговора уже покинул Рим, косвенно признав свою вину, но еще не были арестованы послы галльского племени аллоброгов, чьи показания дали Цицерону неопровержимые доказательства. Любой, даже малейший, сбой в политическом механизме играл на руку Катилине, а ведь здесь речь шла о передаче высшей власти. В итоге сложилась противоречивая ситуация, когда автору закона, карающего нарушения при соискательстве должностей, пришлось защищать обвиняемого в этих нарушениях.
Таким образом, справедливая и логически обоснованная практика оспаривания результатов выборов может заключать в себе возможность негативных последствий для существующей системы, особенно в кризисные периоды, сопровождающиеся опасной дисфункциональностью власти.
Наиболее яркие примеры дают так называемые легитимизаци-онные кризисы многих современных постсоветских демократий, когда политическая оппозиция, осознающая слабость и ошибки существующего режима, начинает оспаривать честность прошедших выборов, объявляя их сфальсифицированными, как это имело место в 1996 г. в Армении, перед «революцией роз» 2003 г. в Грузии, перед «оранжевой революцией» 2004 г. в Украине, накануне беспорядков 2020 г. в Белоруссии. Доминирование запросов на справедливость демократии9 вновь возвращает нас к ее ценностной, сакрально-ритуальной легитимизации. Если оппозиция регулярно оспаривает справедливость демократических процедур, то такой важный элемент политической легитимизации как доверие теряет свою прочность. Недоверие к выборам имеет разнообразные последствия, которые отчетливо видны на примере современных избирательных кампаний. Примечательно, что в современных демократиях появились риски делегитимизации и до начала выборов. Можно вспомнить протестные акции с 4 декабря 2011 г. на проспекте Сахарова в Москве, организованные оппозицией, несогласной с результатами выборов в Государственную Думу VI созыва. Но анонсирование этих протестов было сделано активистами «Русского марша» за месяц до самих выборов.
Однако к механизму легитимизации современной демократии кроме внутренних акторов добавились и внешние. Европейский парламент в 2011 г. принял резолюцию, призывавшую российские власти организовать «свободные и справедливые» выборы, проведя расследование выявленных фактов нарушений. В 2020 г. ряд фракций Европарламента не признали президентские выборы в Белоруссии легитимными. В том же году власти США отказались признавать парламентские выборы в Сирии и президентские выборы в
Белоруссии. А в 2016 г. Государственный департамент США заранее предупредил, что не признает выборы в Государственную Думу, проведенные в Крыму и Севастополе. Ничего подобного не было в Риме, где невозможно было внешнему актору обвинять в фальсификации выборов по причине отсутствия аналогичного политического режима.
Таким образом, в кризисных условиях политические меры, призванные обеспечить честность и законность при избрании новых властей, в реальности могут способствовать расшатыванию демократических устоев, демонстрируя столь нередкое в политической (и не только) истории расхождение между благими целями и негативными результатами. Как показывает пример Рима конца Республики, судебные процессы по обвинению в нарушениях при выборах внесли весомый вклад в делегитимизацию политического режима - подрыв авторитета республиканской системы в целом и ее органов управления в частности. Ведь эти процессы затевались в угоду личным и «партийным» амбициям, а не в интересах гражданского коллектива в целом. Нельзя сказать, чтобы случаи осуждения в Риме были частыми, но и уникальными такие процессы не назовешь: за последний век Республики известно примерно о двух десятках осужденных соискателей разных должностей и примерно о стольких же оправданных при некотором количестве процессов, чей результат неизвестен (а ежегодно избиралось около тридцати ординарных магистратов)10. Впрочем, уже сама угроза возможной кассации результатов состоявшихся выборов оказалась весьма неоднозначной по своим последствиям для существующей политической системы. То же самое мы видим и сейчас, когда в жертву партийным целям и отдельным честолюбиям под благовидными предлогами приносятся общегражданские интересы.
В современных демократиях основной вопрос, как правило, связан с принципом равного доступа кандидатов к коммуникационным каналам, где они могут заниматься агитацией. Можно вспомнить скандал в Италии 2011 г, когда римская прокуратура по иску Республиканской партии открыла следствие в отношении двух государственных телеканалов и премьер-министра страны С. Берлускони за незаконную агитацию в новостном эфире. Но наибольшие риски делегитимизации современных демократий связаны именно со сферой Интернета и социальных сетей. Проблема заключается в том, что избирательное законодательство просто не успевает за развитием подобных информационных технологий. Сетевая архитектура современных коммуникаций расширяет возможности политической агитации в обход любого закона и «дня тишины». Технологии Big Data, сбор информации с психопрофилей граждан в Facebook и Twitter, микроцелевая пропаганда, активность социальных ботов приводят к скандальности выборного процесса.
Соответственно, в условиях фейков и непроверенной инфор- мации оппозиция и недоверчиво настроенные граждане начинают требовать дополнительных проверок результатов уже прошедших выборов, на деле оспаривая их. Например, в 2016 г. разгорелся скандал вокруг американских президентских выборов, когда появилась конспирологическая идея о том, что Россия якобы смогла через хакерские группы повлиять на их результат11. В 2020 г. британские власти вынуждены были опубликовать парламентский доклад «Россия», где идет речь о попытках Российской Федерации повлиять на внутреннюю политику Великобритании и референдум о Брекзите, хотя прямых доказательств этого не предъявлено12. Таким образом, современные, принципиально иные по сравнению с древностью, медийные возможности ведения политической борьбы создают дополнительные риски для функционирования демократических институтов.
И, наконец, третий этап - инвеститура, когда совершаются ритуалы, сопровождавшие вступление в должность.
Что касается Рима, то в начале своего правления консулы осуществляли в основном религиозные акты. От надлежащего их исполнения, как считалось, зависел успех всего правления соответствующих магистратов. Прежде всего, утром первого дня консулы совершали ауспиции, право на которые они получили при избрании, тем самым испрашивая одобрение богов своим действиям в данный день13. Кроме того, консулы приносили обеты ради благополучия Рима во время своего правления14 и в течение пяти дней должны были принести клятву на верность законам15. Завершалась серия обязательных актов при вступлении консулов в должность жертвоприношениями в честь Юпитера Латинского на Альбанской горе (в 20 км к юго-востоку от Рима)16. В празднике на Альбанской горе принимали участие Сенат и все римские должностные лица, включая плебейских трибунов17. Таким образом, территориально политическая власть из Рима на время перемещалась в сакральный центр Лация, к городу Альба Лонга, считавшемуся метрополией латинских городов.
Помимо религиозных, имелся и политический акт18: на каком-то этапе вступления в должность на утверждение древнейшего народного собрания по куриям (родовым подразделениям) высшие магистраты вносили закон об империи (lex curiata de imperio), то есть по поводу своей власти. Согласно римской политической теории, империй являлся наследием царской власти во всей ее полноте (с некоторыми ограничениями, привнесенными Республикой). Содержание и цели этого закона представляют сложную проблему, будучи неясными уже древним авторам конца Республики. И хотя тогда ку-риатный закон об империи превратился в формальный акт, который осуществлялся в присутствии тридцати куриатных ликторов, представлявших тридцать курий, и трех авгуров19, он продолжал сохранять значение для обретения консульской власти во всей полноте ее полномочий.
Важной особенностью римской процедуры легитимизации власти являлось определяющее значение религиозно-политической безупречности именно выборов, а не принятия власти, где возможны были нарушения и отступления от устоявшихся правил - понятно, что осуждаемые, но, тем не менее, не влиявшие на признание в общественном мнении и политической практике законности такой власти и, соответственно, ее действий и решений. Самый известный пример - вступление в должность консула 217 г. до н.э. Гая Фла-миния, который из-за спешки, вызванной вторжением Ганнибала, пренебрег рядом актов (Liv. XXI. 63. 7-12; XXII. 1. 5-7), что не помешало ему стать законным консулом, а его имя внести в консульские списки (фасты).
В современных демократиях также имеется процедура инаугурации - ритуал торжественного вступления в должность высшего государственного лица. Например, инаугурация президента России начинается с игры президентского оркестра, прохождения знаменосцев с Государственным флагом страны, Знаком, Штандартом президента России и Конституции. Выбранный на этот пост произносит присягу, положив руку на текст конституции. Присяга произносится в присутствии депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, председателей этих палат, судей Конституционного Суда Российской Федерации (ст. 82 конституции РФ). После этого звучит Гимн России, над резиденцией главы государства поднимается дубликат штандарта президента, затем новоизбранный президент произносит короткую речь. В итоге производится 30 артиллерийских залпов, и глава государства принимает парад президентского полка. Американские президенты, принимающие торжественную присягу, клянутся на Библии, хотя это не обязательная норма в отличие от речи, которую нужно произнести непременно, так как она на деле должна включать декларирование политического курса пришедшего к власти кандидата. Присягу принимает председатель Верховного суда США. Также в программу инаугурации включаются парад и бал. До президента к присяге приводится вице-президент.
Если посмотреть в целом на процедуру легитимизации политической власти, то касательно республиканского Рима вполне обоснованно складывается впечатление об абсолютном преобладании религиозных актов и религиозного содержания, что ставит под вопрос саму возможность сравнения с современной ситуацией. Это и верно, и нет. С точки зрения мировоззрения того времени, несомненно, религиозная сфера имела однозначный и общепризнанный приоритет. Но прагматизм римлян и, в особенности, политической элиты в реальности выдвигал на первый план общественные нужды, на которые «работал» религиозный компонент. Причем под этот прагматизм подводилась и соответствующая идеологическая база. Ведь несмотря на тесное переплетение сферы божественного (fas) 120
и человеческого (ius), граница между ними четко ощущалась и соблюдалась. В отличие от греческой религии, в римской явно заметно отторжение мистицизма, отсутствие стремления вступить в контакт с божеством, само лицезрение которого уже считалось грехом. Поэтому, по всей видимости, в римской политической практике отсутствовала сакральная инвеститура новоизбранной власти, то есть процедура вручения права на ауспиции, являвшегося религиозным фундаментом магистратской власти. Хотя, надо признать, в историографии были приложены немалые усилия для обнаружения таковой инвеституры.
Таким образом, полномочия магистрата в сакральной области зависели от получения им политических полномочий. Это свидетельствует о фактическом подчинении сакральной сферы политической, что является одним из основных принципов религиозной жизни гражданской общины. Такое положение сближает республиканский Рим с современными демократическими режимами, для которых характерен технократизм политических лидеров и партий, сосредотачивающихся не на идеологии, а на практической области пропаганды, стратегии и тактики работы с электоратом.
О чем же говорит опыт античности?
Обращает на себя внимание, что меры рационального характера, призванные обеспечить честность и справедливость выборов, в реальности могут способствовать делегитимизации - разрушению традиционного политического строя и, прежде всего, его демократической составляющей. Ведь при наличии злой воли или даже искреннего заблуждения проигравшая сторона легко может оспорить и вполне честные выборы, тем самым способствуя разрушению системы, внося в нее смуту и беспорядок. Напротив, меры иррациональные, базирующиеся на глубинных верованиях, продолжали служить сохранению Республики и на завершающем этапе ее существования, хотя они воспринимались, по крайней мере правящей элитой, как странные и зачастую уже непонятные остатки далекой старины.
Прочность любой политической организации во многом строится на традиционности, на заведенном издавна порядке. Касается это и демократии, важной чертой которой является ротация руководителей государства. Но эта ротация не должна покушаться на некие сущностные основы, являясь все-таки не самоцелью, а средством обеспечения оптимального управления обществом. Наиболее полное и понятное воплощение традиционность находит в религии, но не сводится к ней, основываясь на подсознательной нерефлексиру-емой убежденности в незыблемости и ценности существующего порядка, обеспечивающей консенсус между обществом и правящей элитой.
* * *
Подводя итоги исследования, отметим, что существует ряд параметров, которые могут указывать на сходство и кардинальное отличие легитимизационных практик в античной и современной демократии.
Во-первых, как и во время Римской республики, легитимность режима обуславливается сохранением справедливых демократических процедур как честных и прозрачных перед внутренними акторами (гражданами) и способными спровоцировать их на критику лидерами оппозиции.
Во-вторых, к легитимизационным практикам демократии прибавился внешнеполитический фактор, чего не знал античный Рим. Отныне другие демократические режимы, исходя из своих интересов, могут не признать выборы легитимными, что проявляется в разных формах - от призывов провести новые выборы, нот протеста и критики до введения санкций.
В-третьих, современные демократии пытаются усилить свою легитимизацию, внедряя алеаторную форму демократии, известную в античности. При этом алеаторные процедуры используются в сочетании с выборными демократическими процедурами.
В-четвертых, хотя современные демократии в основном опираются на нормативный уровень и прагматизм, они также сохраняют ритуализованные практики, отражающиеся в значимости социологических опросов, политических прогнозов, ток-шоу и новостной подачи сетевых массмедиа. Но демократия при этом больше трансформируется в медиакратию - режим, где интересы политических акторов тесно переплетены с интересами медийных конгломератов. Наиболее очевидным сходством ритуализованного характера легитимизации античной и современной демократий выступает сохранение инаугурации - процедуры вступления в должность глав современных государств.
Список литературы Легитимизация политической власти: древний и современный опыт
- Schuller, W. Ambitus: Einige neue Gesichtspunkte. Hyperboreus: Bibliotheca Classica Petropolitana, 2000, vol. 6, fasc. 2, pp. 349–361. (In German).
- Smorchkov, A.M. Mifologicheskaya traditsiya v sakralnoy legitimatsii rimskoy magistratskoy vlasti [Mythological Tradition in the Sacred Legitimation of the Roman Magistracy.] Dialog so vremenem, 2021, no. 74, pp. 78–88. (In Russian).
- Simon, F.M. The Feriae Latinae as Religious Legitimation of the Consuls’ Imperium. Consuls and Res Publica: Holding High Office in the Roman Republic / Ed. by H. Beck et al. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, pp. 116–132. (In English).
- Pasqualini, A. I miti albani e l’origine delle Feriae Latinae. Alba Longa: Mito. Storia. Archeologia. Atti dell’Incontro di studio Roma – Albano Laziale 27–29 gennaio 1994 / Ed. A. Pasqualini. Roma: Istituto italiano per la storia antica, 1996, pp. 217–236. (In Italian).
- Walter, U. Patronale Wohltaten oder kriminelle Mobiliesierung? Sanktionen gegen unerlaubte Wahlwerbung im spatrepublikanischen Rom. >Korruption: Historische Annaherungen an eine Grundfigur politischer Kommunikation> / Hg. von> N. Grune, S. Slanicka. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, >2010, pp. 145–166. (In German).
- Beetham, D. The Legitimation of Power. London: Palgrave Macmillan, 1991, 310 p. (In English).
- Fascione, L. Crimen e quaestio ambitus nell’eta repubblicana: Contributo allo studio del diritto criminale repubblicano. Milano: A. Giuffre, 1984, 161 p. (In Italian).
- Jahn, J. Interregnum und Wahldiktatur. Kallmunz: M. Lassleben, 1970, 195 s. (In German).
- Kunkel, W. Kleine Schriften: Zum romischen Strafverfahren und zur romischen Verfassungsgeschichte. Weimar: H. Bohlau, 1974, 636 s. (In German).
- Lipset, S.M. Politicheskiy chelovek: socialnye osnovaniya politiki [Political Man: The Social Bases of Politics.]. Мoscow, 2016, 611 p. (In Russian). = Lipset, S.M. Political Man: The Social Bases of Politics. Garden City (NY): Doubleday and Company, 1960, 432 p. (In English).
- Nadig, P. Ardet ambitus: Untersuchungen zum Phanomen der Wahlbestechungen in der romischen Republik. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1997, 250 p. (In German).
- Rawls, J. Teoriya spravedlivosti [A Theory of Justice.>]. Moscow, 2017, 536 p. >(In Russian). >= Rawls, J. A Theory of Justice. Cambridge (MS): Harvard University Press, 1971, 607 p. (In English).
- Smorchkov, A.M. Religiya i vlast v Rimskoy Respublike: magistraty, zhretsi, khramy [Religion and Power in the Roman Republic: Magistrates, Priests, Temples.]. Moscow, 2012, 601 p. (In Russian).
- Stout, J. Demokratia i traditsiya [Democracy and Tradition.]. Moscow, 2009, 462 p. (In Russian). = Stout, J. Democracy and Tradition. Princeton (NJ): Princeton University Press, 2004, 348 p. (In English).
- Weber, M. Politika kak prizvaniye i professiya [Politics as a Vocation and Profession.]. Moscow, 2018, 292 p. (In Russian). = Weber, M. Politik als Beruf. Munchen; Leipzig: Duncker & Humblot, 1919, 67 p. (In German).