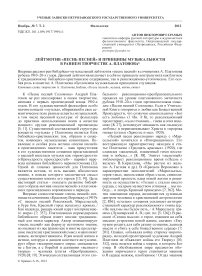Лейтмотив «песнь песней» и принципы музыкальности в раннем творчестве А. Платонова
Автор: Храмых Антон Викторович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (128) т.2, 2012 года.
Бесплатный доступ
Впервые рассмотрен библейско-музыкальный лейтмотив «песнь песней» в сочинениях А. Платонова рубежа 1910-20-х годов. Данный лейтмотив включает в себя по принципу контрапункта как близкое к традиционному библейско-христианское содержание, так и революционно-утопическое. Его особая роль в сюжетах А. Платонова обусловлена музыкальным принципом слушания.
Творчество а. платонова, библия, "песнь песней", музыка, мотив, сюжет
Короткий адрес: https://sciup.org/14750275
IDR: 14750275 | УДК: 821.161.1.0961917/199191
Текст научной статьи Лейтмотив «песнь песней» и принципы музыкальности в раннем творчестве А. Платонова
К «Песне песней Соломона» Андрей Платонов не раз апеллировал в своем творчестве, начиная с первых произведений конца 1910-х годов. В его художественной философии особо значим концепт «музыка», вбирающий в свое семантическое поле разные аспекты музыкальной, в том числе песенной культуры: от фольклора до практики использования песен в качестве мощного орудия революционной пропаганды [5; 11]. Существенной составляющей структуры концепта «музыка» у Платонова является блок библейско-христианских тем, образов и сюжетов, имеющих музыкальные коннотации. Появление и особая роль мотива «песни песней» в произведениях писателя – знак присутствия в его художественном сознании представлений о высшей ипостаси музыки как «премудрости» («Премудрость премудростей» – вариант перевода названия библейского первоисточника [3]). Одной из главных ценностей для Платонова является истина, то есть высшее, абсолютное знание, в поиске которого заключается смысл существования многих его героев [13; 91]. Цель настоящей статьи – показать развитие библейского образа-мотива «песни песней» в платоновских произведениях воронежского периода.
Впервые словосочетание «песнь песней» возникает в сочинении «Красному Воронежу» (1919): «С песнью песней Революций, Марсельезой, в буре боя, Красный город вспыхнул кровью, / Как надежда, рыцарь юный вдруг воспрянувшего мира» [7; 357]. Платоновская перекодировка библейского образа имеет вполне традиционный для эпохи характер. Автор позиционирует «песнь песней» как формулу истинного знания, но изымает из нее (равно как и многие пролетарские писатели) христианский смысл и наполняет новым, антихристианским. Идея новой жизни в истине, которую в данном контексте актуализирует образ «воспрянувшего мира», связывается не с Богом, а с борьбой и деяниями «великого творца» – человека (статья «Преображение», 1920) [8; 19]. Этическая составляющая этого гло- бального революционно-преобразовательного процесса на уровне платоновского метатекста рубежа 1910–20-х годов противоположна смыслам «Песни песней Соломона». Если в Учительной Книге говорится о любви как Божественной Премудрости, что созвучно евангельскому «Бог есть любовь» (1 Ин. 4: 8), то революционный пролетариат, «сын отчаяния… гнева и огня мщения» [8; 27], исповедует ненависть как «высшую любовь» и переименовывает Христа в «пророка гнева» (статья «Христос и мы», 1920).
«Песней песен революции» наряду с «Марсельезой» почитался и «Интернационал». Его восторженную характеристику находим в статье Платонова «Тридцать красных» (1920), где славился «железный, пламенный гимн восстания и победы…» [8; 38]. Эпитет «железный» эмблемирует революционное время («Песнь о железе» В. Кириллова, «Мы растем из железа» А. Гастева и др.). В «Красном Воронеже» в характеристике исполнителей «Марсельезы», героя-«мы», использован образ стали, символизирующий крепость идеи новой жизни и решимость ее осуществить: «Только с сталью вместо сердца, с мудрым мужеством сознанья… мы победу… в лагерь Красный приведем» [7; 362]. Мотив замещения сердца, являющегося духовным центром человека в христианской антропологии [2; 856], «сталью» сознания усиливает антихристианский характер революционного гимна (ср.: «Не псалмы мы будем петь, / А Марсельезу грянем» (Луначарский А. В.; цит. по: [5; 126]). В рассказе «Сатана мысли» о герое, взявшем на себя миссию устроения новой жизни, сказано: «Ему нужно родить для себя сатану сознания, дьявола мысли и убить в себе божественное сердце» [7; 201]. Однако, «объявляя войну старому миропорядку, молодой пролетарский художник Андрей Платонов не объявляет войны его Творцу» [10; 352], ведь ведется война с миром, в котором Бог умер. В обезбоженном мире предметом обожания лирического героя становится машина («Я сердце нежное, влюбленное / Отдал машине и сознанию» [7; 321]). В первой редакции этого стихотворения мотив отказа от любви к ближнему сопровождается введением в характеристику лирического «я» мотива любви к «дальнему», к «царству сознания». В более поздней редакции героический пафос жертвы сердцем во имя торжества сознания сменяет пессимизм: лирический герой уже не видит себя провозвестником нового мира и заключает, что «жизнь цветет без всякого названия» [7; 612]. Образ жизни без названия отсылает, по мнению Е. Яблокова [14; 44], к эпизоду из Книги Бытия (Быт. 2: 20), где человек «нарек имена всем скотам и птицам небесным». В ситуации богооставленности революционный пролетариат, по Платонову, видит опору и надежду на спасение в окружающем враждебном мире не в религии или природе, а в самом себе. Яркий и буквальный пример тому – изобретатель Мар-кун из одноименного рассказа (1920): «Я обопрусь собою сам на себя и пересилю, перевешу все, не одну эту вселенную» [7; 142].
В поэзии тех лет мотивом, близким по смыслу «песне песней» («песне истины»), является мотив музыки машин, вызывающий ассоциации с произведениями композиторов-конструктивистов (А. Мосолов, А. Аврааменко, А. Онеггер и др.), которые активно разрабатывали индустриальную тематику. У Платонова музыка машин также воспринимается как своего рода «песнь песней» новой, пролетарской цивилизации. Пример тому – стихотворение «Песнь» (1919), где песня станка – музыка, объединившая восставших рабочих, – в финале приобретает вселенский масштаб: «Мы рычаг на работу поставим и запоет песни новые… наш мощный станок – Бесконечность!» [7; 358]). Однако в стихотворении «Динамо-машина» (1919) Платонов показывает, что машина, сплачивая вокруг себя людей, одновременно отчуждает их от мира: «Мы до ночи, мы до смерти – на машине, только с ней…»
В стихотворении «Вселенной» (1919) библейский мотив «песни песней» возникает на уровне подтекста. В его первой половине изображено откровенно чувственное влечение «жениха», героя-«массы», к «невесте»-вселенной: «Отдайся сегодня, вселенная, / Зацветай, голубая весна, / Твоя первая песня весенняя / В раскаленных машинах слышна» [7; 402]. Характер отношения героя-«мы» к объекту обожания и приобретающее символический характер время действия прочитываются как аллюзия на «Песнь песен Соломона», где диалог Суламиты и ее возлюбленного также происходит весной. В образе жениха богословы видели жениха божественного – Христа [6; 334]. В христианской традиции любовь царя Соломона и сельской девушки воспринималась как «изображение таинственного союза Мессии-Христа с Церковью» [2; 589]. Платонов в духе перевернутого истолкования библейско-христианской символики поэтами Пролеткульта являет в образе «жениха-мы» «Христа второго» (В. Князев).
В образе вселенной-возлюбленной Е. Антонова видит «невесту-тайну», истину [1; 21, 23].
А. Бухарев, апеллируя к сирскому варианту перевода заглавия первоисточника («Премудрость премудростей»), предполагает, что обладатель истины – «духовный жених» [3]. Невеста же «находится как бы в ночном мраке, не находя у себя своего жениха… мудростью которого она хотела бы овладеть…» [3]. У Платонова взыскует истину «жених». «Жених», революционный пролетариат, предстает живущим без истины, которая существует и растворена вовне – в космически недосягаемом и безграничном пространстве, не структурированном Божественным Логосом. Война, объявленная людьми небу «во имя свое», не дала чаемого: им не удалось устроить Царство Истины. Эту драму означил мотив «гибельной музыки» революционного мира: «Музыка на празднике гибелью гремит. / Ринулись товарищи с улицы на бой. / Далеко, за гибелью, спасение летит / С пополам разрубленной, конченой судьбой» («Судьба», 1920–1921 [7; 398]).
В произведениях первой половины 1920-х годов все сильнее звучит мысль о необходимости человеку слушать сердцем «небесную музыку». О плодотворности «сердечно-музыкального» контакта с космосом говорится в стихотворении «По деревням колокола…» («Слетают звезды с вышины, / И сердце, радуясь, пугается» [7; 612]). Эта гносеологическая стратегия тождественна христианскому способу постижения истины, о котором говорится в одном из фрагментов «Песни песней Соломона», в заглавии которой актуализируется тема «музыки космоса» (оно переводится в том числе как «высокая песнь» [12; Т. 2, 37] и «возвышеннейшая песнь» [2; 589], что вызывает ассоциации с мотивом небесной музыки, то есть высокой в прямом смысле.). Слова «Голос возлюбленного моего… Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя!» (Песн. 2: 8, 10), как полагал священник Д. Сысоев, фиксируют процесс восприятия верующими божественного Логоса [11]. Движение к такому видению отношений человека и мира заметно в стихотворении «В моем сердце песня вечная…» (1921), где рассматриваемый образ-мотив активизирует смыслы, заданные библейским источником: «Голубая песня песней / Ладит с думою моей» [7; 287]. Лирический герой, его внутренний мир, в характеристике которого присутствует христианский мотив музыки сердца («В моем сердце песня вечная» [7; 287]), пребывает в гармонии с «голубой песней песен», то есть музыкой неба, феноменом макрокосма. Ее сакральный характер поддерживается и семантикой эпитета «голубой», который в христианской эстетике считался «наименее материальным и символизировал Святой Дух, а также трансцендентный мир» [4; 43]. Рассматриваемый образ-мотив отсылает к названию первой книги А. Платонова «Голубая глубина» (1922). В развитии музыкального сюжета поэтического сбор- ника, где просматривается неудовлетворенность автора новым революционным мировоззрением и обращение к ценностям «старого» мира, веры отцов, важную роль играет восходящий к Учительной Книге мотив слушания.
О родстве человека и мира идет речь в первых строках стихотворения «Мир родимый, я тебя не кину…» (1922), где образ-мотив «песни песней» приобретает иное звучание: «Песня песней, ты никем не спета, / Оттого не слышу я травы. / Человек мне в поле не ответит, / Некому на жизнь меня благословить» [7; 297]. Неспетая песня песней – признание невозможности окончательного познания человеком всех тайн макро-и микрокосма («сам себе еще я неизвестней» [7; 297]) – синонимична лейтмотиву сокровенности, который имеет библейско-христианские корни. Вводя формулу «неспетой песни песней», Платонов говорит о сокровенности Божественной истины для человека, и косвенно – о ложности пути познания-борьбы. Осознанием трагической ограниченности гносеологических возможностей людей обусловлено присутствие в автохарактеристике лирического героя мотива неслышания, фиксирующего его непонимание даже такого природного феномена, как трава. В то же время пессимизм его признаний об отсутствии в жизни духовной опоры («мне никто пути не осветил», «некому на жизнь меня благословить» [7; 297]) и разрыве связи с миром снимается введением антропомофного образа ветра, который связан с манифестируемой заглавием экзистенциальной установкой «я»-лирического, стремящегося восстановить родство с миром.
В экспозиции рассказа «В звездной пустыне» (1921) мотив неспетой и несложенной песни является частью образной характеристики облаков («Путь облаков тих, как дыханье, как неспетая, несложенная песня, слова которой знаешь втайне» [7; 196]). Образ-литоту, представляющий непознанное человеком небо, неоткрытую вертикаль «голубой глубины» смыслов жизни, сменяет иносказательная формула сокровенности самого человека («слова которой знаешь втайне»), которая воспринимается как знак того, что у человека все же остается надежда на приобщение к «песне песней» бытия.
Особая роль в сюжетах и сложное смысловое наполнение мотива «песни песней» в ранних сочинениях Платонова показывают, что его мировидение соприродно художественному мышлению таких выдающихся представителей музыкального авангарда, как И. Стравинский, А. Веберн и А. Шенберг, осуществивших «эмансипацию диссонанса» (Ю. Холопов).
Признание божественной сокровенности жизни и открытия ее сердцем, а не только мыслью, слушания мира, а не войны с ним, о которых говорится в рассмотренных выше произведениях, обращение к исконным, а не профанированным библейско-христианским смыслам, возвращение к диалогической модели познания – все это предвосхищает сложное введение библейско-христианского контекста в произведения А. Платонова второй половины 1920-х годов, среди которых книга стихов «Поющие думы», повесть «Сокровенный человек», роман «Чевенгур». В «Чевенгуре», как и в «Поющих думах», немаловажную роль играет восходящий к «Песне песней» музыкальный принцип слушания, автор стремится установить диалог со старой культурой. Синтез христианского и революционного просматривается уже в ранних произведениях А. Платонова, где сопряжение библейско-христианских и революционных тем и мотивов осуществляется по принципу контрапункта.
* Статья подготовлена в рамках проекта «Создание и развитие деятельности Центра новых филологических исследований» Программы стратегического развития на 2012–2016 годы «Университетский комплекс ПетрГУ в научно-образовательном пространстве Европейского Севера: стратегия инновационного развития».
Список литературы Лейтмотив «песнь песней» и принципы музыкальности в раннем творчестве А. Платонова
- Антонова Е. В. «Сны его несут далеко» (опыт датировки стихотворений Андрея Платонова)//Известия Академии наук. Сер. литературы и языка. 2004. Т. 63. № 1. С. 14-27.
- Библейская энциклопедия. Репринтное издание. М.: Терра, 1990. 902 с.
- Бухарев А. М. Печаль и радость по слову божию: Очерки священных книг «Плача Иеремии» и «Песни песней», с прибавлением соображений об Апокалипсисе и 3 Книги Ездры. М.: А. И. Манухин, 1865 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dlib.rsl.ru/01003567469
- Гудимова С. А. Музыкальная эстетика. М.: РАН ИНИОН, 1999. 109 с.
- Дрейден С. Музыка -революции. М.: Сов. композитор, 1988. 552 с.
- Песнь песней//Христианство. Энциклопедия: В 3 т. М., 1995. Т. 2. С. 334.
- Платонов А. П. Сочинения. М.: ИМЛИ РАН, 2004. Т. 1: 1918-1927. Кн. 1: Рассказы, стихотворения. 645 с.
- Платонов А. П. Сочинения. М.: ИМЛИ РАН, 2004. Т. 1: 1918-1927. Кн. 2: Статьи. 511 с.
- Соловьев Вл. С. Любовь//Христианство. Энциклопедический словарь: В 3 т. М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. Т. 2. С. 57.
- Спиридонова И. А. Христианские и антихристианские тенденции в творчестве А. Платонова 1910-1920-х годов//Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: Сб. науч. тр. Вып. 1. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. С. 348-360.
- Сысоев Д. Толкование на книгу «Песнь песней». М., 2008 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://orthodoxy33. files.wordpress.com/2011/08/pesn.pdf
- Толковая Библия или комментарии на все книги Священного писания Ветхого и Нового Завета: В 3 т. Стокгольм, 1987.
- Шубин Л. Поиски смысла отдельного и общего существования. Об Андрее Платонове. М.: Сов. писатель, 1987. 365 с.
- Яблоков Е. А. На берегу неба. Роман А. Платонова «Чевенгур». СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. 376 с.