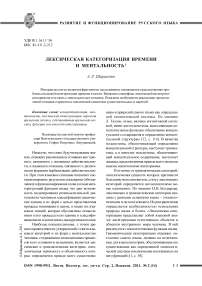Лексическая категоризация времени и ментальность
Автор: Шарандин Анатолий Леонидович
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 2 (14), 2011 года.
Бесплатный доступ
Материалы статьи являются фрагментом исследования, посвященного рассмотрению проблемы языковой категоризации времени в целом. Выявлена специфика лексической категоризации времени и ее связь с ментальностью человека. Показаны особенности реализации представлений человека о времени в лексической семантике существительных и наречий.
Концептуализация, ментальность, лексическая категоризация, наречная временная лексика, субстантивная временная лексика, функции лексической категоризации
Короткий адрес: https://sciup.org/14969548
IDR: 14969548 | УДК: 811.161.136
Текст научной статьи Лексическая категоризация времени и ментальность
Посвящается светлой памяти профессора Волгоградского государственного университета Софии Петровны Лопушанской.
Известно, что слово, будучи языковым знаком, отражает реализацию и сознания как такового, связанного с освоением действительности, и языкового сознания, связанного с различными формами вербализации действительности. При этом языковое сознание позволяет систематизировать результаты называния (обозначения) и функционирования слова в плане категоризующей функции языка, что дает возможность моделирования речемыслительной деятельности человека и классификации лексических единиц и их форм с целью представления процесса номинации в целом, а также тех языковых знаний, которые обусловлены осмыслением этого процесса и его единиц в классификационном и когнитивно-дискурсивном плане.
Наиболее показательными, с точки зрения справедливости утверждений о связи языковых категорий и их форм с ментальностью человека, с отражением эволюционных процессов в его сознании и мышлении, являются лексические и грамматические категории, онтологическая значимость и объективность которых определяется прежде всего существова- нием и природой самого языка как определенной семиотической системы. По мнению Л. Талми, «язык, являясь когнитивной системой, имеет две подсистемы, выполняющие дополнительные функции: обеспечение концептуального содержания и определение концептуальной структуры» [12, с. 114]. В качестве подсистемы, обеспечивающей определение концептуальной структуры, выступает грамматика, а в качестве подсистемы, обеспечивающей концептуальное содержание, выступает лексика, представленная прежде всего теми или иными лексическими категориями.
В отличие от грамматических категорий, онтологическая сущность которых признается большинством лингвистов, статус лексических категорий определяется исследователями менее однозначно. По мнению Н.Н. Болдырева, лексические и грамматические категории связаны с разными аспектами языка – гносеологическим и онтологическим. Их разграничение определяется необходимостью осмысления природы языка и бытия. «Лексическая категоризация представляет собой языковой аналог категоризации естественных объектов и объектов внутреннего мира человека. В ней реализуется гносеологическая функция языка. Грамматическая категоризация отражает онтологию самого языка, деление на естественные для языка категории, обеспечивающие его существование как определенной семиологи-ческой системы и выполнение возложенных на него функций» [1, с. 10].
В этих рассуждениях Н.Н. Болдырева, на наш взгляд, усматривается указание на необходимость учитывать разграничение онтологии мира как такового, как представленного бытием, и онтологии языка как одного из естественных объектов этого мира (бытия). Включая язык в состав естественных объектов действительности (бытия), мы, конечно, имеем в виду его специфичность по сравнению с собственно естественными объектами действительности. Специфичность проявляется в том, что язык не есть вещь, язык не является физическим объектом, подобно собственно естественным объектам бытия. Любая языковая единица предполагает процесс, связанный с деятельностью субъекта. В частности, языковое знакообразование, представленное словопорождением, предполагает процесс обозначения словом того или иного объекта действительности. Этот процесс, естественно, обусловлен определенными механизмами нашей ментальной деятельности, которые задают направления приписывания значения и его означивания в семантической структуре слова. В связи с тем, что только благодаря языку бытие может быть понято человеком, закономерно возникает вопрос о характере семантики, которая репрезентирует сознание в языке: какая семантика отражает бытие, если так можно выразиться, напрямую, непосредственно, а какая – является отражением в слове языковой деятельности, то есть оказывается собственно языковой, имеет интерпретационный характер.
С этой точки зрения лексические значения, отражающие предметы и явления окружающего мира, оказываются его репрезентантами, имеющими аналоговую форму, содержание которой связано с представлениями и понятиями об этих предметах и явлениях действительности. Лексические значения, будучи аналогами естественных объектов, находятся как бы за пределами языка, за пределами слова как языковой единицы. Здесь, вероятно, уместно привести замечание Г.В. Кол-шанского о том, что отношение слова к предмету есть не значение этого слова, а лишь факт номинации – обозначения; значение же слова определяется сигнификатом [6, с. 112]. В принципе это высказывание отражает позицию тех исследователей, которые признают односторонность языкового знака, выводя его содержание за пределы знаковой структуры.
На наш взгляд, необходимо помнить, что, как принято говорить, есть слово и слово . Есть слово как своего рода аналог того объекта действительности, обозначением которого оно является, и есть слово как единица языка, включенная в коммуникативный процесс.
В этом плане показательно отношение исследователей к статусу такого лексического объединения, как тематическая группа. Они отмечают экстралингвистическую направленность ее содержания и считают, что слова в ней оказываются своего рода «слепками», «фотографиями» тех или иных фрагментов действительности. Так, по мнению З.К. Тарланова, «тематические группы слов характеризуют уровень познавательной деятельности народа: что ему известно и отразилось в его языке и что неизвестно, и, следовательно... тематические группы слов – это объединения слов на основе классификации обозначаемых ими предметов и явлений» [13, с. 61]. Например, лексический состав тематической группы «Части человеческого тела» обусловлен физиологической организацией человека, строением его тела, и собственно языковых закономерностей, позволяющих описать связи между словами в тематической группе, по существу, нет. Как отмечает Е.Е. Котцова, «состав тематической группы задается не общим языковым значением, а самой реальной действительностью, объективными отношениями между ее явлениями (денотатами), то есть во многом определяется привходящими внеязыковыми, экстралинг-вистическими, факторами» [8, с. 96].
С другой стороны, лексические обозначения, передавая знание о действительности, оказываются способом трансляции, имеющим языковой характер, поскольку они включаются в коммуникативный процесс, осуществляемый когнитивно-дискурсивным способом. Именно включение в коммуникацию, представленную уже речемыслительными единицами (разными типами высказываний), в которых слово как номинативное обозначение предметов и явлений действительности получает сигнификативное значение, позволяет слову в качестве номинативного знака реализовать свои функциональные речевые возможности, изме- нить статус знака вообще на статус языкового знака как единицы общения. Такое изменение статуса слова сопровождается соотносительностью языковой формы и значения, то есть слово становится единицей языка как коммуникативной знаковой системы. С этой точки зрения примечательна позиция В.В. Виноградова, который писал: «Слова, взятые вне системы языка в целом, лишь в их отношении к вещам и явлениям действительности, служат различными знаками, названиями этих явлений действительности, отраженных в общественном сознании. Рассматриваемые только под этим углом зрения слова, в сущности, еще лишены соотносительности языковых форм и значений. Они сближаются друг с другом фонетически, но не связаны ни грамматически, ни семантически» [3, с. 16].
В результате перед нами самая настоящая антиномия. С одной стороны, лексические обозначения (называния) не есть собственно языковые значения, поскольку представляют собой аналоговую репрезентацию действительности, когда сознание человека направлено на фонетическое (звуковое) оформление называний (ср.: «На “духе” с самого начала лежит проклятие – быть “отягощенным” материей, которая выступает здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков – словом, в виде языка» [9, с. 29]). С другой стороны, лексические обозначения (называния) являются языковыми номинациями предметов и явлений действительности, представляя собой концептуальное содержание, неразрывно связанное с грамматическим оформлением (концептуальной структурой) языкового знака, которое они получают в коммуникации, где сознание человека направлено на использование слова для передачи сообщения в рамках такой речевой (дискурсивной) единицы, как высказывание, имеющей предикативную структуру, что приводит в итоге к его оформлению как когнитивно-дискурсивной единицы языка.
Таким образом, лексическая единица оказывается единством когниции (сознания), номинации (обозначения) и речевой деятельности (коммуникации). Причем когниция, представленная теми или иными ментальными структурами, в отношении к номинации использует фонетические (звуковые) механизмы оформления мыслительного содержания, тогда как в отношении к речевой деятельности реализует дискурсивные (морфолого-синтаксические) способы оформления мыслительного содержания. В первом случае это содержание не есть еще собственно языковое значение слова, оно в большей степени логическое, а во втором – мыслительное содержание может рассматриваться как собственно языковое значение, как собственно лексическое значение, обусловленное включением в коммуникативный процесс. Вот почему многозначность слова – это, скорее, результат речевой деятельности, это «органическое качество естественных языков, позволяющее им служить в качестве первичной универсальной основы обобщающе-абстрагирующего человеческого сознания» [10, с. 223]. С точки же зрения теории обозначений предметов и реалий действительности, то есть знаковой теории, знак не может быть многозначным. Однако, как отмечает М.И. Задорожный, «действительность безгранична, возможности же памяти ограниченны. И если бы в кодовом устройстве языка каждому явлению действительности соответствовала отдельная инвентарная единица, он превратился бы в бесконечный и бессистемный набор этикеток, удержать который ни одно естественное запоминающее устройство было бы не в состоянии» [5, с. 9].
Лексическая категоризация времени предстает, прежде всего, в тематических группах существительных и наречий. При этом важно отметить принципиально различное назначение лексического состава этих групп с точки зрения их участия в категоризации действительности. Для субстантивных образований значение времени, по существу, не является первичным в частеречном содержании, поскольку первичным значением для существительного как отражательной категории является значение субстанции (предмета), существование которой в пространстве определяется временем: предметы существуют в пространстве и во времени. Другими словами, время и пространство есть формы существования материи (субстанции). Как отмечает Г.В. Колшанский, «пространственно-временное ориентирование человека есть практически физический закон существования любого объекта, и естественно, что речевая деятельность человека должна выражать во всех видах коммуникации временное и про- странственное существование предметов и фактов» [7, с. 90]. Именно это отражение пространственно-временных отношений присуще наречию как части речи, которая систематизирует различные способы представления, в данном случае временные, по отношению к предметам и объектам действительности в их связи с различными процессами, характеризующими положение предметов и объектов действительности в пространстве и во времени и выраженными в языке прежде всего посредством глаголов-предикатов. Поскольку речемыслительная деятельность человека связана не только с непосредственным отражением предметов и явлений окружающего мира, но и с представлением их номинаций в форме различных частей речи, то субстантивное оформление позволяет представить время как предметную мыслительную категорию, относительно которой возможна та или иная предикация с целью нейтрализации конкретных временных способов протекания процесса. По мнению В.Г. Руделева и О.А. Ру-делевой, «темпоральных существительных в русском языке нет как таковых; заимствуя субстантивные падежные формы, темпоральные наречия становятся субстантивами только по форме, а в некоторых падежах они словно образуют свои независимые формы, конгруэнтные субстантивным» [11, с. 19]. Однако большинство лингвистов выделяют темпоральные существительные как самостоятельный класс слов наряду с классом наречных слов с темпоральным значением, отмечая порой различия между ними в языковом статусе. Так, по мнению М.В. Всеволодовой, «в отличие от именной темпоральности – категории лексико-грамматической, наречная тем-поральность – система лексическая», которая насчитывает в русском языке, согласно приведенным данным Ф.И. Панкова, около пятисот темпоральных наречий [4, с. 117].
На наш взгляд, лексическое значение времени в грамматической форме существительного позволяет осмысливать время как некий субъект (объект) действительности, интерпретировать время в качестве такого бытия, которое также может существовать во времени, то есть как «время во времени» – ср.: Не думай о секундах свысока // Наступит время, сам поймешь, наверное // Свис- тят они, как пули у виска // Мгновения, мгновения, мгновения (Р. Рождественский).
Другими словами, есть своего рода «время бытия», когда восприятие времени оказывается связанным с существованием предметов и явлений во времени в тех или иных ситуациях. По отношению к ним человек использует точку отсчета – момент речи. Такое восприятие времени, в частности, концептуализируется в грамматике и находит категориальное выражение в грамматических формах глагола. В лексической категоризации времени, представленной субстантивными образованиями, мы имеем, по-видимому, «бытие времени», позволяющее воспринимать время в качестве самостоятельного объекта окружающего мира, что обусловливает включение того или иного временного объекта в ситуацию, имеющую для человека событийный характер. Особенно наглядно представлено восприятие «бытия времени» в поэзии, при художественном осмыслении действительности: Ты, время, дряхлою рукою // Свои часы останови! (Я. Полонский); О, дайте вечность мне, – и вечность я отдам // За равнодушие к обидам и годам (И. Анненский).
Субстантивное оформление лексических временных значений оказывается сферой абстрагирующей функции человеческого сознания, реализация которой находит отражение в характеристиках разных аспектов восприятия и «переживания» времени человеком. Так, Е.С. Яковлева, анализируя с этих позиций слова с семантикой «кратковременность», отмечает, что время в данном случае понимается как качественная категория. «Качественность» времени, по ее мнению, задается событиями, его заполняющими. Именно такое время относится к сфере самосознания человека [15, с. 138]. Рассмотренные Е.С. Яковлевой модели времени на основе семантики слов минута, секунда, миг, мгновение, момент позволили прийти к выводу о том, что эти модели задают три различные интерпретации событий на базовом интервале времени: 1) «бытовое», «повседневное» (минута, секунда) – бытовое время принадлежит человеку, поддается счету, измерению и проявляется в повседневной его жизни; 2) «исключительное», «надбытовое» (миг, мгновение) – события этого времени выведены из круга повседневности: они уни- кальны, незабываемы, особо значимы (соотносятся с духовной сферой человека); 3) «рациональное», «аналитическое» (момент) – время фиксирует стечение обстоятельств и сплетение событий разной природы и масштаба. Наиболее ярко, считает Е.С. Яковлева, особенности показателей разных временных систем проявляются в контексте предикатов «наступления» (наступила, пришла, приближалась, настанет и т. д.) [15, с. 138–141].
Идеографическое представление времени в аспекте категоризации мира в виде списка категорий разного уровня и значимости, на основе которых осуществляется концептуализация мира, представлено в проспекте словаря «Концептосфера русского языка: Ключевые концепты и их репрезентация» под редакцией проф. Л.Г. Бабенко (Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. – 340 с.). Время как базовая лексическая категория включено авторами данного проспекта в отображающую эту естественную категорию и концептуализирующую ее денотативную сферу «Восприятие окружающего мира», где временная лексика систематизирована по шести группам ( счет времени; промежуток времени и единицы измерения времени; периодизация; время относительно момента речи; время по отношению к какому-либо процессу, действию; оценка факта, события, явления относительно времени ), некоторые из них подразделяются на подгруппы (например, последняя включает следующие подгруппы: медленно / быстро; постоянно / иногда; долго / коротко; синхронно / асинхронно; вовремя / невовремя ).
Не вдаваясь в сопоставительный анализ данного материала в различных словарях, отметим, что в «Большом толковом словаре русских существительных: Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы» под редакцией проф. Л.Г. Бабенко (М. : АСТ-Пресс, 2005. – 864 с.) сфера «Время» представлена 3 группами и 11 подгруппами, а в «Русском семантическом словаре» под редакцией акад. Н.Ю. Шведовой (В 6 т. Т. 3. – М. : Азбуковник, 2003. – 720 с.) лексический класс «Время», репрезентированный абстрактными существительными, включает 38 семантических групп; лексически выраженное время в них отражает номинацию «бытия времени».
Что же касается наречных средств с лексическим значением времени, то они, будучи обстоятельственными членами высказывания, выполняют категоризирующую функцию, выступая в качестве лексических конкретизаторов темпоральных отношений. Как пишет А.В. Бон-дарко, могут быть выделены два основных типа их функций: 1) функция дополнительной конкретизации тех обобщенных дейктических темпоральных отношений, которые выражаются грамматическими формами времени или имплицируются другими типами предикатов; 2) функция основного обозначения темпоральной отнесенности ситуации в тех случаях, когда предикат не имеет собственной устойчивой темпоральной характеристики [2, с. 53]. При этом, по его мнению, особо необходимо выделить строевую грамматическую значимость «темпоральной обстоятельственной лексики»: «Лексический показатель при формировании высказывания может “задавать” временной план, требующий определенного выбора временной формы, – той именно, которая по своему временному значению соответствует значению обстоятельственного темпорального показателя. Так, если говорящий начал высказывание с обстоятельства вчера ..., то далее он может употребить формы прошедшего времени или формы настоящего времени в функции настоящего исторического» [там же, с. 54]. Поэтому А.В. Бондарко приходит к выводу, что «без лексических средств полная реализация функций выражения времени, адекватная потребностям речевой коммуникации, была бы невозможна» [там же, с. 55]. Тем не менее лексические показатели времени, имеющие конкретизирующий характер по отношению к глагольным формам времени, он относит к периферии поля темпоральности в русском языке, поскольку приоритет в выражении временных отношений отдается грамматическому времени.
Грамматическая категоризация времени была подробно нами рассмотрена в статье «Языковая категоризация времени как отражение русской ментальности», опубликованной в сборнике «Слово в языке и тексте», посвященном 85-летию со дня рождения С.П. Лопушанской. В выводах, в частности, было отмечено, что центральное место в системе языковых средств объективации времени занимают грамматические категории времени синтаксического и морфологи- ческого типа, которые связаны с восприятием и выражением внешнего времени. При этом они обнаруживают определенную взаимосвязь и взаимодействие с категорией вида, выражающей протекание внутреннего времени. Сущность этого взаимодействия определяется интеграционными связями, которые предполагают согласование внешнего и внутреннего времени в тех или иных формах категорий грамматического времени (синтаксического и морфологического) и категории грамматического вида [14].
В целом же подчеркнем, что репрезентация времени в русской языковой картине мира осуществляется посредством различных языковых средств, отражающих многообразие категоризации времени как формы существования бытия и мира, ее связи с жизнедеятельностью народа и с восприятием человеком временных отношений.
Список литературы Лексическая категоризация времени и ментальность
- Болдырев, Н. Н. Языковые категории как формат знания/Н. Н. Болдырев//Вопросы когнитивной лингвистики. -2006. -№ 2. -С. 5-22.
- Бондарко, А. В. Темпоральность/А. В. Бондарко//Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. -Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1990. -С. 5-58.
- Виноградов, В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове/В. В. Виноградов. -М.: Высш. шк., 1972. -616 с.
- Всеволодова, М. В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса/М. В. Всеволодова. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. -501 с.
- Задорожный, М.И. О границах полисемии и омонимии/М. И. Задорожный. -М.: МГУ, 1971. -71 с.
- Колшанский, Г. В. Лингво-гносеологические основы языковой номинации/Г. В. Колшанский//Языковая номинация (общие вопросы). -М.: Наука, 1977. -С. 99-146.
- Колшанский, Г. В. Объективная картина мира в познании и языке/Г. В. Колшанский. -М.: Наука, 1990. -103 с.
- Котцова, Е. Е. Лексическая семантика в системно-тематическом аспекте/Е. Е. Котцова. -Архангельск: Помор. гос. ун-т, 2002. -203 с.
- Маркс, К. Немецкая идеология/К. Маркс//Сочинения. В 50 т. Т. 3. -2-е изд. -М.: Политиздат, 1955. -630 с.
- Никитин, М. В. Курс лингвистической семантики/М. В. Никитин. -СПб.: Науч. центр диалога, 1997. -760 с.
- Руделева, О. А. Существительное и наречие (на материале русского языка)/О. А. Руделева, В. Г. Руделев//Вестник Воронежского университета. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». -2010. -№ 2. -С. 17-23.
- Талми, Л. Отношение грамматики к познанию/Л. Талми//Вестник Московского университета. Сер. 9, Филология. -1999. -№ 1. -С. 91-115.
- Тарланов, З. К. Методы и принципы лингвистического анализа/З. К. Тарланов. -Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. гос. ун-та, 1995. -189 с.
- Шарандин, А. Л. Языковая категоризация времени как отражение русской ментальности/А. Л. Шарандин//Слово в языке и тексте: сб. ст. к 85-летию со дня рождения Софии Петровны Лопушанской. -Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2011. -С. 367-383.
- Яковлева, Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия)/Е. С. Яковлева. -М.: Гнозис, 1994. -343 с.