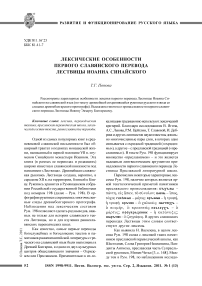Лексические особенности первого славянского перевода Лествицы Иоанна Синайского
Автор: Попова Т.Г.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 1 (13), 2011 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены характерные особенности лексики первого перевода Лествицы Иоанна Синайского на славянский язык (по тексту древнейшей сохранившейся рукописи русского извода со следами древнеболгарского протографа). Высказана гипотеза о принадлежности первого славянского перевода Лествицы Иоанну Экзарху Болгарскому
Лексика, переводческая техника, преславская переводческая школа, лексический состав текста, раннеславянские переводы
Короткий адрес: https://sciup.org/14969537
IDR: 14969537 | УДК: 811.1625
Текст научной статьи Лексические особенности первого славянского перевода Лествицы Иоанна Синайского
Одной из самых популярных книг в средневековой славянской письменности был обширный трактат о подвигах монашеской жизни, написанный в первой половине VII в. игуменом Синайского монастыря Иоанном. Эта книга (в разных ее переводах и редакциях) широко известна в славянской книжности под названием «Лествица». Древнейшая славянская рукопись Лествицы создана, вероятно, в середине XII в. на территории, близкой к Киеву. Рукопись хранится в Румянцевском собрании Российской государственной библиотеки под номером 198 (далее – Рум. 198). В орфографии рукописи сохранились многочисленные следы древнеболгарского протографа. Наблюдения над лексическим составом Рум. 198 позволяют сделать ряд выводов, важных не только для истории славянского текста Лествицы, но и для изучения раннеславянских переводческих школ.
Как известно, самые первые переводы богослужебных и богословских текстов и памятников ранневизантийской литературы с греческого на славянский язык были выполнены в Древней Болгарии, в одном из двух культурных центров общеславянского значения – Охридском или Преславском. Применительно к их ло- кализации традиционно используют лексический критерий. Благодаря исследованиям В. Ягича, А.С. Львова, Р.М. Цейтлин, Т. Славовой, И. Доб-рева и других лингвистов науке известны довольно многочисленные пары слов, в которых одно связывается с охридской традицией («охридиз-мы»), а другое – с преславской традицией («пре-славизмы»). В тексте Рум. 198 функционирует множество «преславизмов» – и это является надежным лингвистическим аргументом принадлежности первого славянского перевода Ле-ствицы Преславской литературной школе.
Перечислим некоторые характерные лексемы Рум. 198, наличие которых является яркой текстологической приметой памятников преславского происхождения: бъх^мд - navTn , е г ^ anav, то o u voXov; вдень - сош^, та/a ; гол^мын - цеуа^ ; кръмдга - и троф)^, т) трифл; кр^унн - о /аХке и ^; пдетоух^ - о noipqv, о лроЕотоз^; посдоух^ - о царти^; пооуврь^еннк - т) KaTavu^i^; шдръунн - о Сшурафо^ . В других славянских переводах Лествицы этим словам соответствуют другие лексемы.
Как выявила Н. Василева, в целом лексика Рум. 198 схожа с лексикой таких памятников преславской переводческой школы, как Шестоднев, Слова Григория Назианзина, Пандекты Антиоха, преславская часть Супрасль-ской рукописи, Минеи Четьи [3, с. 168]. Между тем в Рум. 198, по наблюдениям исследо- вателя, имеются и слова, не встречающиеся в других преславских памятниках, например: кръшьнга - р nuYPi; новакъ - о архаТо^; Хлоупьць (хл^бьнын) - о прооагтп^ (см.: [3, с. 171, 172]).
Обилие «преславизмов» в Рум. 198 позволяет однозначно определить локализацию первого перевода Лествицы. Она, как и всякий древний текст, имеет сложный и смешанный по своему происхождению лексический состав. По замечанию Л.П. Жуковской, «в первых сохранившихся памятниках можно пытаться определять солунские, моравские, паннонские, плисковские... древнерусские... хорватские... охридские, преславские... вторичные древнерусские... языковые особенности»; однако «сводить все многообразие лексических вариантов... только к охридизмам, преславизмам или моравизмам... явно недостаточно» [5, с. 469]. Кроме «преславизмов», в Рум. 198 функционируют и лексемы другого происхождения, например, моравизм раунтн - avs/opai, фиш , который встречается в Синайском Патерике и Номоканоне Мефодия [6, с. 152]. В Рум. 198 имеется и такое слово, как вьрста - q pXiKia , а это «характерная древнерусская лексема» [7, с. 70]. Думается, что факты единичного употребления «не-преславских» слов в несомненно пре-славском памятнике восходят не к протографу перевода, а к промежуточным спискам, писцы которых отразили в рукописях черты своей речи. Древнейшая рукопись перевода, Рум. 198, была написана примерно через полтора-два века после выполнения этого перевода; за это время первоначальный текст перевода не мог не претерпеть изменений.
Лексический состав Рум. 198 чрезвычайно богат и разнообразен. Лествица как памятник, который служил энциклопедией духовной жизни христианина, сохранила множество слов, относящихся к религии, церковному быту, философско-моральной сфере человеческой жизни.
Для обозначения монастырской общины употребляются слова манастырб - то Koivoeiov , то м.ovaoтr]plov , и M-ovi у, окырек ЖНЛНфв - то Koivoeiov , ОКБ щек жнтнк - то Koivoeiov , иноубство - и M-ovi у. Глава этого учреждения именуется старейшина - о ap/ov, о psYa^, о прoEoтc6^ , вышестомкн- O ПрOEOT6J^, О ПрOEOTnK6J^ , нгоуменъ -
С> П YoOM-Evo^, о ЯpOEOT(D^ , ПАсТоух^ - О ЛpOEOT(D^ , старен - О ЛpOEOT(й^ , О HYEMOW . Жилище монахов называется клеть - р KsXXa , то keXXiov, р M-ovi у, котика - p KsXXa , Хлевина - p KsXXa , то keXXiov .
В памятнике функционируют лексемы, обозначающие род деятельности живущих в монастыре иноков: Архндн!акъ - о dp/iSiaKovo^ , ПрнСТАВБННКЪ - О ПpOEOT(D^, О ПpOEOTnK(D^ , COKAVH н ( сокаунннъ ) - тov) ovonoiov , СТрОНТбАБ - о olKovOM-o^ , ВрАТАрБ - О Зиршро^, О ПиХшрО^ , рАКОТБННКЪ - о иппретп^, о пеируо^ , слоуга - о SiaKovo^, о SiaKovcov, о оппретп^, о unoupyo^ , ГОсТНТбЛБ - о еоткхтшр , НАМ'ксТБННК^ - τοποποι ς . Монашествующее лицо именуется ннокъ - о pova/o^ , ннокын - о pova/o^ , vрьньцБ - о M-ova/o^ . Человек, только что ступивший на путь отречения от мира, называется новакъ - odp/aTo^ , нововъведын - ε σαγωγικ ς .
Аскетическая терминология Лествицы отличается военной и спортивной образностью. Некоторые из подобных выражений восходят к посланиям апостола Павла, например, броня веры (ср.: 1 Фес 5, 8). Монах как духовный воин должен быть хорошо вооружен: он должен иметь броню железную кротости и терпения , меч духовный для умерщвления собственной воли , щит истинной веры , шлем спасения – молитвы наставника и оружие – собственные молитвы. Для обозначения инока Лествичник использует ряд лексем с семантикой ‘борец’: о аЭХптт|^ - сТрас- тотрбпбцб или сТрадААБЦБ , о noXEM-iori^ - КОрБЦБ , О eiaon^ - НОуЖДБННКЪ . Помимо этого, Лествичник называет монаха π κτης (‘кулачный боец’) - троудьннкь , пастыря именует о YUM-vaon^ (‘тренер бойцов’) - оуунтеАБ, окучАНБНикъ - и о dуrovo9£тn^ (‘устроитель, распорядитель, судья спортивных состязаний’) – Трн^НОПОАОЖБННКЪ и троудоположБннкъ .
Довольно разнообразна лексика, именующая нечистую силу. Против монаха изощренно действуют дьявол ( дн!аволъ - о SideoXo^ ) и его свита, к!;сн - o'i. SaipovE^ : бес печали, бес уныния, бес объядения, блудный бес, бес гордости, бес сребролюбия, бес идолопоклонения. Бесы объединяются в борьбе против человека: например, бес чревообъ-
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ядения, после того как заставит монаха пресытиться, посылает на него беса блуда: б'ёст въ сырной | сЬднть н не насытн | тн с# улв коу творнть • l Афе н вьсь егуптъ Н z^ | сть • Н ННАТ НСПНКТВ • l по БрЛШН'Ё (9 ходить не | подокьнъв+ н Блоудь | нын намт ПоСТЛКтЫ ^АПОВ^ДАВТ емоу БЪ|ВТША# ^ ндн иди въ^мути того (93в, 11-21).
Заметим, что в целом ряде случаев название того или иного беса выпущено (думается, что писцом этого или другого списка) – в результате в отдельных фрагментах текста возникает «темнота» и «маловразумитель-ность» перевода (ср.: [4, с. 203, 204]), напр.: tov napovTa цuploк£фaXov 8а(цova фlXapYupac; evtcxtteiv - соуфААго МHWГОГЛА | ВЬHАГО • въуннглюты (110б, 10-11); dvaTpsnEiv tov тис nopvaaq Saipova - въ^дьржАтн Б'Ъ | са (98а, 15-16); ек той anaTErovog Trig кapS^ag, таи Trig nopvEtag 8ai' ^ovo^, пЕфикао! т{ктЕоЭа1 - <9 ПреЛЬСТЬННКА | СДДУНАГо ^ БЛоуДНАА | го рАЖА-ют • с# (109а, 17-19) и т. д. При чтении рукописи иногда возникает такое впечатление, как будто писец специально пропускал слова, относящиеся к нечистой силе. Более того, представляется, что избегают прямых наименований дьявола, беса не только переписчик текста, но и его автор, и его переводчик, ср.: дьявол назван о щоокаХо^ - ненАвнд#н добра (46в, 7-8), бес - о dvooiog - неподоБьнын (93в, 16-17), о фovlog - рА^Бонннкъ (99б, 1617), оуБнвьцА (85г, 11-12), о AtyunTiog - еггпьтнн (101а, 12), о Xuкog - влькъ (101а, 17), о dnaTEcov - льстьць (104а, 21).
В рукописи функционирует лексика различных тематических групп. Множество слов передает уклад жизни в монастыре: моантва - И Sdnoig, л е^хл, Л i^oia, Л npooEuxл, съБоръ - л ouvaywyn, л ouvddpoioig, л ouvoSia, л ouvoSog , съБьрАннк - л ouva^ig, то ovvaктrjplov , съхожденнк - л ouva^ig, Л ouvoSog , пктнк - л pEXqrSia, о ^aX^og, Л VaXpqrSia , пкннк - л vaX^Sia , тр#пе^А - Л TpanE^a и т. д.
Из «нецерковной» лексики в тексте часто встречаются наименования животных ( львъ - о Xswv , леопАрдъ - о XEonapSog , влькъ - о Xuкog , пьсъ - о кuшv , анснца -Ла Xconn^ , днвнн осьлъ - о ovaypog , ^А1лць - о Xayrog , овьца - то npopaTov , го-
ЛоуБЬ - Л nEpioTEpа, гастр#Бъ - о nspSi^ , коур# - о opvig , въшь - о ф9E^p, л ф9ETpa , БъуедА - л psXiooa , оса - о oфrj^) и растений ( пьшеннцА - о oTTog , ^рьно - л ра^, плава - о xopTog , С'кно - о xopTog , трАВА -о xopTog , днвнга маслина - о dypieXaiog , доБрАга маслина - о кaXXl£Xalog ) и т. д.
В Рум. 198 функционируют и медицинские термины ( мнанк - л ppXn - ‘хирургический зонд’), обозначения врачебных манипуляций ( прнлогъ - р EpnXaoTpov, л лpoo9rjкn , прнложеннк - р EpnXaoTpov, р npoopoXл, прнл'Ёплкннк - л spnXaoTpov ), названия болезней ( гаавобоанк - р кEфaXaXY^a , огнь -о nupETog - ‘лихорадка, горячка’, внтнк оутроБ'к - о oтpoфog - колики, резь в животе’) и т. д.
В сравнениях часто используется астрономическая лексика ( дбнбннца - о £шoфopog , СВ'ЁтоноСБЦБ - о Eшoфдpog , ЛоуНА - р oEXpvn , САъньце - о r^Xiog ).
Наблюдения над лексическим составом древнейшей славянской рукописи позволяют выдвинуть одну важную для истории славянского текста Лествицы гипотезу – о возможной принадлежности преславского перевода памятника выдающемуся деятелю золотого века болгарской литературы Иоанну Экзарху Болгарскому. Такое же предположение высказывала Н. Василева [3, с. 111], однако в ее работе отсутствует аргументация этой идеи. Приведем некоторые доказательства, свидетельствующие о том, что переводческая манера автора первого славянского перевода Лествицы обнаруживает большое сходство с переводческой техникой и словоупотреблением Иоанна Экзарха, переводы которого не похожи ни на какие другие раннеславянские переводы и представляют собой совершенно особое направление средневековой переводческой техники.
Главным отличием переводов Экзарха от переводов Кирилла и вообще главной их характеристикой, по мнению Э. Ханзака, является наличие у Экзарха большого количества переводческих дублетов – пар славянских слов, переводящих одно греческое слово [12, S. 20]. М.И. Чернышева, принимая точку зрения Э. Ханзака, делает весьма существенные уточнения: один член пары при этом представляет собой этимологический экви- валент (Экзарх «воссоздает внутреннюю форму слова через повторение в переводящем языке внешней формы слова исходного языка... причем внутренняя форма ориентирована на внеконтекстуальную семантику корня, что и есть этимологизация»), другой член пары представляет собой семантический эквивалент, то есть «слово, отражающее контекстуальную семантику» [10, с. 70]. В преславс-ком переводе Лествицы функционирует большое количество таких лексем. Приведем несколько примеров переводческих дублетов (первый член пары – этимологический эквивалент, второй – семантический эквивалент): кaтaXaXld - огллголлннк, клеветлннк; епютатп^ - прнстлвьннкъ, оуунтель; £YKaXXoniZo^i - оукрлснтн, оудокрнтн; oi YoveT^ - родители, срвдоволеа; dKvnTo^ -неподвнжьнын, нерл^гонн^ъин; d3^oтaктo^ -некол^Блдн с#, нстовъih; обокгцад - ненско-усьнын, неклюунмъih; dpvnpovEO - не по-мдноутн, ^лБывлтн; егоофбро^ - св^то-носьць, ДБНБННЦА; фOVlO^ - ОуБНВБЦА, рл^БОнннкъ и т. д.
В переводах Кирилла встречается большое количество двуязычных дублетов : пар слов, одно из которых по происхождению греческое, другое – славянское; таким образом, переводчик расширяет кругозор читателя, знакомя его с греческим словом, поясняемым словом родного языка, поэтому переводы Кирилла именуются энциклопедическими . Очевидно, что Иоанн Экзарх был хорошо знаком с переводческими приемами Кирилла, и «заметно его стремление искать собственные переводческие решения» [там же, с. 71]. В отличие от переводов Кирилла, в переводах Иоанна Экзарха двуязычных дублетов немного. По предварительным наблюдениям, в тексте преславского перевода Лествицы можно отметить только 4 случая функционирования двуязычных дублетов : еп1Т1ц{а - кпнтнмнеа, пр^щеннк ; sovouxo^ - коуно-УХ^, рлБНУИфь ; Kovrov - клнонъ, оуп-рлвлкннк , napdSsioo^ - породл, рлн .
Вообще, число иноязычных слов у Иоанна Экзарха невелико (например, в «Богословии» их всего 66, и подавляющее большинство – имена собственные), при этом фонетическая и морфологическая вариантность в иноязычных словах отсутствует [там же, с. 69–70]. В пре- славском переводе Лествицы неславянских слов также крайне мало, по нашим предварительным подсчетам - 29: лмннъ - d^qv, лнгелъ - ’ AyysXo^, лпостолъ - ,'AпooтoXo^, лрхнднгакъ - dpxlЗldкovo^, лспндл - doni^, днгаволъ - SideoXo^, кпнтнмига - sniTipia, клнонъ - Kavdv, клснтеръ - кaoa^тnpo^, кркстшлн^ - XpioTiavo^, леоплрдъ -XsonapSo^, лнтрл - X^тpa, млмонл -papcovcd, млнлстырь - цovaoтr|plov, мнлнк -pnXn, поллтл - пaXdтюv, породл - napadstoo^, пре^вгтеръ - пpЕoвuтЕpo^, псллтырь -TaXrripiov, смлрлгдъ - opdpaYSo^, стнх^ -otixo^, схоллстикъ - oxoXaoTiKO^, трдпе^л -TpdnsZa, флрлонъ - Фаров, флрнс'Ън -Фарюаю^, философа - фlXoooфo^, хлртнfa -Хартп, ^гмнлмъ - 9иц{аца, кунух^ -ε νο χος. Остальные заимствования представляют собой имена собственые (Лввлкгръ, Лдлмъ, Лклкнн, Лмалнкъ, Антиох^, Лснга, Ве-селенлъ...).
Э. Ханзак заметил у Иоанна Экзарха интерес к этимологическим экспериментам [12; 13]. Формально этот интерес выражается в насыщении текста этимологическими фигурами. Довольно часто в переводном тексте функционируют этимологические фигуры, в то время как в оригинальном тексте таковые отсутствуют: еvvoiav <...> Ss^dpsvo^ - помыслл <...> помышлгавъ (31в, 4-7); то Зраца <...> nsnoinKsv - сътвореное <...> сотвори (35в, 15-17); bpvov тш Кирив aoai - п±л Foy пЬтн (107г, 1-2); тр^ ар(отп^ npSv катаотаоЕЮ^ - строннлго нлшего оустроеннга (105г, 7-8 и т. д.).
Особое внимание Иоанн Экзарх уделяет семантике слов. Так, в переводе Шестоднева, по наблюдениям Г.С. Баранковой, он выстраивает и объясняет иерархию тех или иных понятий применительно к разным субъектам: пророкам, апостолам и Богу, а также Богу и человеку [2, с. 13]. В Лествице также имеется весьма любопытный факт: глагол βο λοµαι обычно переводится как хот^тн ( въсхот^тн ), однако, если речь идет о желании Господа или пастыря, в рукописях преславского перевода ему, как правило, соответствует вел'Ьтн .
Излюбленным методом перевода Экзарха является калькирование [там же, с. 14]. В переводе Лествицы функционирует большое количество калек: dYYsXoпpЕпrj^ - лнге-аоа'ёпбнъih, dpyoXoY^a - прл^дьнословнк, dvTiKaTaXXayrj - согпротнккпр к^ кнкннк, dфlXdvЗpшпo^ - нбУлов'кколюБнвын, Ynndvo^ - ^емлкд^льннкъ, SiKaioXoyia -прАвьдословнк, suKaTaoTaTo^ - докр^оуст-рокнын, ETEpoKivnTo^ - ннкллн подвн-^акмъih, Зavaтnфopo^ - съмрьтоноснвын, Заицатопою^ -уоудотворьннкъ, к£фаХаХу{а - гаавокоанк и мн. др.
Иоанн Экзарх был не только «широкообразованным переводчиком», но и «писателем с поэтическим дарованием» [1, с. 181– 182]. Приведем несколько примеров, характеризующих этот аспект деятельности первого славянского переводчика Лествицы. Прежде всего, представляется, что славянский текст Лествицы в отдельных местах наполняется гомеотелевтонами, отсутствующими в греческом источнике: Movaxo^ eoti, KaTtoSuvo^ уихл, ev SinvsKsi pv^gT) SavaTou d5oAs<таou<тa, sYpn/opuTd te Kai bnvaiTTOVoa - ннокъ есть ^ бол^ньна дша ^ въ непрестАньн^ памдтн съмьртьнt СКВрВДфН Н СЪПДфН Н ВЪДДфН (8 об.), Vu/тк фматф/и voo^ фиХак - дшн сват-нло - оумоу хранило (94 об.) и т. д.
Чуткий переводчик Лествицы обращал внимание не только на смысловую, но и на звуковую сторону текста. При чтении рукописей преславского перевода Лествицы возникает ощущение, что переводчик как будто намеренно пытается использовать повторяющиеся слоги и звуки при передаче текста, не содержащего никаких фонетических повторов: про^ Tipv Ssiav SiunviZsiv eYPHYopoiv - на вожъствьное въ^воужатн- оувоужденне (27 об.), nuYEi о Xuxvog таи фшто^ аатои - просв^фаше сд ^ св^фа св-Ьтлагд кго (60б), to napsipsvs каг ekXute - w расдавдендй - н осдавдкна (90), x®pU /dp штрои, ondvioi oi Sspansuopsvoi - ке^ врауа ко ркдъцн врауоуемн (42 об.) и т. д. За счет введенных переводчиком повторов перевод приобретает выразительность и емкость, а в некоторых случаях вообще воспринимается как пословица.
Переводческую и литературную деятельность Иоанна Экзарха характеризует наличие некоторых «его» слов: так, например, давно отмечено, что он употреблял в значении ‘священник’ для перевода греч. ispsu^ слово унстнтель [9, с. 9], что он нередко употреблял союз тн вместо н [14, S. 348]. В тек- сте преславского перевода Лествицы находим многочисленные примеры функционирования названных лексем: прннесе самъ сд• къ велнкоумоу унттеелю жъртвоу (1 об.), внд'кхъ стАрьцеа ниттеедгд (91 об.), рАЖДН^АЮфАД• тн снце осЛАЖАЮфАГа (92), Аф е ah (SvAfAHHe текt ~m е тн то О Б'ксъ (22 об.), кърмьннкА въспытанмъ• н н^ъоупрАШАнмъ• тн да н снце рекоу нск^сн^ъ (24) и т. д.
Иоанн Экзарх, по наблюдениям Н. Василевой, отдает предпочтение абстрактным существительным на -ъ ( -ь ) [3, с. 167-168]. В тексте Лествицы находим множество таких примеров: aeuooo^ - ке^дьнъ , aYvoia - невесть , atoxuvn - срА^ъ . yvtooig - в^Ьдь , Зеоцо^ - съвоу^ъ , KaKa - ^ълокь , ^ъль , KaKov - ^ъль , фavтao^a - мьуьтъ , ou/Kpaoi^ - съ^ксъ , (хф|у - осдгъ и т. д.
Сравнение нашего словоуказателя к Рум. 198 и словоуказателя к русской рукописи Шестоднева (по изданию Шестоднева Иоанна Экзарха Болгарского по спискам ранней русской редакции, подготовленного Г.С. Баранковой, см.: [11, с. 611–727]) показывает, что в Рум. 198 функционирует множество лексем, общих для переводов Шестоднева и Лестви-цы. Разумеется, многие из этих слов были широкоупотребительны в литературном языке второй половины X в.; однако представляется, что значительная часть этих слов характеризует переводческую деятельность Иоанна Экзарха. Чрезвычайно показательны, как думается, случаи одинакового описательного перевода (типа ке^ в'кстн творнтн - d^aviZ® , женьскын полъ - то SipXu , ^ълокь дрьжАтн - pvnoiKaKso , въ л^потоу - eikoto^ , ке^ но-уждд - dpiaoTo^ и т. д.).
Сравнение оригинального и переводного текстов однозначно свидетельствует о том, что первый славянский перевод Лествицы выполнен на высоком уровне и в целом ряде фрагментов текста по выразительности и богатству приемов он даже превосходит оригинал – именно благодаря личностным решениям переводчика (см. об этом: [8, p. 164–169]).
Таким образом, наблюдения над лексическим составом древнейшей славянской рукописи Лествицы показывают, что преславский перевод Лествицы вполне может принадлежать если не самому Иоанну Экзарху, то, во всяком слу- чае, переводчикам его школы: в переводе отражены основные принципы переводческой деятельности Иоанна Экзарха Болгарского – чуткого, талантливого художника слова.
Список литературы Лексические особенности первого славянского перевода Лествицы Иоанна Синайского
- Ангелов, Б. Ст. Йоан Екзарх/Б. Ст. Ангелов//Език и литература. -1953. -№ 3. -С. 174-182.
- Баранкова, Г. С. Историко-культурное значение Шестоднева Иоанна экзарха Болгарского/Г. С. Баранкова//Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. Ранняя русская редакция/изд. подгот. Г. С. Баранкова. -М.: Индрик, 1998. -С. 9-14.
- Василева, Н. «Лествицата» и преславската редакция на старобългарския книжовен език/Н. Василева//Преславска книжовна школа. -Т. 6. -София, 2002. -С. 165-175.
- Горский, А. В. Описание славянских рукописей Московской Синодальной (патриаршей) библиотеки. Отд. II. Писания святых отцов. Ч. 2. Писания догматические и духовно-нравственные/А. В. Горский, К. И. Невоструев. -М., 1859. -687 с.
- Жуковская, Л. П. Об исследованиях по старославянскому языку/Л. П. Жуковская//Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. -1974. -Т. 33, № 5. -С. 465-471.
- Иванова, Т. А. Заметки о лексике Синайского патерика (к вопросу о переводе Патерика Мефодием)/Т. А. Иванова//Проблемы современной филологии: сб. ст. к 70-летию акад. В. В. Виноградова. -М.: Наука, 1965. -С. 149-152.
- Молдован, А. М. Лексический аспект в истории церковнославянского языка/А. М. Молдован//Вопросы языкознания. -1997. -№ 3. -С. 63-75.
- Попова, Т. Г. Слово о послушании Иоанна Синайского (по тексту древнего славянского перевода Лествицы)/Т. Г. Попова//Palaeоsla-vica. -2007. -Vol. 15. -Cambridge (Mass.). -Р. 160-259.
- Соболевский, А. И. Древняя церковнославянская литература и ее значение/А. И. Соболевский. -Харьков, 1908. -22 с.
- Чернышева, М. И. Некоторые соображения по поводу группировки раннеславянских переводов с греческого языка по переводческим приемам/М. И. Чернышева//Византиноруссика. -1994. -№ 1. -С. 62-75.
- Шестоднев Иоанна Экзарха Болгарского. Ранняя русская редакция/изд. подгот. Г. С. Баранкова. -М.: Индрик, 1998. -768 с.
- Hansack, E. Die theoretischen Grundlagen des Übersetzungsstils des Exarchen Johannes/E. Hansack//Die Welt der Slaven. -1981. -Bd. XXVI. -S. 15-36.
- Hansack, Е. Zum Übersetzungsstil des Exarchen Johannes/E. Hansack//Die Welt der Slaven. -1979. -Bd. XXIV. -S. 121-171.
- Jagič, V. Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache/V. Jagič. -Berlin, 1913. -540 S.