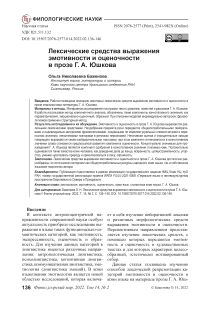Лексические средства выражения эмотивности и оценочности в прозе Г. А. Юшкова
Автор: Ольга Николаевна Баженова
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 2 т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение. Работа посвящена описанию некоторых лексических средств выражения эмотивности и оценочности в прозе классика коми литературы Г. А. Юшкова. Материалы и методы. Материалом исследования послужили тексты романов, повестей и рассказов Г. А. Юшкова. В работе использован метод компонентного анализа, обозначены такие компоненты коннотативного значения, как параметрический, эмоционально-оценочный, образный. При описании моделей индивидуально-авторских фразеологизмов применен структурный метод. Результаты исследования и их обсуждение. Эмотивность и оценочность в прозе Г. А. Юшкова выражаются раз- личными лексическими средствами. Неодобрение предмета речи передается общеупотребительными пейоративами и индивидуально-авторскими фразеологизмами, созданными по моделям узуальных словосочетаний в переносном значении, лексическими повторами в репликах персонажей. Негативная оценка и отрицательные эмоции говорящего выражаются также изобразительными глаголами, при этом компонент интенсивности в коннотативном значении слова становится предпосылкой развития компонента оценочности. Концептуально значимым для произведений Г. А. Юшкова является компонент одобрения в коннотативном значении этнонима коми. Положительно оцениваются такие качества коми человека, как доведение дела до конца, искренность, целеустремленность, упорство, умение чувствовать природу и ориентироваться в лесу, скромность. Заключение. Лексические средства выражения эмотивности и оценочности в прозе Г. А. Юшкова достаточно разнообразны: их источником послужили как общеупотребительные ресурсы народного коми языка, так и собственное языковое творчество автора.
Эмотиология, эмотивность, оценочность, коми язык, стилистика коми языка, Г. А. Юшков
Короткий адрес: https://sciup.org/147237038
IDR: 147237038 | УДК: 821.511.132 | DOI: 10.15507/2076-2577.014.2022.02.136-146
Текст научной статьи Лексические средства выражения эмотивности и оценочности в прозе Г. А. Юшкова
В контексте антропоцентричной направленности современной науки особую актуальность приобрело исследование выражения в языке таких функционально-семантических категорий, как эмотивность, экспрессивность, оценочность и образность. Для изучения данных категорий в лингвистике имеются различные направления: антропологическая лингвистика, психолингвистика, когнитивная лингвистика, коммуникативная лингвистика, эмо-тиология (лингвистика эмоций). В коми языкознании эмотиология является новой областью исследований, которая включа- ет в себя изучение пейоративной лексики и различных морфологических средств выражения эмотивности и оценочности. Перспективным направлением представляется изучение лексических средств, с помощью которых передаются эмотив-ность и оценочность в художественных текстах и для которых характерен целесообразный, эстетически мотивированный отбор.
Данная статья посвящена изучению способов лексической репрезентации категорий эмотивности и оценочности в коми языке на материале прозы Г. А. Юш- кова (1932–2009), классика коми литературы, чьи произведения отличаются жанровым и тематическим разнообразием, обращением ко всем возможным источникам в целях обогащения литературного языка.
Как отмечает В. К. Харченко, «слово в художественном тексте, наряду с основным значением, часто имеет дополнительное содержание, сопутствующее основному, т. е. обладает коннотативными значениями, которые могут проявляться как оценочность, эмоциональность, образность, экспрессия» [18, 67 ]. Т. М. Крючкова, обращаясь к проблеме экспрессивности в современной лингвистике, образность понимает как «способность языковых единиц вызывать чувственно-образные представления и ассоциации», эмоциональность – «способность языковых единиц отражать переживания человека по поводу определенного явления действительности». Оценочность, по ее мнению, «заключается в выражении одобрительной или неодобрительной оценки предмета речи», интенсивность «выражает степень проявления действия, признака». Исследователь предполагает, что экспрессивность служит родовым понятием для образности, эмоциональности, оценочности, интенсивности [8, 50 ]. Объектом нашего исследования послужили главным образом такие категории, как эмотивность и оценочность. Следует отметить, что оценка какого-либо явления часто сопровождается эмоциональной реакцией на него [12; 13]. Так, Г. Н. Ленько считает оценку «необходимым компонентом эмоциональной реакции, так как определение значимости события или ситуации, а следовательно, и активизации эмоции, происходит через оценивание» [10, 89 ].
Обзор литературы
Репрезентация категорий эмотивности и оценочности в финно-угорских языках исследуется на материале различных лексических средств. К экспрессивным средствам, содержащим в своем значении компоненты образности и эмоционально- сти, финно-угроведы относят изобразительную лексику [6], фразеологизмы [3; 4] и зооморфизмы [15]. Эмотивность изучается также на примере лексико-семантических групп существительных и глаголов, обозначающих определенные эмоции [5; 7; 16].
В коми языкознании среди основных работ по исследованию эмотивности и оценочности следует назвать статью Е. А. Цыпанова «Эмотиология в коми языкознании: пейоративные слова – названия предметов быта и зооморфизмы». В работе обоснована необходимость изучения материала коми языка в аспекте эмотиологии и впервые охарактеризованы две группы лексических единиц с мотивированными значениями: слова, обозначающие предметы традиционного быта коми-зырян, и слова-зооморфизмы (названия животных, птиц, насекомых, земноводных) [19]. Пейоративная лексика на коми-зырянском и коми-пермяцком языках представлена в словаре Е. А. Цыпанова “Коми видчан-кывъяс: зэв аслыссикас кывкуд” («Коми пейоративы: очень необычный словарь»), включающем более 1 900 заглавных слов1.
Изучению прилагательных, выражающих субъективную оценку говорящего, посвящена статья В. М. Лудыковой «Частнооценочные прилагательные в высказываниях коми языка». Качественные прилагательные распределены по тематическим группам, где они обозначают оценку вкуса и запаха, интеллектуальную, эстетическую, этическую, рационалистическую оценку [11, 33–35 ].
Как видим, на данный момент категории эмотивности и оценочности в коми языкознании изучаются на материале пейоративов и слов определенных лексико-семантических групп.
Относительно изучения стиля произведений Г. А. Юшкова важно подчеркнуть, что ему посвящены как литературоведческие, так и лингвистические работы. Литературовед В. Н. Демин рассматривает творчество писателя как проявление психолого-реалистического стилевого течения национального стиля коми литературы,
(^Jl ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ для которого характерны интерес к «переломным эпохам в жизни народа, широкое обращение к фольклорному и этнографическому материалу, социально-психологическое раскрытие личности, осмысление проблемы “человек и природа”, тяготение к символике, объективизация повествования» [2, 483]. И. И. Уляшев в статье «Повествование и стиль романов Г. Юшкова» обращает внимание на ритмизованную речь автора в пейзажных зарисовках, описывает многокомпонентные сложноподчиненные предложения, выражающие внутреннее состояние героев, их размышления. Отличительной чертой стиля Г. А. Юшкова исследователь называет слияние речи героев и повествователя, когда повествование от третьего лица перемежается с несобственно-прямой речью героев, что служит описанию психологии персонажей или воспроизведению технологии изготовления каких-либо предметов, трудового процесса, причем в последнем случае писатель выступает как автор-дидактик [17, 64–68]. В статье Т. Л. Кузнецовой «Проза Г. А. Юшкова: особенности художественного осмысления жизни» раскрыты основные темы его романов, повестей и рассказов. Исследователь полагает, что одним из главных стремлений писателя является попытка исследовать специфику национальной идентичности коми народа, а его стилю свойственны остроумные, ироничные, склонные к афористичности выражения [9, 67, 71].
Рассматривая лексико-стилистические особенности романа Г. А. Юшкова “Чугра”, Р. Коснырева и И. Костромина в работе “Чугра” романлӧн кыв” («Язык романа “Чугра”») обращают внимание на диалектизмы, внесенные писателем в текст, неологизмы, профессионализмы, дескриптивы, синонимы, контекстуальные антонимы, фразеологизмы, сравнения. Авторы приходят к выводу, что роман написан «красивым, образным языком», хотя и не лишен отдельных недостатков. Среди них – обилие вставок на русском языке, неточное употребление отдельных слов, грамматические ошибки)2.
Неологизмы романа “Бива” описаны в статье А. Н. Ракина «Лексические новации в историческом романе Г. А. Юшкова “Бива”». В качестве новой лексики исследователь выделяет 129 слов, из которых 114 объяснены писателем в сносках на 48 страницах. Данные слова распределены по 15 тематическим группам [14, 221– 225 ]. Источниками лексических неологизмов, по мнению А. Н. Ракина, послужили лексикографические издания XIX в. (словари Г. С. Лыткина, Ф. Видемана, Д. Фо-кош-Фукса, Ю. Вихманна), диалекты коми языка, соответствия в близкородственных языках [14, 226–227 ].
Таким образом, произведения Г. А. Юшкова были рассмотрены в контексте стилей коми литературы как выражение психолого-реалистического стилевого течения. Синтаксис прозы классика коми литературы изучен с точки зрения совмещения в тексте речи повествователя и персонажа, а также изменения соотношения данных голосов в зависимости от установок автора. Основные темы и идеи писателя, доминанты художественного осмысления действительности, поэтика прозы и индивидуально-авторские формы повествования исследованы на материале романов, повестей и рассказов. Выявлены некоторые лексические особенности романа “Чугра”, распределены по тематическим группам с указанием источников лексические новации романа “Бива”. Однако тексты Г. А. Юшкова еще не были изучены с точки зрения лексических средств выражения категорий эмотивности и оценоч-ности.
Материалы и методы
Основным методом исследования является метод компонентного анализа коннотативного значения отдельных лексем. При анализе функций конкретных лексических единиц учтена классификация компонентов коннотативного значения, предложенная Т. В. Матвеевой: 1) параметрический компонент (интенсивность или чрезмерность признака, квалификативная сема); 2) эмоционально-оценочный ком- понент (эмоциональная оценка типизированного социального представления о положительном или отрицательном содержании отражаемого явления с точки зрения практической пользы, этических представлений, эстетических идеалов); 3) образный компонент (образность как способность слова отражать обозначаемое конкретно-изобразительно, выполнять предметно-изобразительную функцию) [13, 19]. При описании моделей индивидуально-авторских фразеологических единиц был применен структурный метод.
Материалом исследования послужили тексты романов Г. А. Юшкова “Чугра” (1978), “Рӧдвуж пас” («Родовой знак», 1984), “Бива” («Огниво», 1999); повестей “Вилядь сиктса ань” («Женщина из села Вилядь», 1964), “Пияна ош” («Медведица с медвежатами», 1969), “Кысь ме тэнӧ корся?” («Где я тебя найду?», 1981); рассказов “Аски лоӧ мича” («Завтра будет погожим», 1962), “Конӧ Семӧ” («Конэ Семэ», 1967), “Ӧшинь водзын бурӧвӧй” («Перед окном буровая», 1970), “Чӧскыд вотӧс – сьӧлаоз” («Вкусная ягода – поленика», 1971), “Юрыд усьӧ” («Позор», 1980), “Карса” («Городская», 1986), “Лов пыкӧс” («Опухоль души», 1989), «Часовня» (1989), “Му выв олысь” («Живущий на земле», 1989), “Мынтӧдчӧм” («Избавление», 1990), “Вир тшыкӧдысь” («Вампир», 1990), “Кыдзи мортыд ылавлан” («Как может обмануться человек», 2002)3.
Результаты исследования и их обсуждение
Наиболее распространенным лексическим средством выражения эмотивности и оценочности в языке являются пейорати-вы и мелиоративы [19, 112 ]. Как показывают данные различных словарей коми языка, зафиксированных мелиоративов в них значительно меньше, чем пейоративов [1, 12 ]. В прозаических текстах Г. А. Юшко-ва4 употребляются такие мелиоративы, как рочакань ‘куколка’, шондібан ‘солнышко’: – Босьтӧй-босьтӧй, рочаканьяс , – меліа
PHILOLOGY шуаліс батьыс (Т. 3, с. 201). «– Берите-берите, куколки, – ласково говорил отец»; Август нёльӧд лунӧ ыстӧма письмӧсӧ, а аскомысьнас и усьӧма шондібан (Т. 2, с. 424). «Четвертого августа послал письмо, а на послезавтра и погиб, солнышко».
Лексические средства выражения эмотивности и оценочности в прозе Г. А. Юшкова достаточно разнообразны: источником их послужили как общеупотребительные ресурсы народного коми языка, так и собственное языковое творчество автора.
Для стиля Г. А. Юшкова характерны индивидуально-авторские фразеологизмы, выражающие одобрение. Обычно в таких оборотах используется причастие на -ан(а) : С1дзкд тай, мыйкд морт на быд-ман, пызан сайд пуксьддан... (Т. 2, с. 90). «Значит, человеком все же вырастешь, тем, кого можно за стол посадить…»; …а мортыс сійӧ, тыдалӧ, пыжӧ на босьта-на (Т. 3, с. 66). «…а человек он, видимо, такой, кого можно взять с собой в лодку».
В определенном контексте положительной коннотацией обладает и существительное морт ‘человек’: Быттьӧ тэ и мортыс тані, мирыслы олан, а ми сӧмын асьнымӧс тӧдам (Т. 3, с. 92). «Будто ты один здесь человек, живешь для людей, а мы только о себе заботимся»; – Мортӧн колӧ лоны! – вочааліс Доронин (Т. 2, с. 591). «– Человеком надо быть! – возразил Доронин»; – Абу жӧ кӧ морт вӧлӧмыд-а 5. « – А ты, оказывается, и не человек вовсе».
Отрицательная оценочность в романах и повестях Г. А. Юшкова выражается общеупотребительными пейоративами: йӧй (Т. 2, с. 14) ‘дурак’, бырган (Т. 2, с. 88) ‘болтун’, ёма (Т. 2, с. 646) ‘ведьма’, зывгун (Т. 2, с. 98) ‘нытик’, мутивӧй (Т. 3, с. 36) ‘бес’ и др. Наряду с одиночными пейо-ративами отрицательную оценочность передают также общеупотребительные
(^Jl ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ словосочетания в переносном значении: кузь киа (Т. 3, с. 39) ‘вор (букв.: длиннорукий)’, вина гаг (Т. 2, с. 11) ‘пьяница (букв.: винный жук)’, сувтса синма (Т. 2, с. 40) ‘бесстыжий (букв.: с вылупленными глазами)’ и др. Тексты Г. А. Юшкова содержат большое количество индивидуальноавторских фразеологизмов, созданных по моделям общеупотребительных, обладающих образностью и выражающих эмо- циональную оценку:
прилагательное + существительное: урӧс ёкмыль ‘урод (букв.: паршивый кусок’), тыртӧм гыр ‘бессердечный (букв.: пустая ступа)’, йиа кӧзӧд ‘бессердечный (букв.: ледник со льдом)’. Например: – Кы-чипи на, а кок шегъяд нин и варскӧбтӧ! Шӧть, урӧс ёкмыль ! – и тайкӧ вувзьысяс (Т. 2, с. 40). «– Сам еще щенок, а хватается зубами за щиколотку! Брысь, урод! – и будто вот-вот набросится»; – А тэнсьыд он и аддзы [сьӧломтӧ], тыртӧм гырлысь ! – зывӧктана кайтіс Наталь да чеччыштіс лымйӧ (Т. 2, с. 141). « – А у тебя и не найдешь [сердца], пустая ступа! – брезгливо сказала Наталь и прыгнула в снег»; – А кӧдзалам кӧ ӧта-мӧд дінӧ? – Некытчӧ нин тэныд кӧдзавнысӧ, йиа кӧзӧдлы ! – муртса эз горӧд Павел (Т. 1, с. 421). «– А если охладеем друг к другу? – Некуда уж тебе охладевать, леднику со льдом! – чуть было не крикнул Павел»;
существительное в аккузативе + активное причастие настоящего времени: пон сёйысь ‘плохой человек (букв.: едящий собак)’, пиньтӧ йирысь ‘злой (букв.: грызущий зубы, скрежещущий зубами)’ – ср. лун-вой сёйысь ‘бездельник (букв.: едящий время)’. Например: – Колӧкӧ, картіӧн асьсӧ ворссис?! – Эз. Сійӧ ветымынӧд кӧкъямысӧд серти пукаліс. – Тэ тӧдан? Видзӧдлін делӧас? – А эз вӧв пон сёйысь ! – дӧзмис Ожегов (Т. 3, с. 119). «– Может, в карты проигрался?! – Нет. Он по пятьдесят восьмой сидел. – А ты откуда знаешь? Дело смотрел? – Не был он плохим человеком! – рассердился Ожегов»; Но ӧд тэ абу пиньтӧ йирысь , кыдз миян сиктын шуӧны. Тэ зэв бур морт, дерт, аслад руа (Т. 3, с. 308). «Но ты ведь не злой, как в нашем селе говорят. Ты очень хороший человек, хотя и своенравный, конечно»;
существительное в номинативе (атрибутив) + существительное: морт сьӧлӧм ‘человечный (букв.: сердце человека)’, шыр сьӧлӧм ‘трусливый (букв.: сердце мыши)’ – ср. кӧч сьӧлӧм ‘трус (букв.: сердце зайца)’. Например: Но вӧлӧма на и Леушинлӧн морт сьӧлӧм. Локтіс сійӧ ӧтчыд бурӧвӧй вылас да кыдзкӧ небыда… видзӧдліс Казариновлань (Т. 3, с. 302). «Но, оказывается, у Леушина было сердце человека. Пришел он однажды на буровую и как-то мягко… посмотрел на Казаринова»; Некод тэнӧ оз дзуг, шыр сьӧлӧмӧс! – скӧрмис Павел (Т. 1, с. 680). «Никто тебе не мешает, мышиному сердцу! – рассердился Павел»;
наречие + глагол: ыджыда ытшкыш-тны ‘сильно преувеличить (букв.: сделать крупный взмах косой)’ – ср. ыд-жыда сёрнитны ‘поговорить всерьез (букв.: крупно поговорить)’. Например: – Со эськӧ пиыд, да мый на сыысь коркӧ петас-а? – Крестьяниныс век петас. – Ог тӧд! – нюркнитіс мамыс. – Мыйла он тӧд? – Войт на абу вежӧрыс! Номъ-ясыд пӧ лунвылад лэбӧмаӧсь нин. Коктӧм Кӧсьта и ывсӧдлӧма вир йӧйӧс! – Ок ӧд, ыджыда век ытшкыштӧ ! – водзӧс ӧлӧдіс батьыс. – Пызан судта детинаыслӧн, уна-ӧ на вежӧр сылӧн? (Т. 2, с. 14). «– Вот он сын, да кем он будет? – Крестьянином всяко будет. – Не знаю! – протянула мать. – Как не знаешь? – Разума нет ни капли! Комары, говорит, на юг уже улетели. Безногий Костя обманул дурака! – Ох ведь, опять хватила! – одернул отец. – Парень еще под стол ходит, много ли ума у него?»
Лексическими средствами в прозе Г. А. Юшкова выражаются не только осуждение и гнев, но также снисхождение: А Васька кивыль эз керлы налӧн ышмӧм вылӧ, тапсьӧдіс мышкас нопйӧн да весь-кодясис: мед вӧчӧны, мый вӧчӧны, вежӧр вылӧ на вотӧмъясыс (Т. 2, с. 96). «А Васька никак не отреагировал на их баловство, шагал с рюкзаком за спиной и делал вид, что ему все равно: пусть делают, что хотят, неразумные»; сожаление и ирония: Но Часовня кыр йылын йӧйтавсис и сылӧн, верстьӧӧ пуксьысьыдлӧн ! (Т. 2, с. 96). «Но на холме у часовни все же сглупил он, возомнимший себя взрослым!».
Интересный пример представляет собой слово коньӧр ‘бедный, несчастный’, эмотивно-оценочная коннотация которого определяется контекстом. Данная лексема может употребляться с оттенком уничижения: А вот кывсяс йӧзыслы, ветлӧма пӧ бо-танасьны да лов абу шедӧма коньӧрӧйлы , и нэмтӧ сэсся казьтыласны нин (Т. 2, с. 95). «А вот узнают люди, что он ходил ловить рыбу ботальной сетью, и ни одна не попалась бедняге, всю жизнь припоминать будут»; раздражения: А мый нӧ, кыті нин коньӧрӧс сэтшӧмасӧ дзескӧдіс? (Т. 2, с. 23). «А что же, где бедняжку так прижало?»; сострадания: Медся на бур, мамтӧ кӧ вежан. А то оз и эштыв коньӧр пенсия вылас петавны (Т. 2, с. 24). «Лучше всего, если мать сменишь. А то не может бедная на пенсию выйти»; осуждения (в составе фразеологизма коньӧрӧ уськӧдчыны / коньӧрӧ пуксьыны ‘прикинуться бедным’): …но пыралӧмыс да юалӧмыс ӧд мый дон на сувтӧ ас юрӧн олысь мортыдлы, коньӧрӧ лоӧ уськӧдчыны, синтӧ лазгӧдны да (Т. 3, с. 89). «…но человеку, живущему самому по себе, неприлично зайти и спросить, ведь придется прикинуться бедным, еще и глаза потупить».
Одной из особенностей стиля Г. А. Юшкова является употребление изобразительных глаголов, в значении которых присутствует компонент негативной оценки. Неодобрение субъекта речи выражается, например, следующими глаголами: летйысьны ‘дергаться’ (ср. нейтральное йӧктыны ‘танцевать’), дітшвидзны ‘сидеть сложа руки’ (ср. пу-кавны ‘сидеть’), уйкнитны ‘улепетнуть’ (ср. мунны ‘уехать’), бавъявны ‘шататься’, бротьявны ‘шлендать’ (ср. ветлӧдлыны ‘ходить’), ырсъявны ‘артачиться’ (ср. ас-ныравны ‘упрямиться’), жавксьыны ‘лаяться’ (ср. пинясьны ‘ругаться’) и др.: Найӧ [нывъяс] ӧдйӧ петалісны летйысь-ны гыпкысь музыка улас (Т. 3, с. 14). «Они [девушки] быстро выходили дергаться под грохочущую музыку»; Но коліс ӧд кыськӧ корсьны вит-ӧ-квайт пӧвсӧ… – Разя вот порсь гид вывсьыныд вевтсӧ! – Ланьт сёрнинад, – такӧдіс чойыс. – Сюрӧ на кыськӧ. – Сюрас тадзитӧ дітшвидзигад (Т. 3, с. 89). «Но надо ведь было достать где-нибудь пять-шесть досок… – Вот возьму и разберу крышу вашего хлева для свиней! – Замолчи, – успокоила его сестра. – Найдется как-нибудь. – Найдется, если сидеть сложа руки»; Ачыд тай, армия бӧрад эн жӧ гортӧ кольччы, вӧрпунктӧ уйкнитін (Т. 3, с. 92). «Сам-то после армии не остался дома, в лесопункт улепетнул»; Няръялӧ биыс гӧгӧрсьыныс пожӧмсӧ, а налы теш, бавъялӧны нильӧдӧм синмаӧсь (Т. 3, с. 102). «Огонь пожирает сосны вокруг, а им весело, шатаются, с помутненными глазами»; Та вӧсна и эз на лэдзны война помас, матӧ куим во на бротьяліс армияас (Т. 3, с. 69). «Из-за этого и не отпустили после войны, еще года три шлен-дал в армии»; Мый сэсся либӧ ырсъялан? (Т. 2, с. 68). «А зачем тогда артачишься?»; Дыр-ӧ бара тэ жавксян-а? – дӧзмис да эльтыштіс Васька, кыдзи коркӧ батьыс (Т. 2, с. 98). «Долго еще будешь лаяться? – рассердившись, пробурчал Васька, как делал когда-то его отец».
Эмотивно-оценочные глаголы могут также служить маркером голоса того осуждающего собеседника, с кем персонаж ведет мысленный диалог: Сэсся Тамара… югдыліс, курзьӧм ныр-вома, ме пӧ ас вылад ыштылі, а тэ пӧ Рогачев сайӧ менӧ тувъялін (Т. 3, с. 8). «Потом показалась Тамара… с перекошенным лицом, мол, я на тебя позарилась, а ты меня Рогачеву сбыл (букв.: ‘пригвоздил’)»; Тайӧ сейсмопартияас и веськаліс Латкин, кор помаліс Ухтаысь индустриальнӧй институтсӧ. Кык во нин сэсянь колис, коймӧд вылӧ петіс. Шуны кӧ, уджыс ни йӧзыс эз нин вӧвны тӧдтӧмӧн, ёна нин лои ‘чиганалӧма’ . Мамыс тадзи нимтіс Лат-кинлысь ветлӧдлана уджсӧ… (Т. 3, с. 9). «В эту сейсмопартию и попал Латкин после окончания Ухтинского индустриального института. Два года с тех пор прошло, третий начался. Так сказать, и работа, и люди уже были знакомы, много пришлось ‘цыганить’. Таким словом мама называла работу Латкина…». Примечательно, что в коннотативном значении данных слов наряду с компонентом негативной оценки содержится компонент образности, который характерен для коми глаголов, образованных от существительных и упо-
(ryi ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ требляющихся в переносном значении, например: пожнасьны ‘пустословить’ < пож ‘решето’; кӧмӧдны ‘обмануть’ < кӧм ‘обувь’; каньявны ‘распутничать’ < кань ‘кот, кошка’; понъясьны ‘сквернословить’ < пон ‘пес, собака’ и др. [1, 9 ].
В коми языкознании эмотиология является новой областью исследований, которая включает в себя изучение пейоративной лексики и различных морфологических средств выражения эмотивности и оценочности. Перспективным направлением представляется изучение лексических средств, с помощью которых передаются эмотивность и оценочность в художественных текстах и для которых характерен целесообразный, эстетически мотивированный отбор.
Компонент интенсивности в коннотативном значении слова может стать предпосылкой развития компонента оце-ночности. Например, глаголы дӧжнавны ‘повторять’, няръявны ‘наяривать’ имеют в структуре значения компонент интенсивности, а в контексте приобретают также компонент негативной оценки: Сё пӧв нин эськӧ, абу кӧ унджыкысь, ставсӧ сылӧн висьталӧма, яндзим нин колӧ тӧдны, да гилялӧ на кывйыс ӧтиторсӧ дӧжнавны (Т. 2, с. 464). «Уже раз сто, если не больше, рассказал он про одно и то же, уже стыдно должно быть, да все равно язык чешется об одном и том же твердить » ; Код тӧдас, дыр-ӧ на эськӧ Лыткин няръяліс ӧддзӧмвывсьыс, но Поликарп сэсся лэптыліс кисӧ, мед дугдылас (Т. 2, с. 478). «Кто знает, долго ли бы еще с пылу Лыткин наяривал, но Поликарп поднял руку, чтобы тот перестал».
Эмотивность и оценочность выражаются не только изобразительными и производными от существительных глаголами, но и другими частями речи. Примечателен пример употребления в текстах Г. А. Юшкова этнонима коми, имеющего в своем значении компонент одобрения. Положи- тельно оцениваются следующие качества коми человека:
-
а) доведение дела до конца: И ков-мис пӧрысь мортлы кынмысь вӧв моз тірӧдыштавны мышсӧ… Он ӧд ырс чеч-чы да педзышт, кор кыйӧдчыны локтӧма, гортад, муса паччӧрад, бӧр он чепӧсйы ни. Некод эськӧ, колӧкӧ, оз тӧдлы, кынмыны пӧ кутӧма да асывсӧ абу и виччысьлӧма, но ӧд ачыд аслыд сэк мустӧм лоан коми мортыд (Т. 2, с. 440). «И пришлось пожилому человеку, как мерзнущей лошади, подрагивать спиной… Не встанешь ведь резко, не подвигаешься, если пришел караулить, и домой, на милую печь, не побежишь. Может, никто и не заметит, не скажет, мол, замерз и до утра не досидел, но ведь сам себя возненавидишь, если ты коми человек»;
-
б) искренность: Колӧ тӧдны коми морттӧ: абу велалӧма гусьӧн мыйкӧ пӧжны, и кыткӧ дойдӧ кӧ сійӧс, вӧвлӧн моз жӧ петӧ дойсӧ висьталӧмыс (Т. 2, с. 571). «Надо знать коми человека: он не привык таиться, и если больно ему где-то, то, как лошадь, покажет, где у него болит»;
-
в) целеустремленность, упорство: А комиыд быдӧн кыйысь-виысь, ветлысь да вайысь. Мунӧ кӧ нин вӧрад, тӧдӧ: оз тыртӧг лок (Т. 2, с. 555). «А все коми – добытчики, пойдут и принесут. Если пойдет в лес, знает: с пустыми руками не вернется»;
-
г) умение чувствовать природу и ориентироваться в лесу: Сӧстӧм, югыд да гулыд арся вӧрыд, выль мыськӧм керка кодь… Кодлыкӧ мед тыртӧмӧн кажитчӧ, шуштӧм лӧньӧн, сӧмын оз коми мортлы (Т. 2, с. 459). «Чист, светел и гулок осенний лес, похож на дом со свежевымытыми полами и стенами… Пусть кому-то он кажется пустым, страшно тихим, но только не коми человеку»; – А оз нӧ пемды? Ыла-лан кытчӧкӧ да… – Коми морт , ылала?! (Т. 2, с. 183). «– А не темнеет разве? Еще заблудишься где-нибудь… – Коми человек, и заблужусь?!»;
-
д) скромность: Сэтшӧми и эм коми мортыд, оз ыкшаась водзвывтӧ (Т. 2, с. 178). «Такой он и есть коми человек: наперед не хвалит себя».
В противоположность позитивной оценке, закрепленной в сознании автора за словом коми, негативную оценку содержит заимствованное слово комяк, используемое для выражения презрения говорящего: – Комяк тэ! Понйыдкӧд ӧти дозйысь сёйысь! – А миян понъясыс морт сямаӧсьджык тэ коддьӧмсьыс, мый оз позь, оз вӧрӧдны (Т. 2, с. 600). «– Ты комяк! Жрешь со своей собакой из одной миски! -А наши собаки больше похожи на человека, чем ты: не трогают того, что нельзя»; – Ко-мяк тэ Бутиков! Киыд уджалӧ, а юрыд оз! (Т. 2, с. 616). «– Комяк ты, Бутиков! Руки работают, а голова – нет!».
Негативная оценка выражается дисфе-мизмами, когда эмоционально и стилистически нейтральное слово заменяется грубым: – Ӧнтай нӧ, шампанскӧйсӧ? – мудера дэльӧдіс Кузовкин. – Матере мен сшд вдв кудзыд ! (Т. 3, с. 47). « - А давеча, шампанское-то? – хитро подначивал Кузовкин. – На хрена мне эта лошадиная моча!»; – А эн нӧ кырсав нывтӧ? – Кырсалі кд, ачым на быдтИ - кучкис Ольга пыза-нас (Т. 3, с. 122). «– А разве ты не нагуляла дочку-то? – Если и нагуляла, то сама вырастила! – ударила Ольга по столу».
Характерной чертой стиля Г. А. Юшкова являются лексические повторы, через которые выражается неодобрение говорящим слов собеседника: – Но и вайӧда , – кайтыштас Ӧльӧксан. – Вайӧда ! – нерыштіс батьыс. – Абу ӧд ньӧбӧмтор, вӧв ли мӧс ли. Корасьӧмӧн татшӧмсӧ вӧчлӧны (Т. 2, с. 642). «– Ну и приведу, – проговорил Элексан. – Приведу! – передразнил отец. – Это ведь не что-то купить, не лошадь и не корова. Свататься надо»; Висьтасян кд, оз нин ков маит-чыны нинӧмысь. Чист лоан ! – Лоан ! – нерыштіс Катерина (Т. 3, с. 54). «Если исповедуешься, не надо будет уже маяться ни о чем. Чиста будешь! – Будешь! – передразнила Катерина».
Заключение
Как показывает проведенное исследование, эмотивность и оценочность в прозе Г. А. Юшкова выражаются различными лексическими средствами:
негативная эмоциональная оценоч-ность передается общеупотребительными пейоративами и индивидуально-ав- торскими фразеологизмами, созданными по моделям узуальных словосочетаний в переносном значении (урӧс ёкмыль ‘урод (букв.: паршивый кусок)’, тыртӧм гыр ‘бессердечный (букв.: пустая ступа)’, йиа кӧзӧд ‘бессердечный (букв.: ледник со льдом)’, шыр сьӧлӧм ‘трус (букв.: мышиное сердце)’;
характерной чертой стиля Г. А. Юшкова является выражение одобрения через причастные обороты: пызан сайӧ пуксьӧдан ‘тот, кого можно за стол посадить’, пыжӧ босьтана ‘тот, кого можно взять с собой в лодку’;
негативная оценка выражается изобразительными глаголами ( летйысьны ‘дергаться’, дітшвидзны ‘сидеть сложа руки’, бавъявны ‘шататься’ и др.). При этом компонент интенсивности в коннотативном значении слова может стать предпосылкой развития компонента оценочности ( дӧжнавны ‘повторять’, няръявны ‘наяривать’). Также эмотивно-оценочные глаголы могут служить маркером голоса того осуждающего собеседника, с кем персонаж ведет мысленный диалог;
концептуально значимым для произведений Г. А. Юшкова является компонент одобрения в коннотативном значении этнонима коми , при этом положительно оцениваются такие качества коми человека, как доведение дела до конца, искренность, целеустремленность, упорство, умение чувствовать природу и ориентироваться в лесу, скромность;
неодобрение говорящим слов собеседника выражается через лексические повторы в репликах персонажей;
конкретное эмотивно-оценочное значение слова проявляется в контексте (прилагательное коньӧр ‘бедный’ может служить для выражения уничижения, раздражения, сострадания, осуждения; существительное морт ‘человек’ может иметь коннотацию одобрения).
Таким образом, лексические средства выражения эмотивности и оценочности в прозе Г. А. Юшкова достаточно разнообразны: источником их послужили как общеупотребительные ресурсы народного коми языка, так и собственное языковое творчество автора.
Поступила 18.01.2022; одобрена 20.02.2022; принята 25.03.2022.
Список литературы Лексические средства выражения эмотивности и оценочности в прозе Г. А. Юшкова
- Баженова О. Н. Применение компонентного анализа лексического значения слова при определении стилистических функций синонимов в коми языке // Вестник Сыктывкарского университета. Серия гуманитарных наук. 2020. № 2. С. 3–18.
- Демин В. Н. Национальный стиль и стилевые течения современной коми литературы // Материалы VI Международного конгресса финно-угроведов. М., 1990. Т. 2. С. 482–484.
- Динисламова О. Ю. Языковая репрезентация базовых эмоций ‘радость’, ‘печаль’ в мансий ской языковой картине мира (на материале соматических фразеологизмов) // Вестник угроведения. 2017. № 2. С. 19–30.
- Душенкова Т. Р. Выражения с компонентом вир ‘кровь’ в презентации эмоций в удмурском языке // Вестник Удмуртского университета. Сер.: История и филология. 2014. Вып. 2. С. 7–11.
- Душенкова Т. Р. Лексические дефиниции эмоции гнева в удмуртском языке // Вестник угроведения. 2017. № 2. С. 39–45.
- Иванов В. А. Изобразительная лексика в фольклорных текстах малых форм (на материале финно-угорских языков) // Сибирский филологический журнал. 2016. № 4. С. 174–192. DOI: 10.17223/18137083/57/16.
- Каксин А. Д., Чертыкова М. Д. О глаголах со значением страха в хантый ском языке // Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum (Piliscsaba, 9–14. VIII. 2010). Pars IV. Dissertationes sectionum: Linguistica. Piliscsaba, 2011. P. 203–205.
- Крючкова Т. М. Понятие экспрессивности в современной лингвистике // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2006. № 1. С. 48–51.
- Кузнецова Т. Л. Проза Г. А. Юшкова: особенности художественного осмысления жизни // Наследие. 2017. № 2. С. 64–78.
- Ленько Г. Н. Анализ категории эмотивности и смежных с нею понятий // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2015. Т. 1, № 1. С. 84–91.
- Лудыкова В. М. Частнооценочные прилагательные в высказываниях коми языка // Актуальные вопросы коми и пермского языкознания. Сыктывкар, 2019. С. 32–37. (Тр. Ин-та яз., лит. и истории Коми НЦ УрО РАН; Вып. 77).
- Лукьянова Н. А. Функции экспрессивных лексических единиц // Труды по когнитивной лингвистике: сб. науч. ст., посвящ. 30-летнему юбилею каф. общ. языкознания и славянских языков Кемеров. гос. ун-та. Вып. 10. Концептуальные исследования. Кемерово, 2008. С. 59–66.
- Матвеева Т. В. Экспрессивность русского слова. Саарбрюккен: Palmarium Academic Publishing, 2013. 173 с.
- Ракин А. Н. Лексические новации в историческом романе Г. А. Юшкова «Бива» // Ракин А. Н. Исследования по пермским языкам. Сыктывкар, 2009. С. 221–228.
- Рябов И. Н., Рябова Г. В. Использование зооморфизмов в презентации эмоций (на материале эрзянского языка) // Финно-угорский мир. 2018. № 2. С. 58–67. DOI: 10.15507/2076-2577.010.2018.02.058-067.
- Сердобольская Н. В. Глаголы с семантикой эмоций и наивная картина мира народа бесермян // Проблемы филологии: язык и литература. 2010. № 2. С. 75–84.
- Уляшев И. И. Повествование и стиль романов Г. Юшкова // Современная коми литература: проблематика, герой, стиль. Сыктывкар, 2004. С. 64–81. (Тр. Ин-та яз., лит. И истории Коми НЦ УрО РАН; Вып. 64).
- Харченко В. К. Разграничение оценочности, образности, экспрессии и эмоциональности в семантике слова // Русский язык в школе. 1976. № 3. С. 66–71.
- Цыпанов Е. А. Эмотиология в коми языкознании: пей оративные слова – названия предметов быта и зооморфизмы // Вестник угроведения. 2020. Т. 10, № 1. С. 110–119. DOI: 10.30624/2220-4156-2020-10-1-110-119.