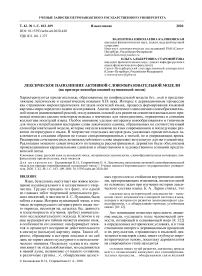Лексическое наполнение активной словообразовательной модели (на примере новообразований пушкинской эпохи)
Автор: Калиновская Валентина Николаевна, Старовойтова Ольга Альбертовна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Конфиренции
Статья в выпуске: 1 т.42, 2020 года.
Бесплатный доступ
Характеризуются прилагательные, образованные по конфиксальной модели без...ный и представляющие лексические и семантические новации XIX века. Интерес к деривационным процессам как отражению мировоззренческих взглядов носителей языка, процесса формирования языковой картины мира определил задачи исследования. Анализ лексического наполнения словообразовательной модели (наименований реалий, послуживших основой для развития семантики аномального признака) позволил сделать некоторые выводы о значимых для эпохи реалиях, отраженных в сознании коллектива носителей языка. Особое внимание уделено авторским новообразованиям и типичным для эпохи употреблениям мастерами слова лексических единиц, образованных по соответствующей словообразовательной модели, которые оказали влияние на язык современников и последующее развитие литературного языка. В творчестве отдельных авторов роль указанных прилагательных заключается в создании образов не только синхронизированных с эпохой, но и опережающих время. Расширение сочетаемостных возможностей нового слова закрепляет актуальную для него семантику. Реализация мощного семантического потенциала рассматриваемых дериватов была обусловлена происходившими кардинальными сдвигами в общественном и художественном сознании представителей эпохи.
Русский язык пушкинской эпохи, историческая лексикология, словообразовательная мотивация, конфиксальные прилагательные, язык писателя
Короткий адрес: https://sciup.org/147226547
IDR: 147226547 | УДК: 811.161.1.373 | DOI: 10.15393/uchz.art.2020.440
Текст научной статьи Лексическое наполнение активной словообразовательной модели (на примере новообразований пушкинской эпохи)
Язык, безусловно, выступает как живое воплощение индивидуального и коллективного творчества. Трудно отрицать тот факт, что одной из главных забот творческой деятельности русских писателей, в частности А. С. Пушкина, была забота о языке. История пушкинской эпохи, в том числе история русского литературного языка этого периода, несмотря на, казалось бы, давность и плодотворность изучения, требует внимательного исследовательского подхода. Ключом к ее еще не раскрытым тайнам является именно язык, в особенности его лексика: она формирует понятия и организует восприятие действительности в связную (цельную) картину мира. Таким образом, обращение к истории лексики и по сей день не теряет своего культурного и методологического значения. Поскольку «слова и их значения живут не отдельной жизнью, но соединяются в нашей душе, независимо от нашего сознания, в различные группы…»1, обнаружение целост
ных групп слов со стойкими внутренними связями, претерпевающих изменения, является одной из основных задач при изучении истории лексического состава языка. Б. А. Ларин считал, что
«далекая цель исторической лексикологии – выяснение таких компонентов словарной системы языка, которые в истории его развития эволюционируют единым фронтом, т. е. обнаруживают прочные, устойчивые связи» [10: 12].
Акт номинации позволяет проследить движение мысли, «услышать голос человеческой личности, познающей и осваивающей мир» [4: 322] в определенных исторических условиях, и в этом отношении интерес к деривационным процессам и их результатам, отраженным в языковой деятельности мастеров слова, имеет глубокую мировоззренческую основу, поскольку дериватология на современном этапе находится
«в поиске новых путей развития, связанных прежде всего с осмыслением движущих сил словообразовательных процессов… обнаружением связи явлений словообразования с формированием языковой картины мира» [5: 5].
***
Особенности словообразовательной деривации, определяющие эвристическую ценность ее данных для исследований когнитивной направленности (вспомним гипотезу Сепира – Уорфа о том, что структура языка определяет мышление и способ познания реальности), находятся в сфере внимания современных исследователей, отвечающих на актуальные для лингвистики вопросы «почему» и «зачем».
Для динамического синхронного словообразования особенно важен факт действия в анализируемый период конкретных моделей, а также факт их разграничения с точки зрения продуктивности / непродуктивности. При создании дифференциального словника для составляемого в Институте лингвистических исследований РАН «Словаря русского языка XIX века» было обращено внимание на один из его фрагментов, который дает возможность представить примеры динамических тенденций, отчасти имеющих непосредственные истоки в той идеологической и эстетической парадигме, которую задал А. С. Пушкин в первой трети XIX века.
Известно, что в основе большинства языковых номинаций лежат аномальные явления, то есть такие, которые воспринимаются сознанием как отклонение от нормы, поскольку человеческий мозг в первую очередь запечатлевает отличительные особенности, позволяющие в дальнейшем легко распознавать ту или иную реалию на фоне других [3: 304]. В словообразовании яркой иллюстрацией этой закономерности служат производные прилагательные конфиксального типа без...н(ый), которые и стали объектом анализа с целью определения, номинации каких реалий послужили основой для развития семантики аномального признака и, следовательно, отражали в сознании коллектива носителей языка актуальные представления о значимых для эпохи реалиях.
Активное употребление прилагательных с начальным без- исследователи рассматривают как одну из особенностей словообразовательной системы русского литературного языка XIX века [9]: именно в этот период продолжается процесс пополнения словарного состава языка подобными прилагательными, начавшийся в предшествующую эпоху.
Считается, что в русском языке XIX века гораздо больше конфиксальных прилагательных на без^н(ый ), мотивированных вещественными существительными, чем в современном [12: 183], что, по всей видимости, демонстрирует высокую значимость для носителей языка в тот период признаков, характеризующих аномалии материального плана.
Лексикографические источники XIX века, тексты этого периода свидетельствуют о чрезвычайном богатстве лексических форм, образованных с помощью указанной модели. Так, в процессе работы было обнаружено, что в академическом словаре 1847 года фиксируется около 200 слов, которые отсутствуют в «Словаре русского языка XVIII века» (например, безведреный, безвозбранный, безвозмездный, бездарный, бездоказательный, безнравственный, безукоризненный, безупречный, беспрогульный, бессметный, бес-стеный, безустальный )2. Еще более значительное количество единиц (около 300 новых слов, отсутствующих в словаре XVIII века) включает словарь В. И. Даля (например, безвыездный, безгранный, бездеятельный, бездоходный, безработный , бессвязный, бессознательный, безучастный, бесцельный )3. Тенденция появления подобных прилагательных сохраняется и далее на протяжении XIX века; в первую очередь они пополняют фонд образных средств языка, а во-вторых, формируют группу, как их определил Ю. С. Сорокин, «номинативно-терминологических слов» типа безлистый (в настоящей статье последние не рассматриваются).
В картотеке дифференциального по своей природе «Словаря русского языка XIX века» фиксируется несколько десятков неологизмов-прилагательных, ранее не отмеченных словарями русского языка, например: безартерий-ный , безбытный , безвосходный , безленостный , безмускульный , безотзывный , безроскошный , безуездный , безъерный, безъякорный и др.4 Подавляющее большинство подобного типа прилагательных, функционирующих в текстах пушкинской эпохи, характеризуют эмоциональную, психическую, ментальную, нравственно-этическую сферы человеческой жизни.
Среди лексических неологизмов первой половины XIX века, образованных по данной модели, немалая доля приходится на авторские новообразования (или те слова, которые, по имеющимся на сегодняшний день данным, встречаются в текстах именно этих авторов): безужинный (Е. А. Баратынский), безъякорный (В. Г. Бенедиктов), без-милосердный, безразлучный (П. А. Вяземский), безробостный (И. А. Крылов), безмечтательный (К. С. Аксаков) и некоторые другие. Примечательно, что значительная часть новых слов принадлежит поэтическому лексикону современника А. С. Пушкина В. Г. Бенедиктова, чьи стихи были с восторгом встречены читающей публикой, однако не были восприняты демократической критикой того времени (см. статьи В. Г. Белинского) и неоднозначно оценивались последующими поколениями. Однако важно отметить, что на излете своего творческого и жизненного пути А. С. Пушкин интуитивно не мог не почувствовать начавшихся изменений, связанных с поиском новых языковых форм выразительности, и признать их – укажем на то, что поэт, чье первенство было общепризнанным, не поддержал резкой критики, которой было отмечено появление первой книги стихов В. Г. Бенедиктова.
Для исследователей языка пушкинской поры очень важна, как нам представляется, оценка, данная этому поэту в начале 1900-х годов в очерке Ю. И. Айхенвальда. Отмечая большое количество созданных Бенедиктовым неологизмов (например, колесница небес безотъездная ), критик называет его «поэтом-изобретателем», «поэтом-механиком», «выдумщиком». Хотя немногие из них вошли в общее употребление, почти все неологизмы
«показывают, что у него <Бенедиктова> было живое чувство языка. …Его стихотворения с их неожиданно открывающейся россыпью слов лишний раз показывают, как богат и в своей действительности, и в своих возможностях наш русский язык» [1: 551].
Рассмотрим два авторских новообразования Бенедиктова, пожалуй, наиболее показательных с точки зрения поэтического и языкового новаторства: бездачный и безъякорный. Они интересны прежде всего тем, что созданы по новой семантической мотивационной модели. Производящей основой того и другого являются лексемы, приобретающие в контексте производного слова (внутри синтагмы) символический смысл. Исследователи уже обращали внимание на такую особенность мотивирующих единиц у новообразований по данной модели, как наличие семы, указывающей на социально значимую реалию [11: 123] (в основном приводились примеры слов с отвлеченной семантикой и нравственно-этического характера), что, очевидно, справедливо для ряда неологизмов [11: 124]. Нам бы хотелось акцентировать внимание на несколько ином аспекте мотивированности, реализующемся в конфиксальных прилагательных. Речь идет о такой ситуации, при которой мотивирующие единицы имеют в качестве прямого конкретнопредметное, или «вещественное», значение; значимость этого признака определяет появление новообразований по данной модели в XIX веке. Предметность, лежащая в основе символического значения «слова-вещи» (как факта культуры), расширяет семантический потенциал производного слова, обогащая его ассоциативными связями, порождая новый образный (визуальный) ряд «старого» понятия в более привычной языковой форме. Именно фактор новизны является существенным для осознания аномальности в ее ином вербальном воплощении. Новое прилагательное, возникшее в результате поиска семантической мотивированности «аномального» признака, является своего рода «ремейком» старого в новом образе. Так, дача становится символом состоятельности, материального благополучия. Прилагательное бездачный встает в один ряд с новообразованиями эпохи безденежный, без- домовый, безночлежный, безроскошный, символизируя не просто бедность, но степень униженности человека: «Весною бедность та в грязи со мною ж вязнет, / А тут и поднялась и мимоездом дразнит / Меня, бездачного» (В. Г. Бенедиктов. Плач остающегося в городе…).
Несколько иной пример создания нового образа представлен употреблением прилагательного безъякорный , в котором производящая основа якорь выступает как символ пристанища (ср. фразеологизм бросить якорь ). Этот образ может быть рассмотрен в фокусе «эффектного романтизма», к представителям которого причисляли Бенедиктова: « Бездомный скиталец - пустынный певец - / Один, с непогодою в споре, / Он реет над бездной, певучий пловец, / Безъякорный в жизненном море...» (В. Г Бенедиктов. Певец). Появление авторского неологизма в данном метафорическом контексте, воспроизводящем мотив «странничества», добавляет ему экспрессии в силу новизны созданного поэтом образа.
При анализе словопроизводства рассматриваемых имен прилагательных особое значение приобретает вопрос о характере производящей основы, ее семантических и стилистических параметрах. В актах деривации актуализируются скрытые концептуальные признаки исходного имени, которые связаны со стереотипным образом обозначенной именем реалии. В этом отношении интересен случай употребления конфиксального прилагательного в письме А. С. Пушкина А. А. Дельвигу (16.11.1823):
«Сатира к Гнед.(ичу) мне не нравится, даром что стихи прекрасные; в них мало перца; Сомов безмундирный непростительно. Просвещенному ли человеку, русскому ли сатирику пристало смеяться над независимостью писателя?»5
Новация XVIII века безмундирный имела значение ‘не имеющий мундира’ (безмундирные народные войска)6. У Пушкина прилагательное выступает как семантическая новация: здесь важны определение нового символического значения производящей базы (мундир как знак принадлежности человека, облаченного в сей «костюм», к разряду людей, состоящих на государственной службе, чья деятельность сопряжена с кодексом чести) и анализ отношений мотивированности, которые позволяют установить характер когнитивных связей между называемой реалией и символической ролью этой номинации в осмыслении человеком действительности. На уровне текста можно видеть социальную значимость того явления, признаки которого высвечиваются в акте деривации. Кроме того, пушкинский семантический неологизм безмундирный отсылает нас к сложному и не имеющему однозначного решения вопросу о степени «предсказуемости» значений у производных слов:
«…как настойчиво и как далеко лексическое значение производного слова может уходить от исходной словообразовательной семантики… Направления и варианты этого “ухода” многообразны и непредсказуемы» [7: 252].
В вопросе влияния языка писателя на язык его современников и последующее развитие литературного языка особое место традиционно отводят авторским неологизмам, предложенным данным писателем и вошедшим затем в общее употребление. Однако, как нам кажется, не менее важным является анализ употреблений мастерами слова лексических единиц, образованных по актуальным для эпохи словообразовательным моделям. Продемонстрируем это на примере прилагательных бескрылый и безотчетный.
Прилагательное бескрылый часто упоминается исследователями в связи с развившимся у него в XIX веке переносным значением ‘лишенный творческой силы, фантазии’ (в прямом значении ‘не имеющий крыльев’ лексема впервые была зафиксирована в лексикографическом источнике XVIII века7). Очевидным является тот факт, что оппозиция типа «имеющий (крылья) / не имеющий (крыльев)», характерная преимущественно для терминологических употреблений, и оппозиция типа «имеющий (крылья) / лишенный (крыльев)» являются неравнозначными. Следовательно, актуальным является вопрос о различной природе мотивированности отмеченной семантической новации. Значение ‘лишенный творческой силы, фантазии’ никоим образом не может быть возведено непосредственно к прямому значению; природа семантической деривации производного слова представляется более сложной, в поиске ответа приходится обратиться к семантике производящей основы крыл- , переносные (образные) значения которой могут усваиваться производными [6: 81–88]. Одно из наиболее удачных определений новой семантики прилагательного бескрылый – ‘лишенный полета, вдохновения’ [6: 129]: оно указывает на метонимическую обусловленность метафоры, заложенной символическим значением производящей основы (крыло как инструмент достижения возможной связи человека с высшим, духовным миром).
Прилагательное бескрылый в сочинениях В. А. Жуковского характеризует по преимуществу не предметы или явления, а лица (богов, людей): «... сын Дия Абеон, / Задумчивый, бескрылый , / С улыбкою унылой, / Спускается с небес.» (К Б<лудов>у: Послание («Веселого пути…»)). Использование поэтом субстантивированной формы придает прилагательному обобщающий характер, оно становится характерным признаком определенной социальной группы: «Удавка тем, кто ищет славы низкой, /Кто без заслуг, бескрылые , ползком, / Вскарабкались к вершине Пинда склизкой / И давит Феб лавровым их венком» (К А. Н. Арбеневой («Рассудку глаз! другой воображенью!»)).
Употребление прилагательного Жуковским обусловлено характером лежащих в основе поэтического текста сюжетов (миф) и культурными (религиозными, идеологическими) оппозициями «Боги / люди», «небесное / земное», «верх / низ». Символическая составляющая ядерной семы «крыло» как знака принадлежности божественному и возможности связи с высшим (небесным) миром присутствует в каждом из приведенных выше употреблений и входит в мотивационную базу для формирования оценочного (отрицательного) признака.
Образный потенциал прилагательного бескрылый стал поводом для включения его в лексико-понятийный реестр 1-го выпуска «Материалов к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX–XX веков» [8: 385, 389, 390 и др.] на основе того, что «опорное слово» относится к метафорическому (семантическому) полю «Птицы». Контексты с прилагательным бескрылый из сочинений авторов первой трети XIX века свидетельствуют о его характеризующей роли в стилистике романтизма начала века: «Он <Моцарт> несколько занес нам песен райских, / Чтоб, возмутив бескрылое желанье / В нас, чадах праха, после улететь!» (А. С. Пушкин. Моцарт и Сальери8).
Отрицательный оценочный признак прилагательного бескрылый закрепляется благодаря его использованию в соответствующих контекстах. Так, например, в стихотворении Ф. Н. Глинки «Засуха» (1829), метафорически представляющем засуху счастья, прилагательное бескрылый входит последним компонентом в возрастающий градационный ряд, раскрывающий содержание базовой метафоры: «Так в засухе мир -ского счастья: / Душа томна, душа болит, / Завяла грудь, и ум бескрылый / От ярких мыслей не кипит ».
Сравнение словоупотреблений прилагательного Жуковского, с одной стороны, и Пушкина и Глинки, с другой, может свидетельствовать о некоторой тенденции к усилению у последних абстрактного начала в семантике прилагательного и ослаблению мотивационных связей между производящим и производным, обусловленных изменениями в лексической сочетаемости. Заложенные в производящем слове семантические потенции становятся основой для включения семантического неологизма в новые парадигмы: бескрылый - земной - мирской - низкий ‘подлый’ - низменный - приземленный .
Лексическая сочетаемость играет огромную роль в закреплении значения неологизма. Данное положение в полной мере относится к прилагательному безотчетный, являющемуся новацией XIX века и активно использующемуся русскими писателями пушкинской эпохи. Незначительное количество употреблений приходится на прилагательные, мотивированные существительным отчет в значении ‘сообщение о результатах своей деятельности, работе’9: «безотчетное самовластье» (В. А. Жуковский), «самодержавный, безотчетный властелин полусвета» (М. А. Корф), «безотчетный труд» (В. Ф. Одоевский). Однако мотивация прилагательного в подавляющем большинстве употреблений связана с устойчивым сочетанием не отдавать себе отчета в чем-л. (франц. être inconscient). По-видимому, здесь можно даже предположить калькирование русским прилагательным безотчетный французского inconscient. Это второе значение последовательно реализуется в определенных синтагмах: «безотчетное чувство» (Н. В. Гоголь, В. И. Даль, М. Н. Загоскин, А. А. Бестужев-Марлинский, Н. А. Полевой), «безотчетная любовь» (М. А. Корф), «безотчетная радость» (Н. А. Дурова), «безотчетная грусть» (В. А. Соллогуб, М. С. Жукова), «безотчетное страдание» (М. Ю. Лермонтов), «безотчетное веселье» (И. В. Киреевский), «безотчетное наслаждение» (В. Г. Веневитинов), «безотчетный порыв» (В. Г. Белинский), «безотчетное стремление» (К. С. Аксаков) и др. Подобные сочетания служат созданию образа героя эпохи – героя-романтика, томимого безотчетным желанием, стремящегося к безотчетному идеалу или обладающего безотчетной верой. Характер сочетаемости данного прилагательного в текстах XIX века невольно отсылает нас к известному стихотворению В. А. Жуковского «Невыразимое» (1819), в котором поэт ставит волнующий его вопрос изобразительных способностей искусства, по сути вопрос о новой поэтической форме, адекватной новой литературной реальности. Прилагательное безотчетный маркирует преобладание страстей, эмоций, чувств над разумом в оценке действий и поступков человека. Любопытно, что единственный пример употребления данного прилагательного А. С. Пушкиным, представленный в отрицательной конструкции: «Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности»10, – входит не в поэтический, а критический корпус текстов литератора. Безотчетность в писательском деле недопустима, утверждает поэт.
Интересно проследить, как благодаря лексическим новациям в стилистике литературного направления возникают новые парадигматические отношения. Так, конфиксальные имена прилагательные в составе словосочетаний безотчетное желание и бескрылое желание могут быть расценены как контекстуальные антонимы: первое связано с идеей движения, стремления к чему-либо (как правило, бессознательной устремленности духа вверх), второе – с пассивностью, лишенностью всякого (высшего) смысла.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ конфиксальных прилагательных, образованных по продуктивной модели, которые были извлечены из материалов соответствующего фрагмента дифференциального словника картотеки «Словаря русского языка XIX века», позволяет нам сделать некоторые предварительные выводы относительно мотивов и механизмов словообразовательного процесса в данном звене языковой системы. Один из них касается мощного семантического потенциала дериватов рассматриваемой словообразовательной модели, реализация которого была обусловлена происходившими кардинальными, даже революционными сдвигами в общественном и художественном сознании представителей переходной от XVIII века эпохи. Что касается употребления подобных новообразований, то следует отметить расширение сочетаемостных возможностей нового слова, закрепляющих актуальную для него семантику. Важным аспектом изучения таких прилагательных является анализ их употребления мастерами слова соответствующего периода. Если говорить о подобных прилагательных в текстах, например, А. С. Пушкина, то там они представлены (хотя и немногочисленными в количественном отношении примерами) и лексико-семантическими новациями XIX века (например, бездарный и бескрылый ), и авторскими новообразованиями ( безмесячный и безмундирный ). Кроме того, в словаре языка Пушкина зафиксированы дериваты следующей ступени от рассматриваемых прилагательных (наречия, например безнаказанно , и отвлеченные существительные, например безнаказанность , безнравственность ), что также отражает активные тенденции в словообразовании и в развитии лексикона, связанные с расширением словообразовательной базы качественных прилагательных.
Прилагательное безотчетный , новация XIX века, активно используется русскими писателями пушкинской эпохи, став ключевым словом в стилистике романтизма, подчеркивающим преобладание эмоций, чувств над разумом.
Роль указанных прилагательных в творчестве отдельных авторов заключается в создании образов не только синхронизированных с эпохой, но и опережающих время. Так, например, новизна поэтических образов В . Г. Бенедиктова осознавалась благодаря языковой форме, получавшей новую семантическую мотивированность (через символичность производящей основы дериватов). Неслучайно поэтому в дальнейшем Бенедиктов был оценен поэтами новой школы: его считали предшественником К. Бальмонта.
«Человек запечатлел в языке… свое отношение к предметному и непредметному миру, природе» [2: 3]. Выявлению этого отношения, вне всякого сомнения, способствуют наблюдение за деривационными процессами (в частности за актуализацией словообразовательных моделей), которые в определенный исторический пе- риод дают толчок новому семантическому значению, и анализ лексического наполнения этих самых словообразовательных моделей.
Список литературы Лексическое наполнение активной словообразовательной модели (на примере новообразований пушкинской эпохи)
- Айхенвальд Ю. Бенедиктов // Силуэты русских писателей / Предисл. В. Крейда. М.: Республика, 1994. С. 550-555.
- Арутюнова Н. Д. Введение // Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова, И. Б. Левонтина. М.: Индрик, 1999. С. 3-11.
- Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка, событие, факт / Отв. ред. Г. В. Степанов. М.: Наука, 1988. 339 с.
- Вендина Т. И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. Ч. 1. Кто он? // Славянский альманах 1999. М.: Индрик, 2000. С. 322-341.
- Дмитриева О. И. Актуальные проблемы современной дериватологии в трудах научного семинара «Развитие словообразовательной и лексической системы русского языка» // Развитие словообразовательной и лексической системы русского языка: Материалы VI Междунар. науч. семинара, посвящ. памяти профессора Э. П. Кадькаловой. Саратов 27-28 октября 2016 г. / Отв. ред. О. И. Дмитриева, С. А. Семеновская. Саратов: Амирит, 2016. С. 5-12.
- Ермакова О. П. Лексические значения производных слов в русском языке. М.: Русский язык, 1984. 152 с.
- Кадькалова Э. П. Выход в теорию словообразования: к вопросу о соотношении понятий словообразовательная производность и словообразовательная мотивированность. Саратов: ООО "Буква", 2015. 341 с.
- Кожевникова Н. А., Петрова З. Ю. Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX-XX вв. Вып. 1 "Птицы" / Отв. ред. М. Л. Гаспаров, В. П. Григорьев. М.: Языки русской культуры, 2000. 471 с.
- Коссек Н. В. Имена прилагательные с отрицательными префиксами в современном языке // Актуальные проблемы лексикологии и лексикографии: Материалы IX зональной конф. кафедр русского языка вузов Урала / Редкол.: М. А. Генкель (отв. ред.) и др. Пермь, 1972. С. 244-247.
- Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание. М.: Просвещение, 1977. 110 с.
- Уханова Т. В., Косова В. А. Конфиксальные прилагательные как маркер социальной значимости реалии // Филология и культура. 2016. № 1 (43). С. 121-126.
- Хожикулова О. А. Эволюция словообразовательной формы конфиксальных существительных и прилагательных // Ученые записки Казанского государственного университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2006. Т. 148. Кн. 3. С. 182-188.