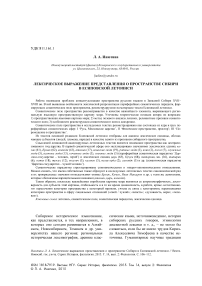Лексическое выражение представления о пространстве Сибири в Есиповской летописи
Автор: Инютина Людмила Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: К 100-летию со дня рождения профессора Кирилла Алексеевича Тимофеева
Статья в выпуске: 2 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена проблеме концептуализации пространства русским языком в Западной Сибири XVII- XVIII вв. В ней выявлены особенности лексической репрезентации периферийных семантических парадигм, формирующих семантическое поле пространства, реконструируемоенаматериалетекстаЕсиповской летописи. Семантическое поле пространства рассматривается в качестве важнейшего элемента, выражающего региональную языковую пространственную картину мира. Уточнены теоретические позиции автора по вопросам: 1) пространственная языковая картина мира; 2) метод полевого анализа лексики, релевантные признаки семантического поля; 3) особенности реконструкции семантическогополя в диахронии. Семантическое поле пространства в исследуемых текстах реконструировано как состоящее из ядра и трех периферийных семантических сфер: I ‘Русь, Московское царство’, II ‘Физическое пространство, простор’; III ‘Перемещение впространстве’. Из текстов основной редакции Есиповской летописи отобраны для анализа лексические единицы, обозначающие субъектов (людей, племена, народы) в качестве одного из признаков сибирского пространства. Смысловой доминантой анализируемых летописных текстов является понимание пространства как централизованного государства. В первой семантической сфере оно эксплицировано значениями лексических единиц ка зак (61), Ермак (62), воевода (43), атаман (17), воинские люди (19), ратные люди (3), воин (2), посол (7), служилые люди (5), ясачные люди (13), кочевные люди (3), оленные люди (3) (периферийная семантическая парадигма ‘ Цар ство- государство - человек, герой’) и лексических единиц царь (65), Кучум (68), татаровя, мн. (36), татарин (6), остяк (18), тунгус (12), вогулич (5), калмык (3), пегая орда (2), самоядь (5) и др. (семантическая парадигма ‘Царство-государство - чужой человек’). Семантические парадигмы структурированы синонимическими и гиперо-гипонимическими отношениями. Можно сказать, что имена собственные также образуют в исследуемых летописных текстах синонимический ряд и их проприальные значения отождествляют онимы Ермак, Кучум, Иван Мансуров и др. с теми же денотатами, которыеобозначены нарицательнымиименами ( атаман, царь, воевода ). Таким образом, поскольку важнейшими атрибутами картины мира являются ее антропоморфичность, достоверность для субъекта этой картины, стабильность и в то же время динамичность, в работе, кроме «естественного» пересечения категории пространства с категорией времени, учтена ее связь с категориями, переводящими категорию пространства в сферу социальных отношений («свой / чужой»; «власть»; «духовность, вера»; «человек»).
Летопись, семантическое поле, семантическая парадигма, лексическая единица
Короткий адрес: https://sciup.org/147219268
IDR: 147219268 | УДК: 811.161.1
Текст научной статьи Лексическое выражение представления о пространстве Сибири в Есиповской летописи
Сибирское историческое языкознание, как представляется, в тех направлениях, в которых оно сегодня развивается в Алтайском, Новосибирском, Томском и др. университетах нашего региона: региональная историческая лексикография, древние клас- сические языки, источниковедение, история сибирских русских говоров, этимология диалектной лексики и т. д., – не могло бы сложиться, если бы не имело трудов Кирилла Алексеевича Тимофеева в качестве источника. Гуманитарные научные традиции
Инютина Л. А . Лексическое выражение представления о пространстве Сибири в Есиповской летописи // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 2: Филология. С. 106–112.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 2: Филология
НГУ, одним из талантливейших зачинателей которых является проф. К. А. Тимофеев, развивают его последователи и ученики.
В своей работе мы исследуем процесс изменения русского языка в Западной Сибири XVII–XVIII вв., содержанием которого стал переход от первоначального состояния языка пришедших в Сибирь разрозненных отрядов и групп русских служилых и вольных людей (в начале XVII в.), к состоянию языка со сформировавшимися говорами, речью городского населения, с развитой письменностью, начавшей свое становление литературой (в XVIII в.) (см.: [Беликов, 1898; Дергачева-Скоп, 2000; Никитин, 1990; Ромодановская, 2002] и др.). Специфику этого процесса составляют его автономность, детерминированная значительной удалённостью региона от метрополии, роль церкви в развитии народно-литературного типа русского литературного языка, обусловившей его особенную традиционность («церковно-славянскость») [Панин, 1995; Ромодановская, 2002; Сабельфельд, 2008], и активное контактирование русского языка с иноязычной средой сибирских аборигенов.
Сибирские летописи – уникальное явление в русской культуре. Они являются, с одной стороны, самыми поздними текстами, созданными в этом жанре, с другой – самыми ранними образцами народно-литературного типа русского языка в Сибири. Источником исследования в работе стала Есиповская летопись. В ее текстах выражено «осознание связи факта и времени», идея «исторической предначертанности судьбы России» и, следовательно, роли «сибирского взятия» в судьбе государства [Дергачева-Скоп, 2000. С. 43].
Считаем важным выяснить, как в языке русских людей, пришедших в Сибирь, отражалось представление о новом для них пространстве, которое стало частью Российского государства в течение XVII в.
Языковая концептуализация сибирского пространства в русском языке Западной Сибири XVII–XVIII вв. понимается как познание и интерпретация этого пространства русскими переселенцами в процессе его покорения и освоения, объективированные в семантике слов. Реконструированные семантические поля пространства на основании анализа семантики лексических единиц (ЛЕ), извлеченных из источников этого хронотопа, являются важнейшей частью регио- нально-языковой пространственной картиной мира.
Компоненты пространственной картины мира – это представления об объектах, их местоположении, протяжённости, движении и перемещении этих объектов и самого субъекта мировидения, а также более абстрактные представления о направлении, расстоянии, координатах, измерении, единицах измерения. Языковой объективацией пространственной картины мира является пространственная лексика. Однако объектом нашего оперирования в работе стала непространственная лексика, поскольку она эксплицирует взаимообусловленность категории пространства и других семантических категорий (темпоральности, свойственности, духовности).
Предмет исследования в работе – семантика и семантические отношения ЛЕ в тексте Есиповской летописи, рассмотренные в качестве языкового воплощения представлений о человеке и народе (народах) как признаках сибирского пространства в XVII– XVIII вв.
В теории поля признаки и свойства семантического поля достаточно изучены: целостность структуры поля, характеризуемая связями слов или отдельных значений (с преобладанием иерархических и парадигматических отношений); системный характер этих связей, свойственных той системе, в которую входит данное поле; взаимозависимость и взаимоопределяемость ЛЕ; относительная автономность поля; обозримость и психологическая реальность для носителя языка. В методологии полевого анализа диалектическое единство свойств семантического поля проявляется, как известно, в проблематичности определения границ поля, границ между ядром и периферией, в сложности соблюдения критериев (частотность и смысловая значимость) выявления ядерной лексики, дифференциации лексики ближней и дальней периферии.
Семантическое поле пространства в тексте Есиповской летописи структурировано нами как иерархия семантических парадигм (СП). СП – это совокупность смыслов, выраженных ЛЕ в различных лексических рядах (синонимических, антонимических и пр.). В ходе анализа учитывались семантические признаки ЛЕ, общие с ключевым словом (именем поля), и количество фиксаций в исследуемых текстах (указано в скобках), поскольку это свидетельствует о степени семантической близости той или иной ЛЕ к ядру поля.
В результате реконструкции семантическое поле пространства определено как состоящее из ядра, выраженного СП ‘Пространство – Сибирь’, и трех периферийных семантических сфер ‘Русь, Московское царство’, ‘Физическое пространство, простор’, ‘Перемещение в пространстве.
Дальняя периферия семантической сферы ‘Русь, Московское царство’ состоит из шести СП, моделирующих пространственную картину мира, выражающую в качестве главной идеи понимание пространства как единого централизованного государства. Покажем реконструкцию двух СП ‘Царство-государство – человек, герой’ и ‘Царство-государство – чужой человек’, структурированных семемами, отражающими знание о коренных сибирских народах, царях и князьях Сибирского царства, представление о выдающихся и рядовых, военных и мирных русских людях, находящихся на государственной службе, и частных лицах – тех, кто участвовал во взятии, покорении и освоении Сибири.
СП ‘ Царство-государство - человек , герой ’ эксплицируют ЛЕ, обозначающие военных и служивших русскому царю людей, называющие людей, обладавших властными полномочиями: казак (61), Ермак (62), воевода (43), атаман (17), Иван Кольцо (4), воинские люди (19), ратные люди (3), воин (2), посол (7), служилые люди (5) и др.
Казачество представляло собой военную силу, участвующую в расширении пределов Российского государства и охране его новых границ. Завоевание Сибири описано в главах Есиповской летописи как опасное предприятие, ставшее возможным благодаря подвигу русских казаков. Лексема вольный (1) обозначает вольного, как и казак, человека, который также участвует в сибирских военных походах: Казаки ж принесоша к нему написание, како приидоша в Сибирь и где у них с погаными бои были… 1649 г. (ПСРЛ. С. 70) 1; Казацы же поидоша по Иртишу вверх и взяша городок Атик мурза (…) казацы же погнаша их и вслед их поби-вающе… 1649 г. [С. 53–54]; А иных вольных к себе призвал, собрал войско немалое… XVII в. (С. 78) и др.
Лексемой атаман (17) обозначено ‘должностное лицо в казачьем или стрелецком войске и в местах их поселений, выполняющее военные и административные функции’ [СлРЯ XI–XVII вв., вып 1. С. 57]: …и вооружи славою и ратоборством атамана Ермака Тимофеева сына… 1649 г. (С. 50); …в них же старейшина атаман , рекомый Ермак , и иные многие атаманья . 1649 г. (С. 73); Ермак же , взяв с собою атамана Ивана Колцова и казаков ( … ), и пойде против бу-харцов к реке Вагаю . 1649 г. (Там же) и др.
ЛЕ воинские люди (19), ратные люди (3), воин (2) обозначают военного человека [СлРЯ XI–XVII вв., вып 2. С. 307, 308; СРНДРС, 1991. С. 21; СНРРТ, 2002. С. 34, 244] и являются синонимами: И собрася со всем домом своим и с воинскими людми , и прииде ко граду Сибири , и град взя… 1649 г. (С. 64); Посла государь царь Феодор Ивано-вичь тотчас воевод своих Василия Борисовича Сукина с ратными людми. 1649 г. (С. 73); Тако и сии воини положиша упования на господа твердо… 1649 г. (С. 51). Данными ЛЕ названы воины царского – не казачьего – войска, возглавляемого воеводой. В летописных текстах различение казаков и воинских людей не является противопоставленным, как в исторических песнях о Ермаке, потому что в Сибирских летописях описано не их противостояние друг другу, а битвы казаков и ратных людей с общим врагом – с непокорными местными племенами.
ЛЕ служилые люди (5) обозначает ‘того, кто несет службу, обычно военную’ [СНРРТ, 2002. С. 262], ЛЕ посол (7) и посланник (1) называют лицо, выполняющее государственные функции: Брацкой острожек , посылают в тот острог служилых людей из Енисейского острогу ( … ) посыла-ютца ис Томского города на годовую для ясачного збору служилые люди. XVII в. (С. 76); Того же лета приидоша к Ермаку с това-рыши от Карачи послы. 1649 г. (С. 61).
Количество фиксаций слова воевода (43) – ‘лицо, представляющее высшую (чаще военную) власть на местах’ [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 2. С. 26] – сопоставимо с количеством словоупотреблений лексем атаман, Ермак, казак. Имена царских воевод в Сибири, как и имена казачьих атаманов, названы и структурируют семантическое поле пространства: …прииде с Москвы в Сибирь вое- вода Иван Мансуров с воинскими людми и доплыша реки Иртиша… 1649 г. (С. 64); Воевода же Иван Глухов и атаманы, и казаки (…) из городка погребли рекою Иртышью на низ до реки Оби… 1649 г. (С. 73).
Другую лексическую группу репрезентантов СП ‘Царство-государство – человек, герой’ составляют наименования мирных людей, относящихся к разным социальным категориям населения Сибири XVII в.: крестьянин (5), Строганов (4), посадские люди (1). ЛЕ ясачные люди (13), кочевные люди (3), скотные люди (2), оленные люди (3) и др. обозначают представителей коренных сибирских народов по их экономическим связям с властью русского царя или по характерному признаку хозяйствования.
ЛЕ крестьянин (8), пашенный крестьянин (3) обозначен ‘сельский житель, основным занятием которого является обработка земли’ [СНРРТ, 2002. С. 108], т. е. человек, ведущий оседлый образ жизни. ЛЕ посадские люди (1) обозначает ‘тягловое торговоремесленное население русских городов’ [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 17. С. 153; СРНДРС, 1991. С. 119], ЛЕ дети боярские (2) – ‘вольных слуг царя, уездных феодалов в XVI– XVII вв.’ [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 4. С. 240]: Около того Тюменского города места пашенные и многие села и деревни государевых пашенных крестьян и деревни тюменских детей боярских и служилых и посадцких людей . XVII в. (С. 75).
Ясачные люди (13) – те, кто платит ясак, т. е. налог Московскому государству [СРНДРС, 1991. С. 175; СНРРТ, 2002. С. 313]: А служилые и ясачные люди около Тюменского города тотаровя , живут кочевьем ( … ) А ясашные люди словет самоедь , качю-ют на оленях. XVII в. (С. 75–76). ЛЕ кочев-ные люди (3), оленные люди (3), скотные люди (2) употребляются для обозначения людей по их основному занятию: А около Байкала живут браты и тунгусы , люди ко-чевные. Браты люди скотные , а тунгусы оленные . XVII в. (С. 76).
В репрезентации второй из анализируемых СП ‘ Царство-государство – чужой человек ’ определяющую роль играют ЛЕ, которые обозначают сибирских владык: царь (65), Кучум (68), Чингис (4), князь (4), царевич (3) и др.
Словом царь обозначен верховный правитель как Московской Руси, так и Сибир- ского царства, других земель. Синтактика этих словоупотреблений различна. Наиболее частой является сочетаемость ЛЕ царь («чужого» царства) с личным именем сибирского владетеля (Кучум, Чингис и др.) или с определениями, выражающими локальный признак (сибирский и др.): Царь же Кучюм утече не со многими людми. 1649 г. (С. 68); На … реце Ишиме бе царь Моаме-това закону именем Он (…) О сибирьских царех и князех (…) Князь же Мар женат был на сестре ка[за]нского царя Упака. 1649 г. (С. 46–47).
Таким образом, функционирование лексемы царь в качестве обозначения Московского царя и сибирского царя разнится в исследуемых текстах, что обусловлено отличиями в прагматическом компоненте лексического значения этого слова. Синтагматика слова царь ‘правитель Российского государства’ эксплицирует положительную оценку в отличие от слова царь ‘правитель Сибирского царства’, которое употребляется: 1) вне формулы, возвеличивающей владычество царя и само государство; 2) без эпитетов, но с определениями, подчеркивающими узко локальный характер власти; 3) имена сибирских царей называются без величания и уважения. Приоритет Московского царя и его власти по сравнению с главным врагом русского продвижения в Сибирь – царем Кучумом – намеренно подчеркивается в тексте.
Другая группа лексем, репрезентирующих периферийную СП ‘Царство-государство – чужой человек’, состоит из единиц, обозначающих этническую принадлежность народа или отдельного лица и имеющих разную степень употребительности в летописи: татаровя , мн. (36), татарин (6), остяк (18), остяцкий (5), тунгус (12), бухарец (11), вогулич (5), калмык (3), калмыцкие люди (2), пегая орда (2), браты (3), яка-гир (1), мугал (2), ногай (1), самоядь (5), чудь (1).
Наиболее часто в рассматриваемых летописных текстах употребляется название народности татаровя (36), а также ЛЕ татарин (6) и татарский (1): А в Томском и в Кузнецком служилые тотаровя есть и ясаш-ные люди тотаровя ж . XVII в. (С. 76); Оттоле же иде река Тура внутрь Сибирския земли; по ней же живут тотаровя. 1649 г. (С. 44); О пришествии тотарина Карачи и прочих тотар под город Сибирь. 1649 г.
(С. 62); … яко царь Кучюм поплени тотар-ския веси … 1649 г. (С. 68).
Слово остяк (18) называет ‘представителя коренного сибирского населения: народности хантэ’, остяцкий (5) – ‘относящийся к остякам’ [СРНДРС, 1991. С. 97; СНРРТ, 2002. С. 166]: прииде во град Сибирь остяцкой князь имянем Бояр со многими остяки. 1649 г. (С. 56).
В исследуемых текстах отмечены такие названия племен и народностей, населявших Западную Сибирь, как: вогуличи (5); калмыки (3); калмыцкие люди (2); самоядь (5) – ‘самодийцы’ [СРНДРС, 1991. С. 137], ‘русское название исконных неславянских народностей Сибири’ [СНРРТ, 2002. С. 250]; чудь (1) – ‘общее название финских племен у славян’; пегая орда (2) и др.: По сих же реках жителства имеют мнози языцы : тотаровя , колмыки , му [ г ] алы , Пегая орда и остяки , самоядь и прочая языцы ( … ) по реце Иртишу , идеже живяху чюдь. 1649 г. (С. 45–46); Ощутивше же сего колмыцкие людие и погна [ ша ] его вслед. 1649 г. (С. 68); И по тем рекам живут вогуличи Верхотурского и Пелымского уезду. XVII в. (С. 76) и др.
Зафиксированы также ЛЕ, называющие народности и племена, населяющие земли за Енисеем, Байкалом, Леной и т. д.: тунгусы (12) – ‘народность, живущая в Восточной Сибири, то же, что эвенки’; браты (3) – ‘буряты’ [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 1. С. 326]; якуты (2); якагиры (1) ‘юкагиры, палеоазиатская народность, то же, что одулы’; муга-лы (2) – ‘монголы’ [СНРРТ, 2002. С. 133]: А около Байкала живут браты и тунгусы , люди кочевные ( … ) по Селенге качюют му-галы… XVII в. (С. 76); Роспись , сколько от Красноярского острогу ходу сухим путем коньми в браты ( … ) А около Ленского города живут ясачные люди , словут якуты. XVII в. (С. 77); Впала в то ж моря река Собачья , а люди по ней живут якагиры. XVII в. (С. 77).
Слово язык в исследуемых летописных текстах употреблено в двух значениях. Во-первых, язык (9) – ‘народ, народность’ [Черных, 1994. Т. 2. С. 467]. В этом значении оно является гиперонимом по отношению к перечисленным этнонимам: Великому государю всяк язык дань и ясак въсякой звериной дают и до Китайского государьства. Конец XVII – нач. XVIII в. (С. 74); …а иные языцы кумиром служаху и идолом покланя- хуся. 1649 г. (С. 73). Во-вторых, язык (4) – ‘речь’ [Срезневский, 1912. Т. 3. С. 1648]. Отметим, что, будучи употребленным во втором (более древнем) значении, данное слово отражает представление о важнейшем этническом признаке людей, занимающих ту или иную сибирскую территорию: …и по которым рекам стоят государевы городы и остроги, и каковы по тем рекам розных языков люди имеют жительство (…) язык у остяков нарымской и кедцкой один. XVII в. (С. 75–76).
Итак, дальняя периферия семантической сферы ‘Русь, Московское царство’ структурирована значениями ЛЕ, называющих и именующих должностных лиц ( атаман , воевода , посол и др.) и вооруженных людей ( казаки , воины и др.), которые представляются в летописных текстах единой силой, направленной против общего врага. Семемы ЛЕ, обозначающих вновь прибывающих в Сибирь из европейской части Московской Руси и коренных жителей, которые занимаются мирным трудом, также формируют данную СП ( ясачные люди , крестьянин , посадские люди , кочевные люди , оленные люди и др.). Отметим, что антропонимы являются частью лексической репрезентации семантического поля, выполняя функцию идентификации пространства Сибири.
Население, его этническая принадлежность в реконструируемом семантическом поле пространства является необходимой, хотя и периферийной характеристикой места. Описание в летописи новых для Российского царства земель, лежащих за Уралом, выдержано в едином масштабе: огромное пространство ( Сибирское царство , страна ) заселено племенами и народами, а не отдельными лицами.
С точки зрения системно-структурной, ЛЕ организованы синонимическими ( посол – посланник ; воинские люди – ратные люди – воин; калмыки – калмыцкие люди ) и гиперо-гипонимическими отношениями (гиперонимом является слово язык ‘народ, народность’, гипонимами – слова, обозначающие конкретные племена и народности Сибири XVII в.).
С точки зрения языковой прагматики, некоторые ЛЕ как репрезентанты реконструированной СП являются маркированными ее членами. Так, лексемы царь, князь, царевич в дистрибуции, эксплицирующей их употребление для обозначения сибирских владык, выражают неодобрительную оценку, негативную эмоциональность и экспрессию, что сопоставимо с прагматикой ЛЕ нечестивый, бусурманский, окаянный и др. (СП ‘Царство-государство – вера’) и противопоставлено прагматике этих же единиц, а также лексем казак, воевода, атаман и др., употребляемых для обозначения Московского царя, российских людей, облеченных властью (СП ‘Царство-государство – власть’, ‘Царство-государство – человек, герой’).
Таким образом, поскольку важнейшими атрибутами пространственной картины мира, как и картины мира в целом, являются ее антропоморфичность, космологичность, достоверность для субъекта этой картины, стабильность, устойчивость и в то же время динамичность, в работе, кроме «естественного» пересечения категории пространства с категорией времени, учтена ее связь с категориями, переводящими категорию пространства в сферу социальных отношений («свой / чужой», «власть», «духовность, вера», «человек»).
Список литературы Лексическое выражение представления о пространстве Сибири в Есиповской летописи
- Беликов Д. Н. Первые русские крестьяне - насельники Томского края и разные особенности в условиях их жизни и быта: Общий очерк за XVII и XVIII столетия: Моногр. Томск, 1898. 138 с.
- Дергачева-Скоп Е. И. Сибирское летописание в общерусском литературном контексте конца XVII - середины XVIII в.: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. Екатеринбург, 2000. 49 с.
- Никитин Н. И. Освоение Сибири в XVII в.: Учеб. пособие. М., 1990. 141 с.
- Панин Л. Г. История церковнославянского языка и лингвистическая текстология: Моногр. Новосибирск, 1995. 217 с.
- Ромодановская Е. К. Сибирь и литература. XVII век: Моногр. Новосибирск, 2002. 391 с.
- Сабельфельд Н. М. Глагольные формы и книжная традиция: к вопросу о языке сибирского летописания XVII века // Искусство грамматики: Сб. ст. Новосибирск, 2008. Вып. 3. С. 405-424.