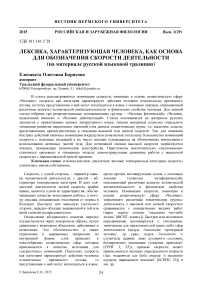Лексика, характеризующая человека, как основа для обозначения скорости деятельности (на материале русской языковой традиции)
Автор: Борисова Елизавета Олеговна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 1 (29), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются номинации скорости, имеющие в основе семантическую сферу «Человек»: скорость как категория характеризует действия человека относительно временного потока, поэтому представления о ней могут воплощаться в языке с помощью лексики, описывающей различные аспекты человеческой жизнедеятельности и физические свойства человека. Для данной статьи избраны три репрезентативные мотивационные группы - «Человек физический», «Человек, наделенный именем» и «Человек действующий». Статья основывается на материале русских диалектов с привлечением данных литературного языка. Анализ материала позволил определить тенденции развития переносных значений слов данных семантических групп, т.е. выделить модели, представленные преимущественно в описании высокой или низкой скорости. Так, для описания быстрых действий типичны номинации посредством соматизмов, поскольку большинство номинаций скорости с помощью входящей в их число лексики основывается на обозначениях интенсивного использования активных частей тела. Для негативной оценки высокой скорости задействуется лексика, называющая психические расстройства. Практически исключительно «медленными» становятся «речевые» и «пищевые» модели, демонстрирующие сравнение работы с невысокой скоростью с нерациональной тратой времени.
Этнолингвистика, диалектная лексика, темпоральные категории, скорость, соматизмы, имена собственные
Короткий адрес: https://sciup.org/14729364
IDR: 14729364 | УДК: 811.161.1''28
Текст научной статьи Лексика, характеризующая человека, как основа для обозначения скорости деятельности (на материале русской языковой традиции)
соматизмы; имена собственные.
Скорость, с одной стороны, - параметр оценки человеческой деятельности, с другой - абстрактная темпоральная категория. В акте совместной деятельности людей скорость крайне важна, является одной из характеристик, обеспечивающих качество выполнения работы, а потому лексика, называющая отклонения от нормы в большую ( быстро ) или меньшую ( медленно ) сторону, нередко обладает выраженной в той или иной степени экспрессивностью.
Осмысление абстрактного понятия нередко осуществляется через конкретные образы, путем сравнения с видимыми объектами, действиями и качествами. Это обстоятельство, а также стремление к выражению экспрессии во внутренней форме слов приводит к многообразию семантических сфер, которые привлекаются в качестве источника для «скоростных» номинаций. Поскольку скорость как категория характеризует действия человека относительно временнóго потока, то представления о ней могут воплощаться в языке, среди прочих мотивирующих кодов, с помощью лексики (зачастую метафорической), описывающей различные аспекты человеческой жизнедеятельности и физические свойства человека. Номинации скорости, имеющие в основе семантическую сферу «Человек», затрагивают различные тематические группы: деятельность с высокой или низкой скоростью сравнивается с конкретными видами работ (перм. марену копать ‘медленно что-либо делать’ [ФСПГ: копать]), быстрое или медленное передвижение ассоциируется с ситуациями, типичными для представителей каких-либо сфер деятельности (калуж. блинохват ‘проворный человек’, ср. урал., курск. блинохват ‘о служителе церкви; лицо духовного сословия, бесцеремонно хватающее угощение прихожан’ [СРНГ 3, 25]), признак скорости может приписываться человеку определенного возраста (пск. тащиться как баба старая ‘о медленно идущем, шаркающем человеке’ [БСРНС, 25]) и мн. др.
«Скоростная» лексика и фразеология, в основе которой различные обозначения человека, очень многочисленна. Для данной статьи выбраны три более частные мотивационные группы – «Человек физический», «Человек, наделенный именем» и «Человек действующий». Их выбор определяется, во-первых, концептуальной значимостью, во-вторых, репрезентативным количеством лексического материала, в-третьих, тематическим разнообразием (данные сферы представляют лексику, отражающую образ человека с разных сторон).
Человек физический
Скорость – это характеристика деятельности или передвижения, т.е. физической активности человека, поэтому ее «измерение» регулярно осуществляется в языке с помощью соматизмов . Части тела – древнейший и неизменно находящийся «под рукой» инструмент познания действительности и обозначения скорости, в основе которых наименования частей тела человека или действия, ими выполняемые, относятся к наиболее многочисленным.
Прежде всего в номинации скорости представлены наименования частей тела, являющихся основным средством передвижения или выполнения работы, – рук и ног: литер. на скорую руку ‘быстро, поспешно’ [ССРЛЯ 12, 1543], печор. нескорой руки ‘медлительный, неповоротливый’ [ФСРГНП 2, 106]; волог., ленингр. на крутýю руку ‘наскоро’ [СРГК 5, 578; СВГ 4, 7] (ср. диал. шир. распр. крутой ‘скорый, проворный, быстрый’ [СРНГ 15, 330]); литер. на живую руку ‘быстро, поспешно’ [ССРЛЯ 12, 1543], волгоград., перм., пск. живой ногой ‘быстро’ [СВолгГ 3, 502; ФСПГ: нога; СППП, 56] (ср. литер. живой ‘деятельный, активный, оживленный, бойкий’ [Ушаков 1, 86]); морд. на бешеную ногу ‘очень быстро, стремительно’ [СРГМ 1, 664] (ср. разг. бежать как бешеный ‘очень быстро’ [БСРНС, 48]).
Активна модель «количественное обозначение (от одного до четырех ) + наименование части тела», в рамках которой проявляются различные мотивационные отношения.
Сочетания с числительным один наиболее частотны и при этом обладают различными коннотациями в зависимости от представленного в единственном числе наименования части тела. Передвижение «на одной ноге» характеризуется очень высокой скоростью: ряз. на одной ноге вертеться ‘делать что-либо быстро, ловко, так, что все спорится в руках [СРНГ 21, 262], волгоград., сиб. на одной ноге ‘очень быстро, проворно’ [СВолгГ 3, 503; ФСРГС, 122], сиб. на одной ножке поворачивать ‘делать что-либо очень быстро’ [ФСРГС, 138], сиб. крутиться на одной пятке ‘о собранном, энергичном человеке’ [там же, 99].
Следует обратить внимание на то, какое именно действие называется в приведенных фразеологизмах. Во-первых, верчение само по себе воспринимается как образец высокой скорости и энергичности (ср., например, ряз. вёртко ‘быстро, скоро’ [СРНГ 4, 153], пск. вертéль ‘глаг. междом. употребляется для обозначения быстрого движения по знач. глагола вертеть ’ [там же, 150] и мн. др.). Во-вторых, оно упрощается и ускоряется при меньшем количестве производимых движений – ср. объяснение польского фразеологизма с аналогичной приведенным выражениям внутренней формой na jednej nodze («на одной ноге») ‘очень быстро, как можно быстрей’, данное Е. Бральчиком: «Казалось бы, что для быстрого бега лучше как раз использовать обе ноги, а не только одну. Но, с другой стороны, мы легко можем представить, что бег на большем количестве ног может быть затрудненным, а значит, более медленным» [SF, 178]. Мотивация данных выражений, таким образом, сходна с литер. одна нога здесь, другая там ‘очень быстро, молниеносно’ [ФСРЯ, 281] (ср. также контекст: «На адной наге – быстра нада зделать, адна нага здесь, адна там» [СВолгГ 3, 503]), ленингр. нога зá ногу не задевает ‘выполнять работу быстро и ловко’ [СРГК 4, 33]. Буквально образ читается так: чтобы подставить одну ногу к другой, затраты времени не требуются1. Идея о том, что ноги могут «мешать» друг другу и замедлять движение, поддерживается фразеологизмом нога зá ногу ‘медленно, еле-еле’ [ФСРЯ, 281]. С другой стороны, фиксируются выражения с числительным один и обозначением активной части тела, у которых появляется, помимо собственно скоростной, семантика торопливости (предполагающей снижение качества), ср. ленингр. одной рукой ‘наскоро’ [СРГК 4, 151]. Логика возникновения таких сочетаний аналогична той, что мотивирует наречие вполсилы .
В сочетаниях с числительным три отражается мотивационный параллелизм рук и ног: пск. в три ноги ‘очень быстро (бегать, бежать)’ [СППП, 56], волог. в три ноги бегать ‘очень быстро ходить’ [СРГК 1, 48], дон. в три руки ‘очень быстро’ [БДК, 463]. Высокая скорость в данном случае связана с интенсивностью, для выражения которой типично использование числительного три, ср.: «Три как показатель значительного количества может приобретать семантику интенсивности, указывая на особую силу проявления какого-либо признака или действия: <...> работать за троих ‘много работать’, диал. перм. в три косы!‘интенсивно, с большим напряжением’» [Шабалина 2011: 25]. В соматических номинациях три - число, называющее «нормальное количество конечностей + 1», что поддерживает идею увеличения (ускорения).
Что касается простореч. на четырёх ногах ‘очень быстро, поспешно (убежать, уехать и т. п.)’ [БСРП, 439], то здесь проявляется двойная мотивация: во-первых, имеет место, как в предыдущем случае, гиперболизация количества конечностей; во-вторых, образ отсылает к животным, передвигающимся на четырех лапах быстрее человека, ср. также новг. хвост крючком ‘о быстро бегущем человеке’ [БСРП, 711], литер. во все лопатки ‘очень быстро’ [ФСРЯ, 233] (по версии В. М. Мокиенко, фразеологизм возник как характеристика быстрого бега лошади, при котором выступают лопатки [Мокиенко 2005: 399]).
Отметим, что числовые сочетания номинируют только высокую скорость. Кроме того, из ряда практически исключено числительное два (фиксируется всего один пример - дон. на две руки ‘очень быстро’ [БДК, 463]) . Таким образом, для обозначения быстрого действия используется образ «аномального» числа конечностей. Происходит это, возможно, потому, что «норма» не только не отмечается языком (как не выделяется «средняя» скорость), но и не служит основой для номинации из-за недостаточной выразительности (при высокой экспрессивности скоростных номинаций с помощью «соматических аномалий»). При этом возникают многочисленные сочетания с местоимением весь , в которых логически представлено «нормальное» количество конечностей. Они близки по механизму семантического развития выражениям типа в полную силу , изо всех сил , во всю прыть ‘очень быстро’: литер. со всех ног ‘очень быстро, стремительно’ [ФСРЯ, 281], арх., карел. во (на) все ноги ‘очень быстро’ [АОС 4, 15; СрГК 4, 31], печор. на все руки спешить ‘быстро идти, широко размахивая руками’ [ФСРГНП 2, 8], а также арх. во (на) всю ногу , волгоград. на всю ногу ‘быстро (идти)’ [АОС 4, 15; СВолгГ 3, 502].
Сочетания названий частей тела с предлогом / приставкой без, противоположные по внутренней форме приведенным выше, создают своеобразную «энантиосемию» (на уровне организации образа, а не словообразовательного гнезда), ср. пск. без ног ‘очень быстро, изо всех сил (бежать)’ [СППП, 56] и вят., яросл. безлядвый ‘ленивый, непроворный’ [ЯОС 1, 47] (яросл. лядвея ‘бедро, ляжка’). Первое выражение продолжает логику, описанную при анализе фразеологизмов с числительным один: гиперболизируется «неучастие» ног в передвижении, приближающемся к полету (ср. литер. не чуя под собой ног (бежать), пск. только ноги к земле не пристают ‘о быстро и легко идущем, бегущем человеке’ [СППП, 56], костр. нога ó пол не хвáтит ‘очень быстро’ [КСГРС], к которым можно мотивационно приравнять псковский фразеологизм). Слово безлядвый может быть рассмотрено в ряду диал. шир. распр. пахорукий ‘с поврежденной, больной или парализованной рукой (руками)’ ^ ‘медлительный, неловкий, неумелый’, волог. пахоруча ‘неловкий, неповоротливый, медлительный человек (обычно бранно)’ [СРНГ 25, 293]: человек, совершающий действия неумело и медленно, описывается как обладающий больными, поврежденными руками или ногами.
Как видно по приведенным примерам, номинации через указание на «активную часть тела» чаще встречаются при описании скорости передвижения (именно за передвижение «отвечает» конкретная часть тела). Среди прочих возможны метафорические обозначения, в которых ноги являются не только «исполнителями», но и «инициаторами» движения: карел. несут ноги ‘идти быстро, бежать’ [СРГК 4, 14], волог. ноги играют ‘о быстром беге’ [СВГ 5, 111].
Особой активностью в отсоматических обозначениях скорости, помимо рук и ног , обладают пятки : перм. только пяты щёлкают ‘о человеке, который быстро бежит, убегает’ [ФСПГ: пята], новг. только пятки горят ‘о быстром движении прочь’ [НОС 9, 77] и т. д. Во-первых, пятки также представляются частью тела, которая принимает непосредственное участие в передвижении, что подтверждается мотивационным параллелизмом ног и пяток : арх. ноги гудят ‘идти легко и быстро’ [СРГК 1, 411] и новг. только пятки вуют (воют) ‘очень быстро’ [НОС 1, 140]; пск. только пя́ты говорят (скрипят) ‘о быстро идущем человеке’ [СППП, 64] и мурман. только ноги говорят (гремят) ‘быстро бежать’ [СРГК 1, 348, 392], - а также существованием выражений, в которых ускорение связывается с воздействием на эту часть тела: прост. нажимать на пятки ‘быстро бежать’ [ССРЛЯ 11, 1833], пск. пятки намыливать ‘очень быстро бежать’ [СППП, 64]
(ассоциации с высокой скоростью передвижения объясняются в данном случае способностью «намыленного» скользить, ускользать, ср. нестись как намыленный ‘о стремительно, быстро, сломя голову бегущем человеке’ [БСРНС, 426]). Во-вторых, пятки - та часть тела, которая при «убегании» воспринимается наблюдателем как движущаяся и занимает (вместе с задницей ) при этом «самое заднее» положение: литер. только пятки сверкают ‘кто-либо очень быстро бежит’ [ФСРЯ, 374], карел. аж пятки блестят ‘о быстро бегущем человеке’ [СРГК 1, 76]), пск. только пяты в жопу тукали ‘о человеке, который быстро бежит’ [СППП, 64] и мн. др.
Вообще, признак расположения частей тела является одним из наиболее важных при создании «скоростных» номинаций. Так, «переднее» положение головы (ср. литер. голова ‘первые ряды’) обусловливает использование ее образа при обозначении движения с высокой скоростью, опережения: коми вперёд головой ‘очень быстро (бежать)’ [БСРП, 140]. Образ зада, наоборот, привлекается для экспрессивнонегативной характеристики медлительных людей, отстающих от других и оказывающихся сзади, а также их действий, ср. южн.-сиб., енис., вост.-сиб., перм., костром., твер., влад., пск., вят., тобол., свердл., волог. гузать ‘медлить, мешкать, тянуть’ [СРНГ 7, 206]; перм., свердл., южн.-сиб. загузаться ‘замешкаться, задержаться’ [СРНГ 10, 35]; перм. гуза ‘неповоротливый, медлительный, мешковатый человек’ [СРНГ 7, 206]; без указ. мест. гузýн ‘неповоротливый, медлительный, мешковатый человек’ [там же, 210]; перм. гузанье ‘медлительность’ [там же, 206] (<диал. шир. распр. гуз ‘задняя часть тела; ягодицы’ [там же]).
Названия частей тела, которые не являются инструментами совершения действий, также могут включаться в описания скорости: изменения в положении головы, выражении глаз и пр. воспринимаются как свидетельства о состоянии человека, прикладываемых им усилиях: печор. только голова летает ‘кто-либо быстро, ловко работает’ [ФСРГНП 2, 331], перм. только шары веют (мелькают) ‘кто-либо быстро, энергично что-либо делает’ [ФСПГ: шары], яросл. лоб зальгсить ‘бежать быстро, сломя голову’ [ЯОС 6, 8], пск. глаза вывернувши на лоб ‘быстро, поспешно; изо всех сил’ [ПОС 6, 173].
Склонность человека к осуществлению действий с высокой или низкой скоростью описывается путем соотнесения с некоторыми физиологическими состояниями, характеризующимися изменениями в поведении, снижением или увеличением активности. Так, медлительный человек сравнивается со спящим или любящим спать (соней): смол. оспало ‘вяло, сонно, медлительно’ [СРНГ 24, 50], башкир., яросл. сонной ‘медлительный, вялый’ [СРГБаш С-Я, 42; СРНГ 39, 324], краснояр. соня ‘медлительный, нерасторопный человек’ [СРНГ 38, 325], башкир. сонуря ‘медлительный, нерасторопный’ [СРГБаш С-Я, 42], волог. спящóй ‘вялый, медлительный’ [СРГК 6, 294], арх. спиха ‘неторопливый человек’ [КСГРС], арх. спящий ‘тихий, медлительный человек’ [КСГРС], разг. (двигаться) как сонный ‘о чьих-л. вялых, замедленных, неловких и механически затянутых движениях’ [ССРЛЯ 14, 265]; ряз., терск. снулый ‘медлительный, неповоротливый’ [СРНГ 39, 133] (ср. диал. шир. распр. снулый ‘сонный, вялый’ -«Ходит, как спит, вот ето человек снулый называется» [там же]).
Противоположное сну состояние -бодрствование - является нормой при совершении деятельности, и связанные с ним «скоростные» номинации практически отсутствуют. Исключением является одно выражение, во внутренней форме которого происходящее за короткое время действие сравнивается с быстрым переходом из одного состояния в другое: пск. (сделать) как проснуться ‘об очень быстром, мгновенном совершении чего-либо’ - «Мы так быстра приехали аттуля <возвратились из выселки в Сибири>, как праснулися» [СППП, 112].
Все обсуждаемые нами в данной статье метафоры обладают прозрачной внутренней формой и осознаются носителем языка на синхронном уровне. Исключением служат номинации быстроты и медлительности, связанные с обозначениями здоровья и болезней . Отличительной особенностью данной группы является то, что большая часть семантических переносов отражает наиболее древние представления о скорости.
Семантическую связь ‘здоровый’ ^ ‘быстрый’ на праславянском уровне и в отдельных славянских языках описывает Ж. Ж. Варбот в статье «Славянские представления о скорости в свете этимологии» [Варбот 1998]. По приведенным в работе данным названная модель являлась достаточно продуктивной. Автор отмечает синкретизм значений производящих прилагательных, называющих качества, наличие которых становится условием движения с высокой скоростью (при этом модель ‘здоровый’ ^ ‘быстрый’ сходна с моделью ‘легкий’ ^
‘быстрый’): «Ярко проявляется производность значения ‘быстрый’ от ‘крепкий, здоровый, зрелый, сильный’ ( *кгерькь , *bъdrъ , *Ъи]ьпь , *sporъ , jarb , *zestbkb , *drecnb , *^drb ) и ‘большой’ ( * ( па ) гатепь , *до1еть ). Очевидно, в этой семантической модели обобщаются физические характеристики движущихся неживых природных объектов (воды, ветра) и живых существ (животных, человека), обеспечивающих способность к быстрому движению. Такова реальная, физическая база и модели ‘легкий’ ^ ‘быстрый’ ( *1ьдькь ). Различие субъектов движения и соответственно их качеств, необходимых для быстрого движения, обусловливает, таким образом, вовлечение в сферу представлений о быстроте весьма разнородных качеств: ср. ‘большой’, ‘крепкий’ и ‘легкий’» [там же, 126].
На синхронном уровне группа «Здоровье -болезнь» симметрична: в современных говорах актуальна связь значений ‘здоровый’, ‘сильный’ ^ ‘быстрый’ и ‘болезненный’, ‘больной’, ‘слабый’ ^ ‘медленный’. При этом модель может наблюдаться в номинациях как субъекта, так и качества действия (совершаемое быстро действие - такое, к которому приложили усилие ): волог. корпусной ‘хорошего физического сложения, сильный’ ^ ‘бойкий, быстрый’ [СРГК 2, 435], ворон., сарат. сильно ‘быстро’ - Тройка так сильно бежала по улице, что по следу аж пыль столбом пошла [СРНГ 37, 314].
Аналогично с низкой скоростью соотносится не болезнь как временное состояние, а болезненность, слабость, «немощь»: олон. моньжа ‘о вялом, хилом, больном человеке’ ^ олон. мóньжа ‘о тихом, медленно и вяло работающем человеке’ [СРНГ 18, 253]; пск. (идти) как влогий ‘об очень медленно, волоча ноги идущем человеке’ [БСРНС, 99] (ср. влогий ‘увечный, немощный’ [ПОС 4, 54]); орл. копаться как немущий/немущой ‘о медлительном, излишне долго делающем что-л. человеке’ [БСРНС, 434] (ср. орл. немýщий/немущóй ‘слабый, болезненный, немощный’ [СОГ 7, 107]).
В говорах также фиксируются слова, которые не напрямую реализуют приведенную модель (‘болезненный’ ^ ‘медлительный’), но сочетают оба значения в своей семантической структуре. Так, пск., твер. гмырить ‘делать что-либо медленно, вяло; мешкать, возиться’ [СРНГ 6, 234]; южн.-сиб., пск. гмыра ‘неповоротливый, медлительный человек’[СРНГ 6, 233-234] производны, по данным ЭССЯ, от *gmyriti, которое связано с *gmur-, *xmur-, *xmyr-. Все эти корни объединяются значением ‘хмуриться, быть в дурном расположении духа’ (которое представлено в лексике говоров, например, у новг., пенз. гмырить ‘быть в болезненном состоянии или не в духе’ [СРНГ 6, 234])2.
Представление о медленном движении как о чем-то однообразном, длящемся, при этом раздражающем, реализуется в карел. нудный ‘медлительный, вялый’, карел. нудно ‘медленно’ [СРГК 4, 52]. Нудный связан по происхождению с ныть ‘болеть не переставая, упорно, длительно, тупо; тосковать, выражая свои переживания тягучими стонами и жалобами’ [Черных 1, 582]. Таким образом, разные значения этого слова объединяются признаком «долго, однообразно», на котором основывается и «медлительность», ср. контекст к приведенному слову, актуализирующий этот имплицитно присутствующий компонент значения: «Нудная женщина, тянет с ответом, некрутая» [СРГК 4, 52].
Итак, субъект, охарактеризованный как больной , болезненный , является эталоном носителя невысокой скорости. Тем не менее некоторые состояния, которые с логической точки зрения также являются болезнями , становятся объектом сравнения при описании быстрого движения. В сознании носителей языка существует представление о нормальной скорости совершения действий, перемещения. Как уже отмечалось выше, снижение скорости всегда воспринимается как отклонение и оценивается отрицательно. Повышение скорости характеризуется менее однозначно и получает отрицательную оценку в тех случаях, если ему сопутствует снижение качества, суетливость и пр. Специфика лексики данной группы (лексики скорости, производной от названий заболеваний, т.е. «ненормальных» состояний человека) в аксиологичности: и низкая, и высокая скорость воспринимаются как отклонения от нормы из-за заложенной во внутренней форме идеи неестественности.
Оценивающаяся отрицательно высокая скорость описывается с использованием названий психических расстройств, различных вариаций болезней «головы», которые изменяют поведение человека, не позволяют считать его адекватным с точки зрения нормы. При номинации быстроты неадекватность выбора скорости передвижения создается лексическими конкретизаторами «суматошно», «не разбирая дороги», «беспричинно» и т. п. Таким образом, соответствующие значения развиваются у наименований сумасшествия, бешенства, умственной неполноценности и подобных, объединенных идеей «отсутствия разума»: разг.
бежать как сумасшедший ‘о слишком быстро, стремительно и не разбирая дороги движущемся куда-л. человеке, животном’ [БСРНС, 667], разг. бежать как бешеный ‘об очень быстро, стремительно движущемся куда-л. или откуда-л. человеке, животном или транспорте’ [БСРНС, 48], разг. бежать как ненормальный ‘об очень быстро, стремительно и суматошно движущемся куда-л. человеке, животном или транспорте’ [БСРНС, 435], разг. бежать как безумный ‘об очень быстро, стремительно движущемся куда-л. или откуда-л. человеке, животном или транспорте’ [БСРНС, 41], сиб. без ума ‘очень быстро’ [ФСРГС, 204], брян. бежáть как глумной ‘о стремительно и беспричинно бегущем куда-л. человеке или животном’ [БСРНС, 135] (диал. шир. распр. глумной ‘умственно неполноценный, глупый’ [СРНГ 6, 211]), пск. бегать (носиться) как блаженный ‘о быстро и суматошно бегающем человеке’ [СППП, 87] и мн. др.
Сравнение человека, которому свойственна высокая скорость передвижения, с пораженным зудом (чесоткой и пр.) основывается на сходстве «двигательной активности», неспособности принять статическое положение: волог., перм., урал., яросл. как зуда ‘быстрый, подвижный человек, егоза, непоседа’ [СРНГ 12, 19] (< зудеть ); курск. восса ‘болезнь кожи, сопровождающаяся зудом (лишай, экзема, чесотка); зуд’ ^ ‘о беспокойном, непоседливом человеке’ [СРНГ 5, 145]. Причиной сравнения являются, во-первых, беспокойное поведение обладателя кожного зуда, сопровождающееся резкими быстрыми движениями, а во-вторых, тенденции развития «скоростной» семантики у самих глаголов со значением ‘чесать(ся)’ на основании признака интенсивности, ср., например, кубан. зудить ‘делать что-либо быстро, действовать энергично’ [СРНГ 12, 20].
Значения, связанные с проявлениями невысокой скорости, развиваются у многочисленных производных слова кила, которое называет различные болезни, представляющиеся внешне как инородный нарост (ср. кúлá прост. ‘грыжа’ [ССРЛЯ 5, 940], шир. распр. ‘нарыв, чирей, карбункул’, сарат., влад., перм. ‘нарост дикого мяса’ [СРНГ 13, 205– 206] и др.). М. Фасмер отмечает родство приведенных слов с номинациями медлительности: кила ‘мешковатый человек’ (‘вялый’), килиться ‘мешкать, медлить’ [Фасмер 2, 232]. В современных говорах значение «чистой» невысокой скорости, т.е. медлительности, как в волог. килиться ‘о чем-либо медленно происходящем’ [СРНГ 13, 208], представлено, тем не менее, у дериватов этого корня значительно реже, чем «относительной»: кила и ее дериваты активно используются для выражения семантики «отставания». Килой называется человек, отстающий от других при выполнении какого-либо дела, ср. сиб. кила ‘о человеке, отставшем от других в косьбе, жатве’, петерб. ‘прозвище возчика навоза в поле, который отстает от других в работе’ [СРНГ 13, 206] и с более широким значением волог. кила, килит ‘прозвище человека, который остается последним в каком-л. деле, в игре и т. д.’ [КСГРС]. Вербальная маркировка отстающих работников дополняется предметной: онеж. кила ‘пучок сена или сжатого жита, прикрепленный к палке’ - «Ставят на полосы соседей, запаздывающих с жатвой. Своего рода символическая насмешка: “Вот подожди, я те килу поставлю”» [СРНГ 13, 206]; онеж. на тебе килу ‘слова, которые говорят тому, кто плохо работает, подавая при этом палку с привязанным на конце сеном’ [СРГК 2, 345]. Использование килы в качестве позорящего символа, вручаемого плохому работнику для демонстрации порицания, может объясняться фаллической символикой этого предмета (ср. демонстрацию гениталий с целью оскорбить), а также связью с деструктивными магическими действиями, вызывающими болезнь: «возможность “повесить”, “привязать” килу вытекает из того, что кила, по поверью, нередко появляется вследствие сглаза, т. е. может быть “наслана” извне (ср. арх., ворон., дон., перм., ряз., сиб., тульск. сажать, ставить килу ‘по суеверным представлениям - вызывая действие сверхъестественных сил, насылать грыжу, опухоль’)» [Березович 2007: 246]. К ритуальной практике отмечать факт отставания каким-либо предметом, называемым килой, отсылают также костромские выражения кúлу оставить ‘опередить кого-л. в работе’ - «Опоздал с работой, позднее всех делаешь - ну тебе килу оставят» - и килу сдать ‘то же’ - «Я быстро сделаю, а ты медленно - вот я тебе килу сдаю» [ЛК ТЭ], которые обладают более абстрактным значением (т.е. применимы не только к жатве, косьбе); их произнесение при этом уже не сопровождается соответствующим действием.
Человек, наделенный именем
Возможны обозначения носителей определенной скорости по эталонным представителям, образованные от имен собственных, как, например, арх., яросл. вавила, вавило ‘о неповоротливом, неуклюжем, медлительном человеке’ [КСГРС; ЯОС 2, 44], смол. как артюха ‘об очень вялом, медлительном человеке’ [ССГ 1, 86], арх. антроп ‘полный медлительный человек’ [КСГРС] и др.
Механизмы возникновения отантропонимических номинаций различных качеств человека описывает И. В. Родионова [Родионова 2005]. Она отмечает, что медлительность относится к числу наиболее частотных объектов номинации в рамках названной модели, что еще раз свидетельствует о том, что в сознании носителя говора способность к выполнению работы с определенной скоростью входит в «аксиологическую доминанту». Кроме того, для отантропонимической лексики характерна диффузность семантики: одно апеллятивное значение имени касается ряда черт характера (ср.-ур. митя ‘нерасторопный, медлительный, растяпа’ [СРГСУ 2, 133]) или на одной территории фиксируются несколько производных одного имени (башкир. акулюшка ‘о неловком, нерасторопном, неуклюжем, неумелом человеке’, ‘глупенькая’, ‘о неаккуратном, неопрятном человеке’ [СРГБаш А-И, 20]). Номинации с диффузными значениями демонстрируют корреляции медлительности с умственной неполноценностью, неуклюжестью, неумелостью, робостью. Поскольку абсолютное большинство отантропонимических номинаций -негативные, обозначения склонности к высокой скорости представлены значительно реже и выражают идею нецелесообразности, безрезультатности ускорения: сиб. как Анáний с ящиком ‘о человеке, который делает что-либо торопясь, суетливо, но без значительных результатов’ [ФСРГС, 7].
Приведем примеры отантропонимических номинаций людей, которым свойственна высокая или низкая скорость совершения действий, отметив, что имена нередко дополняются атрибутивом, указывающим на соответствующую черту характера: перм. ваня задний ‘отстающий, медлительный’ [СПГ 1, 77], перм. как Лиза околупанка ‘о медлительном человеке’ [ФСПГ: околупанка] (ср. ряз., курск. колупай ‘нерасторопный, медлительный человек, копуша’ [СРНГ 14, 200]), ленингр. луша кинецкая ‘о нерасторопном, медлительном человеке’ [СРГК 3, 161]; карел. бегать, что Савва без узды ‘очень быстро ходить, двигаться’ [СРГК 1, 48] (ср. пск. бегать как конь незанузданой ‘о быстро, свободно движущемся человеке’ [БСРНС, 284])3.
Человек действующий
Скорость является динамической характеристикой, а потому нередко описывается с помощью обозначений действий, выполняемых человеком. Среди них важное место занимают семантические переносы, основанные на соотнесении действий, производимых быстро или медленно, с конкретными видами хозяйственных работ, занятий. Модели такого рода подробно рассмотрены нами в статье [Березович, Борисова 2011], здесь приведем лишь некоторые примеры из этой работы. Круг «эталонов» из разных сфер человеческой жизнедеятельности достаточно широк, при этом среди них практически нет основных крестьянских работ (сева, молотьбы и пр.), за исключением одного вида деятельности из сферы полеводства - копания земли (влад., олон. закапываться ‘медленно делать, выполнять что-л., долго возиться с чем-л., мешкать’). Представлено строительство (арх. затынивать ‘обносить что-л. забором, частоколом; загораживать’ ^ ‘делать что-л. медленно, бестолково; канителиться’), пастушество (влад., ворон., калуж., курск., орл., смол., тульск. воловодить ‘затягивать исполнение чего-л., медлить с чем-л.; попусту тратить время’ < водить волов); из области промыслов отмечено рыболовство (нижегор. сакать ‘долго не приступать к какому-л. делу, медлить; отлынивать от работы’, ср. волог., вят., краснояр., курган., новг., новосиб., перм., свердл., яросл. сакать ‘ловить рыбу саком’); среди женских домашних занятий выделено шитье, штопка (арх. курать ‘делать что-л. медленно’ ^ ‘заниматься рукоделием (шить, вязать и т. д.)’), золотошвейное дело (литер. тянуть канитель ‘о медленном, нудном, затяжном деле или разговоре, о досадной потере времени’), а также такая гигиеническая процедура, как поиск вшей в голове (волог., перм., тюмен. вошкать(ся) ‘делать что-л. медленно, вяло, мешкать’); из области богослужения маркирована процедура катавасии (волог. катаваситься ‘делать что-л. медленно и бестолково, канителиться’), а из области магических практик - произнесение заклинаний, колдовство (петерб. колдовать ‘делать что-либо медленно, возиться, копошиться’); разработана сфера «культурного досуга» (музицирование, включая игру на волынке и варгане: пск. варганить ‘делать что-л. медленно’, а также празднования, развлечения и забавы в целом: влад. вальяжничать ‘медленно, неторопливо делать что-л.; мешкать’, ср. новг., олон., яросл. вальяжничать ‘вести праздный образ жизни, бездельничать’) [там же].
Представим лексику скорости, мотивированную обозначениями действий, не связанных с хозяйственной деятельностью, свойственных человеку как «биологическому виду» (прием пищи, речь и пр.). Первыми в этом ряду назовем «физиологические реакции» (мимические движения и т. п.), занимающие определенный - небольшой - промежуток времени, поэтому с их помощью может «измеряться» скорость и длительность: сиб. глазом не мелькнуть ‘очень быстро’ [ФСРГС, 110], литер. мигнуть не успеть, не успеть глазом мигнуть ‘о чем-либо, совершающемся чрезвычайно быстро, мгновенно’ [ССРЛЯ 6, 965], литер. не успел, не успела (глазом) моргнуть ‘об очень быстром действии’ [ССРЛЯ 6, 1254]; разг. на одном (едином) дыхании ‘быстро, стремительно, порывисто’ [БСРП, 220]; том. как дунул ‘о человеке, сделавшем что-л. быстро, ловко’ [БСРНС, 181].
Описание быстрой и медленной деятельности осуществляется с использованием лексики визуального восприятия действительности -дериватов глагола видеть : урал. невидают ‘незаметно, быстро’ [СРНГ 4, 274], север., олон., тамб., пск., перм., иркут., тобол. енис., сиб. невидаючи ‘незаметно, быстро’ [СРНГ 20, 342, СПГ 1, 584], башкир. невидко ‘незаметно, быстро’ [СРГБаш К-Р: невидко]. Логика возникновения «скоростного» значения может быть интерпретирована двояко: с одной стороны, представляется, что быстрое действие совершается как бы «между делом», ему не уделяется внимания (ср. сиб. мимо видя ‘между делом, походя, легко и быстро (сделать что-либо)’ [ФСРГС]); с другой стороны, номинатор репрезентирует фигуру наблюдателя, для которого момент осуществления быстрого действия остается незамеченным (ср. арх. только леший видел ‘очень быстро, мигом’ [КСГРС]).
На основании признака интенсивности происходит соотнесение характеристик приема пищи и выполнения работы с высокой скоростью: енис. жорко ‘быстро, скоро’ [СРНГ 9, 217] (ср. перм., челяб., том., якут. жорко ‘прожорливо, с жадностью’ [там же]). Однако чаще, особенно при номинации низкой скорости, осмысляется не столько процесс приема пищи как таковой, сколько организация трапезы, а именно соотношение времени работы и отдыха: пск., твер. разъедаться ‘медлить, мешкать’ [СРНГ 34, 76], амур. дувáнить ‘долго пить чай, сидеть за чаепитием’ ^ ‘слишком долго что-либо делать, медлить’ [СРНГ 8, 244]. Гиперболизированно неторопливое принятие пищи отражается и в простореч. в час по чайной ложке ‘очень медленно, понемногу’, перм. по ложке в час ‘мало, медленно’ [ФСПГ: час], а «антонимичная» ситуация - в сиб. до роту ложку не донести ‘очень быстро сделать что- либо’ - «Ты уже пришел, а я до роту ложку не донесла» [ФСРГС, 6з].
Большой группой-донором для номинаций скорости являются обозначения речи4 . Обозначения быстрых действий с помощью лексики данной тематической группы встречаются значительно реже, чем медленных, и связаны со свойствами звуков: высокая скорость движения соотносится с произведением звуков на высоких тонах, что становится основанием развития скоростного значения: у смол. визжать ‘о быстром исполнении какого-нибудь дела’ [СРНГ 4, 278] (ср. также арх. пя́ты свистят ‘о быстром беге’ [КСГРС] и многочисленные звукоподражательные междометия, например, смол. жи ‘о быстром движении, сопровождаемом шумом’ [СРНГ 9, 149]).
Общность скоростной характеристики позволяет соотнести деятельность с низкой скоростью и затрудненную речь, заикание, увеличивающие время произнесения слов: смол. пыгкала ‘заика’ ^ смол. пыгкала ‘нерасторопный медлительный человек’ [СРНГ 33, 189]. Подобный дефект, кроме того, снижает четкость, ясность речи, отсутствие которых в сочетании с другими признаками (тихая, неразборчивая, медленная речь, бормотание) также ассоциируется с медленной работой: прост. мямлить ‘вяло и невнятно говорить, бормотать’ ^ ‘слишком медленно делать что-либо; медлить с чем-либо’ [ССРЛЯ 6, 1447], нижегор., твер., пск. мамлить ‘работать медленно, вяло’ [СРНГ 17, 351], прост. мямля ‘тот, кто мямлит’ ^ ‘вялый, нерасторопный, нерешительный человек’ [ССРЛЯ 6, 1448]; астрах. куля́хтать ‘говорить неразборчиво, косноязычно (обычно о детях)’ ^ астрах. куляхтать ‘неумело, медленно что-либо делать’ [СРНГ 16, 78] и др.
***
Итак, в статье были рассмотрены пути возникновения «скоростных» значений у слов, характеризующих человека. Выделенные семантические сферы, определенные нами как «Человек физический», «Человек, наделенный именем» и «Человек действующий», в целом симметричны для «быстрого» и «медленного»: например, физиологическая оппозиция «здоровый - болезненный» участвует в скоростных номинациях обоими своими элементами. При этом могут быть отмечены тенденции развития переносных значений: выделяются модели, представленные преимущественно в описании высокой или низкой скорости. Для описания быстрых действий типичны номинации посредством соматизмов, которые при этом являются самой крупной тематической группой из перечисленных, поскольку большинство номинаций скорости с помощью входящей в их число лексики основывается на обозначениях интенсивного использования активных частей тела. Для негативной оценки высокой скорости задействуется лексика, называющая психические расстройства. Практически исключительно «медленными» становятся «речевые» и «пищевые» модели, демонстрирующие сравнение работы с невысокой скоростью с нерациональной тратой времени.
Примечания
-
1 Кроме того, ноги в приведенных выражениях с числительным один могут служить как бы мерой «количества» произведенных действий, ср. литер. одним махом, с одного маху ‘в один прием, сразу, очень быстро’ [ССРЛЯ 6, 718].
-
2 С другой стороны, значение ‘медлить, копаться, возиться’ возникает, вероятно, под влиянием вторичного сближения с * gъmyzъ (возможность такого сближения отмечена в [ЭССЯ 6, 164]) – корнем, продолжения которого в разных славянских языках образуют названия насекомых («гадов») «в совокупности» (заурал., горьк. гмы ́ за ‘множество’, слвц. hmyz ‘насекомые, гады, паразиты’ и др.), а также свойственных им действий (сербохорв. гàмизати ‘ползать, кишеть’, словен. gmízati ‘копошиться, кишеть’ и др.) [ЭССЯ 6, 164; 7, 194]. Использование образов насекомых – продуктивный способ описания низкой скорости в современном русском языке (ср., например, перм. как сытая вошь ‘медленно, неповоротливо’ [ФСПГ: вошь], литер. ползти (тащиться) как букашка ‘о крайне медленно движущемся человеке, животном или транспорте’ [БСРНС, 71] и разг. ползти ‘медленно передвигаться, перемещаться’ [ССРЛЯ 10, 980]). Кроме того, восприятие прототипической ситуации «небыстрого разнонаправленного перемещения большого количества объектов» как эталона медлительности соотносится с представлениями о низкой скорости, реализованными через глагольную лексику (ср. волог. катавáситься ‘делать что-либо медленно и бестолково, канителиться’ [СРНГ 13, 119] ← катавáсия ‘церковное пение, исполняемое обоими клиросами, сходящимися для этого на середину церкви’; ср.-ур. егошúться ‘мешкать, медленно делать, возиться, замешкаться, медлить’ ← ‘неспокойно сидеть, ерзать’ [ДЭИС] и др.).
-
3 И. В. Родионова также выявляет факторы апеллятивизации имен собственных. Среди них выделяются те, которые объясняют выбор конкретного имени в качестве источника номинации свойствами самого имени как языкового знака (экспрессивностью внешней формы номинативной единицы, фоносемантической интерпретацией формы имени, аттракцией и народно-этимологическими прояснениями внутренней формы имени, подробнее см.: [Родионова 2005: 181–183]). Особняком стоят номинации, возникшие «вследствие того, что в коллективе носителей языка есть или был представитель, воспринимаемый как «эталонный» носитель определенного качества, – тот, который в наибольшей степени выделялся из микросоциума как нарушитель той или иной нормы» [там же: 183]. Выявить номинации, мотивированные реальным прототипом, достаточно трудно. На это может указывать, например, иллюстративный контекст: костр. евлóга ‘о нерасторопном, медлительном человеке’ – «Старичок ходил, котомок много носил, Евлога, нищий, потом он в Малорáменье перебрался, меня потом мать и называла евлога, если я тыркалась еле-еле» [ЛК ТЭ]. Самыми достоверными примерами такого типа И. В. Родионова считает языковые единицы, созданные по модели «антропоним + атрибутив оттопонимического происхождения», и предполагает «прототипическое» происхождение, например, у яросл. стёпа сущóвский ‘о неумелом, нерасторопном человеке’ [ЯОС 9, 73] (д. Сущово). При этом Е. Л. Березович отмечает, что прецедент может быть «иллюзорным»: «к апеллятиву с самостоятельным значением <…> добавляется топонимическое определение, которое придает сочетанию иллюзию “достоверности” (рисуемый образ как бы обретает черты реального персонажа)» [Березович 2012: 42], поскольку адресность служит дополнительным источником экспрессии. Именно такой путь может быть восстановлен и для стёпы сущóвского (ср. арх. стёпа ‘неумелый, неловкий человек’ [КСГРС]) [см.: Березович 2012].
-
4 В «скоростных» номинациях отражаются два аспекта речи как деятельности: физиологический, связанный с акустическими качествами произносимых звуков, и социальный, характеризующий особенности вербального взаимодействия людей. Среди лексики, описывающей социальный аспект, источником номинаций низкой скорости деятельности являются обозначения несодержательной речи
(пустых разговоров, болтовни), акцентирующие нерезультативность медленных действий, а также присутствующую в обоих случаях нерациональную трату времени: пск., твер. раздобáривать ‘болтать, вести пустые разговоры’ → ‘делать что-либо слишком медленно, возиться’ [СРНГ 33, 319]; курск. растабáровать ‘разговаривать, болтать попусту’ → растабáровать ‘мешкать, медлить’, растабáрывать ‘мешкать, медлить’ [СРНГ 34, 244]; олон. вя ́ чандать ‘повторять одни и те же слова несколько раз, болтать, пустословить’ → ‘делать что-либо медленно’ [СРНГ 6, 81]. Кроме того, происходит соотнесение работы с низкой скоростью или задержки с излишне долгими разговорами на основании общего признака длительности, что отражается в следующих переносах: пск. забантáжиться ‘заговориться, заболтаться’ → ‘замешкаться’ [СРНГ 9, 245]; калин. расцацýривать ‘говорить излишне много и долго’ → ‘очень медленно что-либо делать’ [СРНГ 34, 307].
Postgraduate Student
Ural State University
Список литературы Лексика, характеризующая человека, как основа для обозначения скорости деятельности (на материале русской языковой традиции)
- Березович Е.Л. Язык и традиционная культура. М.: Индрик, 2007.
- Березович Е.Л. Местные топонимы в свете деривационной и фразеологической семантики//Язык и прошлое народа: сб. науч. ст. памяти проф. А. К. Матвеева. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2012. С. 25-52.
- Березович Е.Л., Борисова Е.О. Канителиться, конопатиться и размузыкивать: семантические модели медлительности в русском языке//Пространство и время в языке и культуре. М., 2011.
- Варбот Ж.Ж. Славянские представления о скорости в свете этимологии (к реконструкции славянской картины мира)//Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Краков, 1998 г.: докл. росс. делегации. М.: Наука, 1998. С. 115-129.
- Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Русская фразеология. Историкоэтимологический словарь. М.: Астрель; АСТ; Люкс, 2005. 926 с.
- Родионова И.В. Характерологические номинации антропонимического происхождения в русских народных говорах//Русский язык в научном освещении. 2005. № 10. С. 159-189.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т./пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. М.: Прогресс, 1986-1987. Т. I-IV.
- Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. М.: Рус. язык, 2002.
- Шабалина Е.В. Семантико-мотивационное своеобразие русской лексики с числовым компонентом: этнолингвистический аспект: дисс. канд. филол. наук. Екатеринбург, 2011. 175 с.