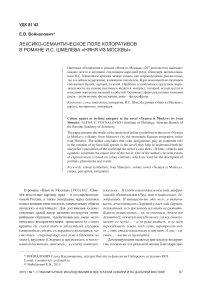Лексико-семантическое поле колоративов в романе И. С. Шмелева «Няня из Москвы»
Автор: Войналович Елена Владимировна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Язык и пространство прекрасного
Статья в выпуске: 1 (31), 2015 года.
Бесплатный доступ
Цветовые обозначения в романе «Няня из Москвы» (267 контекстов) занимают важное место в создании стилизации народной речи, благодаря использованным И.С. Шмелевым краскам можно понять как мироощущение рассказчицы, так и идейное содержание, вложенное писателем. Ядро номинаций-колоративов составляют белый, черный, золотой. Наиболее излюбленным средством выразительности на основе цветописи является контраст, который используется в описании портретов, явлений и событий. Основные сферы реализации значения цвета - религиозная, фольклорная, реже - философская.
Цветопись, и.с. шмелев, колоратив, роман "няня из москвы", корпус, восприятие, эмиграция
Короткий адрес: https://sciup.org/170175571
IDR: 170175571 | УДК: 81'42
Текст научной статьи Лексико-семантическое поле колоративов в романе И. С. Шмелева «Няня из Москвы»
В романе «Няня из Москвы» (1933) И.С. Шмелёв воссоздает картину пред – и послереволюционной России, а также эмиграции, через сказовое повествование няни писатель запечатлевает образы прошлого и настоящего. Для достижения художественных целей автор активно пользуется эмпи-рийными образами, задействовав все виды человеческого восприятия мира: зрительное (и словно прiятно ей, глазки такъ и заблестѣли); слуховое (автомобили гудутъ; съ парадного позвонится, часто такъ – дыр-дыр-дыр, она сама и бѣжитъ, по знаку); вкусовое (Старикъ и щи уважалъ, и поклеванный доставалъ, анисовый… и селедку копченую, и ки-льки… И хлѣбъ они подавали вкусный, шафрановый); обонятельное (Руку мнѣ и поцѣловалъ, бе-зобразникъ. И винищемъ-то отъ него, и табачи-щемъ, и чесночищемъ; Хорошiй у васъ чай, барыня, деликатный, а съ прежнимъ все-таки не сравнять. Бывало, пьешь-пьешь… ну, не упьешься, дочего же духовитъ!); осязательное (Въ щелку гляжу, бывало, мазалъ ее когда… – и за руки хваталъ, и за ноги перекидывалъ, и всю, какъ есть, перетрогалъ онъ ее… отъ стыда помаленьку и отучилъ. А она – хи-хи-хи... – чисто ее щекочутъ).
Доминирующим является зрительное восприятие, поскольку и в реальной жизни благодаря зре-
* ВОЙНАЛОВИЧ Елена Владимировна, экстерн Института филологии Сибирского отделения РАН.
ЯЗЫК И ПРОСТРАНСТВО ПРЕКРАСНОГО нию люди получают значительную долю информации о внешнем мире, определяют физические свойства объекта, такие как цвет, размер, фактура, которые, в свою очередь, могут воздействовать на душевное, психофизическое состояние человека. Отобранные писателем колоративы (267 контекстов) помогают передать образы более явно, а цветовая гамма создает общую атмосферу описываемого периода и воздействует на читателей.
Под колоративной лексикой в статье понимаются слова, в структуре лексического значения которых есть сема цвета. Цветообозначения – один из основных компонентов языковой картины мира, включающий эмоционально-оценочную, эстетическую и смысловую нагрузку. Сложность описания колоративной лексики заключается в том, что, с одной стороны, она является объективной формой бытия, с другой, на уровне восприятия, чувственного познания – она очень субъективна. Кроме того, в исследуемом романе это обстоятельство усугубляется выбранной писателем формой сказа, в котором переплетаются мироощущение автора, рассказчицы и читателя.
Сказовое повествование диктует и способ репрезентации материала: примеры в статье даны в дореформенной орфографии для того, чтобы можно было сохранить и проанализировать не только семантические, но и графические черты стилизации сказа в произведении. В качестве источника для создания конкордансов было взято первое издание романа. Заметим, что стилистическая характеристика произведения «Няня из Москвы» только фрагментарно дается в статьях литературоведческой направленности, существует одна монография, посвященная литературоведческо-философской проблематике романа [7]. Изучение проблемы функционирования разговорной речи, в т.ч. актуализации цветообозначений в сказовой прозе И.С. Шмелёва, определяет новизну данной статьи.
В ходе изучения колоративов наиболее целесообразным нами признан способ репрезентации материала по лексико-семантическим полям; цветовыми доминантами являются наиболее абстрактные тона: белый, черный, серый, красный, желтый, зеленый, синий, коричневый. В состав спектров включены хроматические и ахроматические гаммы, поскольку в языковом сознании они равноправны: и те, и другие связаны с реализацией цветового и светового решения описываемых рассказчицей лиц и событий.
В цветообозначении произведения участвуют качественные прилагательные, которые передают атрибутивный признак ( пунцовый , голубенькiй );
глаголы со значением процессуальности ( жел-тѣть, посинѣть, почернѣть ); существительные, обозначающие наименование цвета ( слоновой кости , каштанчикъ, узумрудъ ); называющие эталон предмета для определенного цвета или использующиеся в сравнениях для уточнения цвета ( углемъ , розан , свекла ); адвербиальные единицы ( зелено , темно ). Далее рассмотрены лексико-семантические поля спектров в порядке их количественного убывания.
Ядро авторской цветовой палитры составляют белый, черный, золотой и красный. Доминирующим как по количеству лексических экспликаторов цветового поля, так и по объему контекстов является белый цвет (31%), который в романе имеет оттенки от бѣленького до свѣт-лого съ просѣдью, сливошного, цвета слоновой кости . Поскольку роман носит антропоцентрический характер, большинство колоративов связано с человеком и человеческой жизнью. Среди артефактов встречаются бѣлые одежды и аксессуары ( бантъ , халатикъ , брюки , шляпка , клюшка , каска , балахонъ , платочѣкъ , штаны изъ бѣлой кожи ): Онъ за ней на колѣнкахъ, всѣ брюки изъерзалъ, бѣлыя ; предметы убранства ( бѣлая вся, ангельская постелька ); транспорт ( Ужъ и не помню, какъ мы на бѣлый корабль взошли ); постройки ( мѣсто самое тихое, бѣлая вся больница ; на башенкѣ на бѣлой ихнiй та-таринъ молитвы свои кричитъ ); документы, деньги ( Тотъ и далъ намъ бѣлую бумажку , сто рублей, по-нашему сказать ).
Белые одеяния приобретают в романе двойное понимание: в одних случаях это цвет роскоши, красоты, царственности ( Прiѣзжаетъ какъ-то она на автомобилѣ, и баринъ съ ней, весь въ бѣломъ , а самъ черный, сразу видать – буржуй изъ хорошаго дома ; Усадили насъ въ царскiй ва-гонъ, бархатное все, и всѣмъ бѣлыя постели, раскидныя, удобно очень ); в других – предвестник смерти: Вскочила, побѣгла, а она, въ халатикѣ въ бѣломъ , чисто смерть ; Катичка мнѣ навстрѣчу, съ балу, въ бѣломъ во всѣмъ… Я ей, съ перепугу-то, – «мамочка помираетъ!..» Во сне рассказчица видит барыню в подвенечном платье, что, по народным поверьям, к смерти: Поисповѣдались бы, прiобщились, говорю <…> въ подвѣнечномъ , говорю, нарядѣ, васъ видала, и все, будто, на васъ просвѣтилось , всю видать. Лучше бы вамъ приготовиться… «В качестве первоцвета белое в традиционном сознании несет значение начала, отсылая в ритуалах к формулам инициации (белое подвенечное платье=белый саван как тождество свадьба=похороны)» [1, с. 425].
Кроме того, в русской культуре древняя символическая функция белого цвета – выражение святости, традиционно его связывают с религией, он является эталоном положительной оценки. Как указывается в словаре символов, «белый – позитивная сторона антитезы «черное – белое» во всех символических системах» [6, с. 23]. По В.Н. Топорову, в старославянском языке концепты белого и святости связаны, что подтверждается и близостью корней свят-свет [5, с. 544]. В романе монахи ихнiе, въ бѣлыхъ балахонахъ; бѣлый корабликъ на головѣ у монашки; у другой монашки голова платочкомъ бѣлымъ повязана ; бѣлая клюшка у странника; бѣлая , ангельская постелька у Катички.
Помимо артефактов, с помощью разных лексических экспликаторов белого цветового поля описывается внешний вид человека: волосы, руки, зубы ( А Яковъ Матвѣичъ, садовникъ-то, гвардей-скiй раньше солдатъ былъ, рослый, красивый, съ просѣдью ужъ ; большая борода, съ просѣдью , – князь и князь ; глядите, барыня, какiе у меня зубы-то , бѣ-лые , хорошiе ). Аномальная бледность кожи барыни, а потом и ее дочери Катички указывает на изменение состояния, на сильные эмоции, переживания героинь. Используются лексемы бѣлый , побѣлѣть , блѣдный , поблѣднѣть : такъ вся и побѣлѣетъ , истинный Богъ ; А бѣ-элая сидитъ, губки поджала… а онъ на нее, какъ на икону, молится ; Гляжу – поблѣднѣла Катичка ; На кресла упала – побѣлѣла ; Сказала Катичкѣ. Сѣла на постелькѣ, блѣ-дная , мутно такъ по-глядѣла. Кроме того, для стилизации народной речи сказительницы, а также для акцентирования силы чувств, страданий воспитанницы Дарьи Степановны писатель использует фольклорные повторы: блѣ-эдная-разблѣдная лежитъ ; разговорные фразеологизмы ( А Катичка… развертѣлась, глазки горятъ, личико – ни кровинки ) . Заметим, что более точные, изысканные названия оттенков рассказчица называет только в тех случаях, когда передает чужую речь: кричитъ – «нянь, сливош-ное мое давай!» . Для простого сознания няни чрезмерное любование собой, своей внешностью греховно, необходимо избегать любого излишества, в т.ч. и словесного. См., например:
…Вся ужъ испредставлялась, на себя непохожа стала, бормота одна. Она и рада! вотъ выламываться начнетъ, наскрозь всѣ зерькала проглядѣла. А то руку вытянетъ, –
– «Смотри, какъ изъ слоновой кости рука у меня!»
– «Ну, и что хорошаго, – скажу, – у человѣка кость божья, а у тебя слоновая стала».
Гораздо меньше в романе описаний природных явлений, в т.ч. и окрашенных: А ночь свѣ-этлая , мѣсяцъ вышелъ . Однако большинство приводимых в романе фитонимов именно белые: …себѣ бѣлый цвѣточекъ прикололъ ; кинула въ Катичку цвѣткомъ, – вотъ такой огромадный, бѣлый , съ хорошiй вилокъ будетъ, пахучiй очень ; Открыла она дверь – дерева я увидала… жасминъ, пожалуй, – бѣлые все цвѣточки .
Прилагательное бѣлый встречается в названиях, идиомах: бѣлые хлѣба ; бѣлый билетъ ; бѣлый грибокъ . Рассматриваемый ахроматизм также используется в качестве постоянного эпитета во фразеологизмах бѣлъ-свѣтъ (5 контекстов), бѣлъ день (1): Ну, чисто вотъ мы въ жмурки играемъ по бѣлу-свѣту ; перышки-то наши какъ разлетѣ-лись, по всему бѣлу-свѣту ; бѣлъ-свѣтъ закрылся ; среди бѣла дня грабятъ . Писатель создает фольклорно-эпическое пространство, в котором события со сказочными персонажами происходят по фольклорным принципам.
Главные герои на протяжении всех своих скитаний находятся в поисках правды, света, добра: и въ-самъ-дѣлѣ, говорю, чего намъ тутъ проживаться… и виза есть, и деньги на дорогу присланы, тамъ, можетъ, посвѣтлѣй намъ будетъ . По ощущениям автора, жизнь русских людей даже весной на родной земле в послереволюционное время очень потемнела и осветится еще не скоро: Въ Крыму-то, изъ окошечка море видно, кораблики, а въ саду и персики, и вабрикосы, и винограды, а жизнь наша черная-расчерная . Герои горько иронизируют: А въ вагонѣ у насъ – какъ днемъ. А это пожаръ горѣлъ… мужики всѣ имѣнья жгутъ, а это спиртовой заводъ запалили. – « Свѣтлая , го-воритъ, жизнь пошла, все лиминацiи зажигаютъ» .
Ахроматизм черный – второй по количеству употреблений в тексте (22%) – реализуется в единицах: темный, черный, темненькiй, темнота, чернѣть, темно, черный-расчерный , те-о-мный-растемный .
В некоторых случаях темные краски используются автором для придания роману остросю-жетности или при описании чувства страха рассказчицы: И бѣсъ тотъ былъ, морда обсосана... Гляжу – все-то онъ за ней да за ней. А колидоръ у насъ темный . Слышу – Катичка бѣжитъ. А я… за шубы я схоронилась ; Ночь черная-черная , къ сентябрю ужъ. Вѣтеръ съ горы пошелъ, вой такой, дерева шумятъ, жуть, прямо ; И все-то лѣстницы, темныя , старинныя… холодокъ, а съ меня потъ льетъ.
Однако большая часть контекстов, использующихся даже в прямом, буквальном значении, несет в себе художественный образ, имеет неоднозначный символический подтекст. Все сферы жизни эмигрантов окрашиваются в черный цвет: уезжают герои темной ночью (Ужъ темно стало, съ парохода свѣтъ на насъ иликтрическiй пустили) на корабле в тесных каютах (Въ дырѣ-то у насъ темно); всё чаще персонажам приходится надевать траур (И въ черномъ вся, и худая-худая… ужъ не померъ ли у ней кто? Она черное платьице надѣла, – сиротка и сиротка); сами герои тоже чернеют от болезней, в т.ч. от черного рака (и по-худѣлъ, и почернѣлъ; А лицомъ черный сталъ, и тѣло чернѣть все стало), от отсутствия возможности или необходимости помыться (грязный-раз-грязный), от изнурительных работ на солнце (Васенька, не узнать. Почернѣлъ, раздался, и сурьезный стоитъ, убитый). К тому же главные герои оказываются в южных странах, где гораздо больше чернокожих людей, которых няня называет черномазыми, чумазыми. В том же значении используются колоративы коричневый, шоколадный (0,5%): И Катичка моя, чуть что не во всю газету, мазаная-то мазаная, коричневая.
Как видим, черный цвет в романе в большинстве случаев символизирует смерть, траур, тяжелые будни, страдания, жизнь на неродной земле по неправославным принципам: Господи… то все въ Россiи нашей жили, на солнышкѣ… а вотъ, въ черную яму опустили… довертѣ-ли!... Таким образом строится вертикальная пространственная ось романа «гора / яма», философскую значимость которой раскрыла С.В. Шешунова [7]. Для обозначения «низа» используются лексемы яма, ямка, трюмъ, сарай, оврагъ, овражекъ. Все перечисленные локусы объединяет наличие в них черт ада в разном его проявлении, связь со смертью. Символическое значение ямы полностью совпадает с пониманием этого образа в фольклорно-религиозных легендах; в статье «Яма» в материалах к словарю языка Русской народной легенды читаем: «В легендах обозначает как локус нечистой силы (изофункционал ад; синонимическое наименование пекло), так и углубление в земле, вырытое на высокой горе скитником или в лесу колдуном» [3, с. 315]. В романе символизм и метафоричность лексемы спрятаны за бытовым, социальным контекстом, поэтому рассмотрим локусы с семантикой черной ямы. «В прямом смысле слова яма возникает в нянином сне: Дарья Степановна идет по полю, вокруг – ямки с черной водой, в ямках – страшные раки. Мифопоэтическая основа сна очевидна: поле – жизненный путь (“Жизнь прожить – не поле перейти”), ямки – опасности на этом пути» [7, с. 5]. Трюм корабля, в который по- садили огромное количество народу, где гибли и страдали в течение многих дней люди, няня тоже упорно называет ямой: Въ яму насъ опустили, каюты ужъ всѣ позаняли. Вотъ-вотъ, въ трю-мъ. Темнота, духота, чуть лампочка свѣтитъ, а въ темнотѣ крикъ, плачъ, кого ужъ тошнить стало, кто довѣтру просится, а выйти никакъ нельзя. Символ яма многозначен: во-первых, он обозначает бедность, окраину жизни, заброшенность (это, говоритъ, притонъ развратный… Куда ни подайся – яма); во-вторых, пустую, бесполезно прожитую жизнь («Нѣтъ, не боль, а… все прошло, жизнь прошла, яма одна осталась. И не было ничего, пылью все пролетѣло» – именно эти слова произносит, умирая, доктор Вышгород-ский); наиболее глобальным является третье толкование символа – яма, в которую попадают отдельные люди и вся Россия, потому что меняют освященную жизнь на жизнь без Бога. Яма в этом значении также синонимична темноте: И вдругъ, церкву нашу и освѣтили, крестики заблистали, ну, чисто днемъ. Я и заплакала, заплакала-зары-дала… – прощай, моя матушка-Россiя! прощайте, святые наши угоднички!.. И нѣтъ ее, въ тем-нотѣ сокрылась, – на горы свѣтъ ушелъ.
Приведенный выше отрывок построен на цветовом контрасте – одном из излюбленных средств выразительности писателя. Как правило, реализуется противопоставление черного и белого. Так, с использованием именно этих красок рисуется портрет воспитанницы Дарьи Степановны, который отражает и сложность характера Катички: А глазки у ней и мамашины, и папашины, черные , огромадные, живые такiе… Баринъ все ее такъ – «ахъ, черные миндали, за-жигаютъ издали!» – пѣлъ все. Бариновъ у ней взглядъ былъ, смѣлый. У царицъ вотъ такiе глаза бываютъ, гордые. А волосы темные , густые, папенькины, – « каштанчики мои», – все, бывало, такъ звалъ. А личикомъ бѣ-ленькая-раз-бѣленькая , сквозная вся. Ужъ баринъ ее на-хваливалъ, души не чаялъ, – « фарфорочка моя, варкизочка ты моя!» – все такъ. Умеет подчеркнуть свою красоту сама героиня, например, для создания впечатления на своего возлюбленного: въ травуръ свой Катичка одѣлась, очень къ лицу ей онъ: личико у ней и въ Крыму не загорѣло , блѣдненькая такая, слабенькая совсѣмъ, – сиротка и сиротка… велѣла мнѣ бѣлыхъ роза-новъ нарѣзать . Цветовой контраст используется в описании помещений: бѣлая постелька, ангельская, а надъ ней большой черный крестъ ; Дверь высокая, черная , старинная… крестъ на ней бѣлый -костяной .
Помимо черного, в противопоставлении с белым выступает красный цвет (14%) и его оттенки ( красненькiй , мѣдный , пунцовый , розовый , румяный , самоновый , цвет свеклы, крови). Н.В. Злыд-нева отмечает, что в контексте событий начала XX в. диада белый / красный выходит на первый план, «ожидание нового и страшного в России первой трети XX в. окрашено в белый цвет» [1, с. 427–431]. Цветовая гамма красного спектра в подавляющем большинстве контекстов также получает отрицательную коннотацию. Красные – солдаты Красной армии – это всегда чужие, злые, от которых надо бежать: «За офицерями ходили, записаны у красныхъ , плохо вамъ! Сейчасъ уѣз-жайте, я слово далъ!» ; а онъ кричать: «…По-слѣднiе мы проходимъ, завтра красные войдутъ, я своихъ бросилъ! сейчасъ же собирайтесь!..» Революционный красный цвет для писателя выражает принятие новой жестокой власти, которая заставляет людей чернеть от горя, белеть от страха и краснеть от крови: и кровь на юбкѣ ; Кро-ви сколько!..» – и за голову схватился . Темное-пунцовое солнышко , солнце мертвых, зловеще окрашивает обои комнаты, где умирает отец Катички.
Вызывающий красный несет в себе значение неестественности, пошлости: а после коляска ѣха-ла, а на ней такая-то оторва-дѣвка въ красномъ колпакѣ… актерка одна, гулящая ; грудь красная … Коверкается , чисто обезьяна ; Да охальница, слова не скажи, отъ писаря набралась, на головѣ бантъ красный , – ну, не узнать Аксюшу. Даже румянец, который всегда украшал русских девушек ( А она скромная такая, краснѣетъ все ; А она застѣ-нчивая такая, сидитъ – разгорѣлась , розанчикъ живой стала ), становится искусственным на лице одной заграничной особы: Гляжу – сидитъ на креслахъ барыня, зубастая, въ шелку вся, сѣдая-завитая, и съ костылемъ… румяная , важная, и такъ вотъ… въ золотое стеклышко на насъ, стро-го!
В семантический диалог с другими цветами входит и золотой цвет (18%). Конечно, в лексеме «золотой» одновременно может быть указание и на цвет описываемого объекта, и на материал, из которого он изготовлен. Не во всех случаях речь идет о золоте как драгоценном металле, однако восприятие предметов, окрашенных золотой краской, схожи между собой. Золотой цвет, несомненно, демонстрирует богатство, красоту, а в некоторых случаях отсылает к роскоши отделки храмов: А тутъ мурластый одинъ, въ золотыхъ тесемкахъ, кулакомъ меня отпихнулъ; И графъ Ко-маровъ тоже, какой неприступный былъ, расшитый весь, золотой, чисто икона въ ризѣ; щеголи, въ золотыхъ тесемкахъ, кровь съ молокомъ; важный такой старикъ, съ золотой набалдашиной, англичанинъ, вродѣ какъ графъ. Интересно привести сравнение золотых и железных зубов: зубы покажетъ только, какiе-то они у него… желѣз-ные словно, а не золотые, смотрѣть даже не-прiятно; Морда бурая, кирпичомъ, а зубы не золотые, а желѣзные будто, темные. Однако красота в сознании няни не может заменить человеческие качества (Свинью и золотомъ окуй – все свинья), культ денег греховен, а Америку, в которой людей «по капиталу почитаютъ», рассказчица называет адским местом: въ самый мы въ адъ попали, въ золотое царство. Повидала я… Господи, золотомъ у всѣхъ тамъ глаза завѣшаны, только его и ви-дятъ. Катичка неоднократно проходит испытание деньгами, богатством, но каждый раз сама или с помощью няни вырывается из «золотой клѣтки» (так называется и ресторан, где служит Катя), в которую пытаются посадить красавицу ее ухажеры. По идее автора, именно в трудное время политических перемен легче увидеть и оценить настоящее, истинное; ведь счастье не в сотнях золотых, не въ золотыхъ туфелькахъ, а в православии и родной земле: А онъ… показываетъ кожаный кошель. Подумала – золото-серебро, пожалуй. А это землица, съ собой везетъ! – «Помру на чужой сторонѣ, меня посыпютъ родной землицей, въ своей, будто, и схоронюсь».
В переносном значении хроматизм золотой используется в идиомах и сравнениях: золотое слово , золотые руки , золотыя веревки вить, золотой алмазъ ( Да глупая ты… да одну вѣдь, тебя цѣню, какъ золотой алмазъ! ), тетечка золотая .
Желтая краска, в отличие от золотой, используется только в написании портретов болеющих людей: лицо желтое-желтое , глаза косые ; съ ка-плевъ у ней личико желтѣть стало ; же-о-лтая-желтая лицомъ .
Коннотации, связанные с серым и серебряным цветами (4%), по смысловой нагруженности схожи с различиями желтой и золотой гаммы соответственно.
Серебряный – красивый, дорогой, сверкающий: Крестикъ… купила я ей, хорошiй такой, серебряный ; цѣльный мнѣ кусокъ шелковой ма-терiи привезъ, серебристая -муваровая ; платье серебряное , камушки горятъ, – ну, какъ мушка какая золотая , – такъ и обомлѣлъ ; И шимпанское вино въ серебряныхъ ведрахъ приносили .
Серый цвет лица, как и желтый, болезненный, умирающий, страшный: ручка изсохлая, восковая, глядѣть страшно, и губы сѣрыя , поблеклыя. Ужъ онъ въ подушкахъ сидитъ, лимонъ желтый ; же-
ЯЗЫК И ПРОСТРАНСТВО ПРЕКРАСНОГО о-лтая-желтая лицомъ ; Лицо у него обсосаное было, сѣрое , чисто бѣсъ . Противостоять нездоровой желтизне и серости пытается зеленый цвет (3%), цвет надежды, тон витальной силы: Надѣла платье зеленое , новое, а оно живое на ней, ер-заетъ, какъ на мертвой . Однако сам по себе зеленый цвет не совершает чудеса: Въ зеркало по-глядѣлась – ахнула, давай съ себя рвать. Упала на коверъ, и кровь изъ нее, да хлестомъ! Зеленый тоже имеет в своем значении сему ‘страх’ и ‘болезнь’: Ужъ и время не вижу – все, будто, ночь и ночь, зеленое такое, будто ужъ подъ водой мы ; А у меня въ глазахъ зелено , на ногахъ не стою – качаюсь .
Хроматизм серый используется в качестве постоянного эпитета в наименовании сказочного персонажа сѣрый волкъ . Катенька сравнивает няню с серым волком, который является сказочным символом слуги-помощника: «Вотъ, няничка, погоди… выйду я замужъ… я тебя успокою, не покину, въ бо-гадѣльню не отдамъ… сама глазки тебѣ закрою… похороню тебя честь-честью… какъ Иванъ-Царе-вичъ… сѣраго волка хоронилъ…» С.В. Шешунова видит в рассказчице черты вещей бабушки-задво-ренки и сказочного «дурака» [7, с. 76–77]. Няня в романе И.С. Шмелева часто кажется неприметной (и одежда у нее серая: на мнѣ сѣренькое платье было, шерстяное, московское ), несуразной, и даже глупой, но за этой видимостью стоит подлинная мудрость. «Много тепла излучает рассказчица этой захватывающей истории – московская няня, традиционный образ верного старого слуги, чья жизнь целиком посвящена другим людям» [4, с. 249].
Читательское восприятие предметов, явлений, окрашенных автором в синий цвет (7%), также неоднозначно. Чрезмерная синева – признак неестественности, фальши: Люди какiе-то нена-стоящiе, синiе всѣ, головы скошены… не поймешь – метлы не метлы, и снѣгъ синiй , нарошно все ; А внизу мо-ре… ну, синее-разсинее , синька вотъ разведена ; … духи въ ванную лила, дѣлала воду голубую , а то розовую; съ синимъ огнемъ подавали намъ, ромъ горѣлъ. Пудингъ называется ; Гартъ такъ и посинѣлъ . Голубой же в произведении ассоциируется со цветом небес, ангелов, спокойствия, детства ( Надѣла голубенькое , воздушное, – ну, дѣвочка совсѣмъ ). Голубым ангелом неоднократно называют Катичку ее женихи: « Голубой ангелъ! зачѣмъ вы сошли къ намъ съ неба?; «Вы – говоритъ – небесная звѣзда, ос-лѣпили насъ!»; небесная вы красота .
Ахроматизмы пестрый, пестренькiй (0,5%) используются при описании одежды у цыган и оторв, которые подушки со всего дома на ковры нава- лятъ, шалями пестрыми накроютъ, и ломаются. Цветное и разноцветное мужское белье – только желание покрасоваться и показать свое богатство, няне даже неудобно за такую изысканность барина: И помочи, и носки, и платки носовые, – все шелковое, цвѣтное… и подштанники, извините, разноцвѣтные, шелковые.
Таким образом, проанализировав цветопись произведения, можно увидеть, что жизнь рассказчицы наполнена множеством трагедий и болезней. В романе нет буйства красок, авторских хро-матизмов, поскольку сказ ведется обычной няней, лишенной символистских изысков и стремления к искусственной выразительности языка. Наоборот, встречаются явные черты разговорной речи, например, использование сложных монохромных атрибутивных цветообозначений, обе части которых имеют один корень ( зеленыя-зеленыя , же-о-лтая-желтая , желтое-желтое , бѣленькая-раз-бѣленькая , черная-расчерная ). Однако многие контексты с колоративами образны и символичны, обращение к народно-поэтическим краскам работает на создание стилизации. Просматривается соотношение колоратива как с книжно-литературной нормой, так и народно-поэтической, фольклорной традицией.
В отличие от импрессионистической цветописи в «Лете Господнем», где основными являются чистые цвета: красный, желтый, синий, от символической религиозной в «Богомолье» (белый, желтый, синий), в «Няне из Москвы» основные цвета – белый, черный и золотой. При этом И.С. Шмелев часто использует контраст, чтобы еще больше подчеркнуть, насколько сильно изломана судьба русских людей, как тяжело и болезненно переживают герои исторические катаклизмы.
Жизненная гармония, как и гармония цвета, по идее автора, утрачена, она была достижима только в родной дореволюционной России, той России, которую И.С. Шмелев изображает в романе «Лето Господне», где практически весь спектр работает на создание позитивной картины: «Семантика ликующей радости, переполняющей душу в дни Светлого Христова Воскресения, может передаваться как ключевыми цветами: красным и золотым, так и всей пестротой цветовой гаммы» [2, с. 174]. В романе «Няня из Москвы» нет ни одного колоратива, имеющего абсолютно положительную коннотативную окраску. Наиболее позитивные картины писатель рисует белой гаммой, промежуточную стадию занимают золотой, серебряный, зеленый, серый, синий; черный, красный и желтый используются при описании крайне негативных ситуаций, явлений. Россия восстанавливается лишь в ностальгических воспоминаниях весеннего родного края: Придешь, бывало, на Ѳоминой, на Даниловское… Весь день проведемъ, бывало, на могилкахъ, родные у ней тамъ схоронены, марга-риточекъ мы сажали съ ней. Че-ре-мухи, рябинки, бузина-а… и вербочки ужъ, зеленыя-зеленыя… и куриная слѣпота, и одуванчики желтые, и крапивка молоденькая, къ заборчикамъ… на щи зеле-ныя наберемъ дорогой… Весной пахнетъ, и грачи кричатъ, гнѣзда все по березамъ… весело такъ, и помирать-то не страшно. И крестики родные, и лампадочки гдѣ горятъ… тишь такая.
Список литературы Лексико-семантическое поле колоративов в романе И. С. Шмелева «Няня из Москвы»
- Злыднева Н.В. Белый цвет в русской культуре XX века//Признаковое пространство культуры. М.: Индрик, 2002. С. 424-431.
- Коннова М.Н. Цветовые особенности концепта «праздник» в романе И.С. Шмелёва «Лето Господне» (на примере праздника Пасхи)//И.С. Шмелёв и писатели литературного зарубежья. XVIII Крымские международные Шмелёвские чтения. Алушта, 2011. С. 169-175.
- Русские простонародные легенды и рассказы: сб. 1861 г. /изд. подг. В.С. Кузнецова, О.Н. Лагута, А.М. Лаврентьев. Новосибирск: Наука, 2005.
- Сорокина О. Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелёва. М.: Московский рабочий; Скифы, 1994.
- Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. М.: Прогресс-Культура, 1995.
- Тресиддер Д. Словарь символов. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999.
- Шешунова С.В. Образ мира в романе И.С. Шмелёва «Няня из Москвы». Дубна: Междунар. ун-т природы, общества и человека «Дубна», 2002.
- Шмелёв И.С. Няня из Москвы. Париж: Возрождеше, 1936.