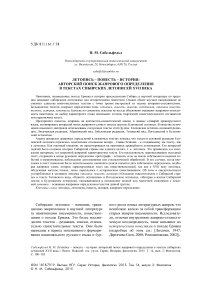Летопись - повесть - история: авторский поиск жанрового определения в текстах сибирских летописей XVII века
Автор: Сабельфельд Наталья Михайловна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: К 100-летию со дня рождения профессора Кирилла Алексеевича Тимофеева
Статья в выпуске: 2 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Памятники, посвященные походу Ермака и истории присоединения Сибири, в научной литературе по традиции называют сибирскими летописями или историческими повестями. Однако общее научное наименование не означает единства многочисленных текстов с точки зрения внутренней их оценки авторами-составителями. Большинство текстов содержат определения типа: летопись, повесть, повесть летописная, описание извести тельное, история, летописец. Близкие по семантике лексемы не всегда объективно отражают жанровую отнесенность памятника, но выбор характерного слова показывает степень творческой самостоятельности составителя или переписчика текста. Предпринята попытка, опираясь на контекстно-семантический анализ и данные словарей древнерусского языка, мотивировать авторский поиск жанрового слова в текстах группы Есиповской летописи. В качестве источников языкового материала использованы следующие тексты этой группы: Есиповская летопись основной редакции, Лихачевская редакция, Абрамовский вид, Забелинская редакция, Титовский вид, Погодинский и Бузуновский летописцы. Анализ авторских жанровых определений в названных текстах показал, что только в основной редакции Есиповской летописи отразилось однозначное отношение автора - Саввы Есипова - к создаваемому им тексту, как к летописи. Как опытный книжник, он ориентировался на памятники древнейшего летописания. Его авторской задачей было создание истории Сибирской страны как единого целого, т. е. летописи. Это проявилось и в изложении материала, и в уверенной жанровой характеристике текста. Его последователи, переписывавшие исходный текст, сохраняли в конце рукописи определение протографа - летопись, если не имели собственного видения событий и ограничивались небольшими дополнениями или стилистической обработкой. В тех случаях, когда вносимые в текст изменения были значительными, книжники делали попытки дать собственное определение, подбирая жанровое слово, которое характеризовало текст как повествовательный, так как к XVII веку летопись, обслуживая частное чтение, тесно переплелась с историческим повествованием. Об этом и свидетельствуют употребленные в заглавиях лексемы описание, повесть, история («Описание известительное о Сибирской стране» в тексте Титовского вида, «Повесть летописная» в Погодинском летописце, «История о взятии Сибирской земли» в Бузуновском летописце), оказывающиеся в отношениях полной или частичной синонимии с лексемой летопись - основным жанровым определением текстов данной группы.
Летопись, летописец, повесть, история, жанровое определение
Короткий адрес: https://sciup.org/147219267
IDR: 147219267 | УДК: 811.161.1’38
Текст научной статьи Летопись - повесть - история: авторский поиск жанрового определения в текстах сибирских летописей XVII века
Сибирские летописи – название, традиционно закрепленное в научной литературе за памятниками письменности, повествующими о походе Ермака. Это более восьмидесяти текстов – редакции, списки, относительно самостоятельные тексты. Они были написаны в период интенсивного формирования национального русского языка и бур- ного роста новых литературных жанров, что неизбежно влекло за собой трансформацию старых жанров письменности. Исследователи, отмечая внутреннюю жанрово-стилистическую неоднородность, чаще называют их историческими повестями о походе Ермака (подробнее об этом см.: [Лихачев, 1947; Дергачева-Скоп, 2000; Ромодановская, 2002]).
Сабельфельд Н. М . Летопись – повесть – история: авторский поиск жанрового определения в текстах сибирских летописей XVII века // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 2: Филология. С. 100–105.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 2: Филология
Надо сказать, что и у составителей не было однозначной оценки текстов. Об этом свидетельствует многообразие лексем, с помощью которых книжники определяли жанр своего произведения, пытаясь найти ему место в ряду книжных текстов, например: летопись , повесть , повесть летописная , описание , описание известительное , история , летописец и т. п. Конечно, эти определения не всегда могут служить научным критерием жанровой отнесенности текста. Однако они свидетельствуют о степени литературной самостоятельности от протографа или желании авторов внести «свое» слово в обрабатываемый текст, обнаруживают их опыт в книжном деле. Анализ языковых показателей, отражающих авторский поиск «жанрового» слова, мотивировка этого выбора представляют определенный исследовательский интерес. Опираясь на контекстно-семантический анализ и данные словарей древнерусского языка, мы попытались объяснить выбор лексем и уточнить их значения, реализованные в авторских жанровых обозначениях. В качестве источников языкового материала для статьи послужили тексты группы Есиповской летописи, опубликованные в (ПСРЛ) и [Летописи сибирские, 1991].
Есиповская летопись (ЕЛ), составленная в 1636 г. при Тобольском архиерейском дворе дьяком Саввой Есиповым, как памятник возникающей русской литературы Сибири воскресила ряд черт русского летописания раннего периода (подробнее см.: [Ромодановская, 2002]). Она писалась как история Сибирской страны, с изложением событий по годам, что обеспечивало открытость текста и создавало возможность его продолжения. Именно эта черта – незамкнутость во времени – и принимается литературоведами как основной признак летописного жанра [Лихачев, 1986; Ромодановская, 2002]. Текст основной редакции ЕЛ имеет общее краткое название «О Сибири и о сибирской стране», за которым следует пространное – «О Си-биръстей стране, како изволением божиим взята бысть от рускаго полка…» (ПСРЛ. С. 42). В самом заглавии нет слова летопись , оно появится внутри текста. И это показательно, так как «именно позиция внутри текста точнее передавала авторский замысел» [Ромодановская, 2002. С. 95].
Лексема летопись употреблена в рукописи несколько раз: в оглавлении («О исправе летописи сия»); в начале предпоследней главы («Имей же помочь исправляющу летописи сия»); в послесловии и в традиционном обращении к читателю. Ср.: «Конец же предлагаем летописи сия. Изложена же бысть сия летопись Сибирское царство…»; «Слогатай же сей летописи человек грешен есть»; «…иже будет изволивый прочитати летописи сия» (ПСРЛ. С. 69, 72). Характерно, что, называя свою рукопись летописью, Есипов указал и письменные источники, на которые опирался, определив их иначе – летописец, (на)писание. Ср.: «О царстве же Сибирьском… написахом ино с летописца татарского», «Казаки же принесоша написание, како приидоша в Сибирь…»; «…ино же написах с писания, преж мене списавша-го» (Там же). Очевидно, автор хотел подчеркнуть различия: летопись – это фундаментальный исторический труд, история страны, а использованные им источники (записи, «написания», документы) – лишь вспомогательный материал. В этом просматривается определенная иерархия, в которой летопись занимает более важное место, чем летописец и писание, что подтверждается и данными словарей.
В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» слово летопись многозначно. Как первичные даны значения «счисление лет»; «дата, запись года на чем-либо»; затем указано интересующее нас значение «летопись, хроника». Первым у слова летописец указано значение «летописец, хронист», в других значениях оно синонимично слову летопись . Ср.: «летопись (погодная запись исторических событий)»; «запись года на чем-либо»; «система летоисчисления» [СлРЯ XI-XVII, вып 8. С. 219-220]. У слов писание , написание словари фиксируют значение «запись; сочинение» [Срезневский, т. 2. С. 485]; «то, что написано, документы, произведения различного характера и назначения» [СлРЯ XI–XVII. С. 50].
Таким образом, Есипов выбрал традиционное, лаконичное и этимологически ясное слово летопись , придав ему характер жанрового определения всего произведения. Лексемы ( на ) писание («запись», «документы, произведения различного характера») и летописец татарский («сборник, объединяющий записи, документы татарской истории») были использованы для обозначения обработанных им и подчиненных летописи вторичных письменных текстов.
Как известно, в Древней Руси не было руководств по написанию литературных произведений. Ориентиром, позволявшим авторам находить нужный жанр для составления новых произведений, служило их предназначение, а для летописи важны были и те обстоятельства, при которых она возникала, например, в связи с учреждением архиепископства и присоединением новых земель. Составление летописных сводов было моментом официальным. Со временем «летописание начинает применяться для частного чтения и… становится более художественным и назидательным» [Лихачев, 1986. С. 66]. Так было и с летописью С. Есипова. Возникнув как памятник официальной письменности, она скоро стала распространяться в списках, обретая широкого читателя. По замечанию Г. Миллера, списков «оных так много, что в Сибири нет такого города, в котором бы у жителей по списку или более оных не нашлось» (цит. по: [Ромодановская, 2002. С. 39]).
Книжники, переписывавшие ЕЛ или составлявшие на ее основе относительно самостоятельный текст, ощущали сложность ее жанровой формы и порой формулировали заглавия (рукописи в целом или первой части) весьма разнообразно: « Описание о Сибирской земле», « Описание известительное о Сибирской стране», « Сказание о Сибирской стране» и т. п. Но во многих случаях под влиянием оригинала они сохраняли в тексте заключительной части определение рукописи как летописи .
Так, Лихачевская редакция отражает фольклорную трансформацию фактов, взятых из устных рассказов о походе казаков в Сибирь. Текст не имеет общего наименования, но первая часть рукописи озаглавлена « Слово о Сибирской стране», возможно, как раз под влиянием устной традиции. Название же предпоследней главы полностью совпадает с ЕЛ: «О исправе летописи сия» (ПСРЛ. С. 127). Завершая текст, переписчик использовал слово летописец : «Конец же предлагаю сему летописцу …» (Там же. С. 128). В отличие от автора ЕЛ, редактор данного текста не трудился над другими письменными источниками. Он лишь, слегка изменяя, переписывал оригинал, поэтому и использовал слова летопись и летописец как синонимы, не делая различий, что, впрочем, не противоречит данным словарей.
Текст Абрамовского вида также отражает незначительную (стилистическую) правку ЕЛ основной редакции, но имеет общее название « Летописец тобольской». Несмотря на это, в конце текста составитель сохранил определение протографа - летопись : «И от сих ко исправлению приидох, исправляюще летописи сия…» (Там же. С. 91). И в этом случае лексемы летописец и летопись выступают как синонимы. Лишь учитывая контекст бытования данной рукописи в составе большого компилятивного свода и факт, что Летописец был продолжен до 1707 г. сибирскими известиями, можно предположить, что значение лексемы летописец (Тобольский) оказалось шире – «летописный свод», а значение лексемы летопись сузилось – «история о взятии Сибири».
Забелинская редакция – это беллетристическая обработка основной редакции ЕЛ. Редактором переработаны книжные цитаты из Хронографа и Библии, текст упрощен и стилистически приближен к устно-поэтической системе. Первая часть рукописи названа « Сказание о Сибирской земле…» (Там же. С. 107). Общее название текста отсутствует, но в конце по традиции помещена глава с названием «О исправе летописи », т. е. и в данном случае отсутствует самостоятельная жанровая оценка переписчика. Как видим, составители рассмотренных выше списков, незначительно правя исходный текст, оставались в русле заданного протографом жанрового определения.
Другое дело, когда перед книжником стояла определенная цель, например, по-новому расставить акценты, внести в текст важные, с его точки зрения, сведения, художественно обработать его. При творческом подходе к «списательству» и наличии опыта литературной работы он мог по-своему оценить текст и дать собственное общее название. Так, рукопись Титовского вида ЕЛ имеет пространное наименование вроде аннотации: « Описание известительное о Си-бирстей стране, како изволением Божиим… взято бысть…» (Там же. С. 79). В контексте многословного наименования словосочетание описание известительное отражает стремление к высокому стилю и является признаком «плетения словес». Однако что означает такая авторская оценка рукописи?
У слова описание словари древнерусского языка отмечают значение «действие по глаголу описати (в значении “написать, за- писать, описать что-л. документально”), описание» [СлРЯ XI–XVII, вып. 13. С. 15– 16], но не фиксируют значение «результат действия», «то, что написано», «книга», хотя производящий глагол описати имеет в семантической структуре близкое значение – «написать (книгу, послание и т. п.)». Именно эту сему и реализует слово описание в заглавии текста – «то, что написано, написанное», «книга», «рукопись», что подтверждается и авторским началом: «Предисловие книги сия», а также в оглавлении: «Главы книги сея…» (ПСРЛ. С. 79).
Лексема известительный в словарях древнерусского языка по каким-то причинам отсутствует. Это не означает, что книжникам XVII в. она была не знакома. Словари русского языка более позднего периода (см.: [СлРЯ XVIII; Даль, 2005]) фиксируют ее в статьях ИЗВЕСТИТЬ и ИЗВЕСТИЕ. Ср.: « известительный – к извещению относящийся, известие содержащий» [Даль, 2005. С. 291]. Думается, что было бы упрощением трактовать название « Описание извести-тельное » только как «описание, содержащее известие». Приблизиться к истине помогает анализ семантической структуры глагола известити. Согласно словарям древнерусского языка, одно из первых значений глагола – «подтвердить, засвидетельствовать; удостоверить» – проявляется и в структуре однокоренных слов. Ср.: прилагательные известый , известный имеют значение «достоверный, точный»; образованные от них наречия известо , известно означают «достоверно, точно» [СлРЯ XI–XVII, вып. 7. С. 112–116]. Сема «достоверности, точности, историчности» и реализовалась в прилагательном известительный в нашем примере. Таким образом, описание известительное – это «достоверное, точное описание, повествование». Такое общее название Титовского вида ЕЛ означает, что автор-переписчик оценил свой текст как рукопись, книгу, содержащую подлинные исторические сведения о Сибири. В конце текста он традиционно сохранил обозначение основной редакции – летопись. Ср.: «Конец же предлагаю летописи сия. Изложена же бысть сия летопись …» (ПСРЛ. С. 89–90). Однако необходимо указать на два контекста, где встретилось слово летописие : «О исправе летописия сего» и «иже будет кто изволи-вый прочитати летописие сие» (Там же) (в обоих случаях вместо « летописи сия » в
ЕЛ). Поскольку словари древнерусского языка лексемы летописие не отмечают, можно считать ее авторским изобретением. Возможно, оно представляет собой сокращение слова летописание ( летопис (ан) ие ), а возможно, это простая и легко объяснимая описка, связанная с наложением слов в тексте: в ЕЛ « летопи си сия » – в редакции « ле-топи сия (сего)», « летопи сие ( сие )» .
Погодинский летописец назван автором « Повесть летописная , откуду начяся… Сибирь и како божиим повелением взята бысть…» [Летописи сибирские, 1991. С. 60]. Это особая редакция ЕЛ, запись современника событий, построенная по законам исторического сочинения. Отсюда и жанровое определение – повесть летописная . Значение слова повесть в древнерусской письменности близко к его этимологии: то, что повествуется, представляет законченное повествование. Изначально оно использовалось авторами весьма широко. Повестью часто назывались произведения житийные, новеллистические или летописные. Оставляя в стороне сложную историю развития жанра повесть и слова повесть как литературного термина, приведем данные словарей древнерусского языка. Словари указывают несколько значений. В качестве первого отмечено значение «известие, сообщение» [Срезневский, 1958] или «весть, известие» [СлРЯ XI–XVII]. Значение, на основе которого в дальнейшем формируется литературный термин, оказывается вторичным и неопределенным. Это широкое понятие повествования – «сказание, рассказ»; «рассказ, повествование»; «история»; «предание, сказание». Автор Погодинского летописца употребил слово повесть именно в широком значении – «рассказ, повествование» и, сопроводив уточняющим определением летописная , обозначил преемственность с текстом протографа.
В основу Бузуновского летописца положен рассказ о походе Ермака, своеобразно обработанный и дополненный новыми фактами. Данный текст является относительно самостоятельным и отражает демократическую линию сибирского летописания [Летописи сибирские, 1991]. Небольшой по объему рассказ назван автором «История о взятии Сибирской земли». Своего жанрового определения автор придерживается и в конце рукописи: «О сем Ермаке известие написал, откуду же рождение его сице… а как службу показал, о том в сей истории выше сего» [Там же. С. 207]. Слово история, раннее заимствование из греч. historia («расспрашивание», «исследование», «наука», «историческое повествование» [Черных, 1994]), было известно древнерусским книжникам во всех значениях. Составитель летописца употребил слово история в значении «историческое повествование», «рассказ», определив свой текст как повествовательный. Краткие сведения о происхождении Ермака, почерпнутые им из каких-то устных преданий, назвал известием.
Анализ авторских жанровых определений в текстах группы ЕЛ показал, что только в основной редакции ЕЛ отразилось однозначное отношение автора – С. Есипова – к созданному им тексту как к летописи . Опытный книжник ориентировался на памятники древнейшего летописания и видел свою задачу в создании истории Сибирской страны как единого целого, т. е. летописи. Это проявилось и в изложении материала, и в уверенной жанровой характеристике текста. К XVII в. традиция официального летописания была прервана, летопись переплелась с историческим повествованием. Последователи С. Есипова, переписывая с незначительными изменениями исходный текст, чаще сохраняли жанровое определение протографа. В тех случаях, когда книжники творчески перерабатывали исходный текст, они давали ему собственное жанровое определение, подбирая слово, которое так или иначе характеризовало текст как повествовательный.
CHRONICLE – TALE – HISTORY :
AUTHOR’S SEARCH FOR GENRE DEFINITION WITHIN THE TEXTS OF SIBERIAN CHRONICLES OF THE XVII CENTURY
In scientific literature the records giving account of Yermak’s military campaign are referred to as Siberian chronicles or historical accounts. The general name does not imply unanimity of inner meanings for all authors. The majority of texts contain definitions of such terms as chronicle , tale , chronicle account , description , story , chronicler. Semantically close lexemes do not always reflect the record’s genre objectively, but the choice of a certain word reveals the degree of creative independence of the text’s compilor or scribbler.
In this paper an attempt is made to find the motive for author’s word choice in terms of genre in the manuscripts from Yesipovskaya Chronicle group, based on the contextual and semantic analysis and the data of the Old Russian language dictionaries. As sources of the language material, the following texts of this group have been used: Yesipovskaya chronicle principal version, Likhachev’s version, Abramovsky, Zabelinsky and Titovsky editions, Pogodinsky and Buzunovsky chronicles.
Analysis of authors’ genre definitions in the above chronicles has shown that an unambiguous author’s position to the created text as a chronicle, has been reflected only in the principal edition of the Esipov chronicle. As an experienced scribe, he was guided by relics of the most ancient chronicles. His author’s task was a creation of the history of Siberian land as a single entity, a chronicle. This is reflected in the material presentation, as well as in the genre characteristics of the text. His followers rewriting the original text have preserved at the end of the manuscript the definition of the protograph, the chronicle, if they did not have had their own view of the events described, so they limited themselves by short addendums or a styling. If the inserting text changes were considerable, the scribe made attempts to give personal definitions, by choosing a genre word which has characterized the text as a narrative text, because to XVII century, a chronicle suggesting a private reading, has been deeply interwoven with a historical story-telling. This is confirmed by the use in the headings of lexemes like account , tale , story («Certain account on a Siberian land» in the text of Titovsky edition, «Chronicle tale» in Pogodinsky chronicler, «Story on capture of Siberian land» in Buzunovsky chronicler), which shows a close, partially synonymous relation with the lexeme chronicle , the main genre definition of texts of this group.
Список литературы Летопись - повесть - история: авторский поиск жанрового определения в текстах сибирских летописей XVII века
- Даль В. И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. М., 2005. 736 с.
- Дергачева-Скоп Е. И. Генеалогия сибирского летописания: Концепция. Материалы. Новосибирск, 2000. Летописи сибирские / Сост. и общ. ред. Е. И. Дергачевой-Скоп. Новосибирск, 1991. 272 с.
- Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л.: Наука, 1947. 499 с.
- Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. Л.: Наука, 1986. 408 с.
- Полное собрание русских летописей. М.: Наука, 1987. Т. 36: Сибирские летописи. Ч. 1.
- Ромодановская Е. К. Сибирь и литература. XVII век // Ромодановская Е. К. Избр. тр. Новосибирск: Наука, 2002. 391 с.
- Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам: В 3 т. М., 1958. Т. 2.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. М.: Наука, 1975. Вып. 1 (продолжающееся издание).
- Словарь русского языка XVIII в. Л.: Наука, 1984. Вып. 1 (продолжающееся издание).
- Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. М., 1994.