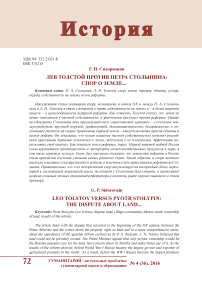Лев Толстой против Петра Столыпина: спор о земле
Автор: Cидоровнин Геннадий Павлович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (36), 2016 года.
Бесплатный доступ
Предлагаемая статья посвящена спору, возникшему в начале XX в. между П. А. Столыпиным и Л. Н. Толстым в связи с вопросом о праве собственности на землю и - в более широком смысле - о целесообразности аграрной реформы. Как известно, Толстой считал, что земля не может находиться в частной собственности, и фактически выступил против реформы. Однако по убеждению Столыпина, весь предыдущий опыт «крестьянской державы» - с отсталым землеустройством, круговой порукой, уравниловкой, безынициативностью, бесправностью и постоянным расчетом на скорое присвоение барской земли - свидетельствовал против общины в пользу реформ. Он доказывал, что только владение частной собственностью позволит российским крестьянам бережнее относиться к земле, заботиться о ее плодородии, эффективнее использовать свой капитал. Как показали итоги реформы, перед Первой мировой войной Россия стала крупнейшим производителем и экспортером сельскохозяйственных продуктов в мире, в том числе зерновых культур. Успех был настолько очевиден, что земельные реформы в России стали предметом изучения учеными самых развитых стран. Таким образом, в споре великого писателя и великого государственного деятеля, в конечном счете прав оказался реформатор Столыпин. Примечательно, что этот исторический спор актуализируется интересами обоих персонажей к плодородной мордовской земле, на которой у Столыпина было имение, и проистекает на фоне сложных личных отношений реформатора и писателя, ранее хорошо знакомого с отцом премьера.
П. а. столыпин, л. н. толстой, спор, земля, деревня, община, хутора, отруба, собственность на землю, итоги реформы
Короткий адрес: https://sciup.org/14720956
IDR: 14720956 | УДК: 94:
Текст научной статьи Лев Толстой против Петра Столыпина: спор о земле
The article deals with the dispute that occurred in the beginning of the XX century between the Prime Minister and the writer about the property right to land and in a more comprehensive sense, about the expediency ofthe agrarian reform carried out by P. A. Stolypin. L. N. Tolstoy believed that land could not be privately owned. The Prime Minister argued that only private ownership would let the Russian peasants care for the land, feel concern about its fertility and make better use ofit. As the results ofthe reform showed, before World War I Russia became the largest grower and exporter of agricultural products in the world. As a result, before the WW1 Russia become the largest producer
№ 4 (36), 2016
and exporter ofagricultural products in the world, including grain crops. The success was so obvious that land reforms in Russiabecame the subject ofstudy by scientists in the developed countries. Thus, in the dispute between the great writer and the great state official Stolypin eventually turned to be right. Notably this historical argue is actualized by the interests of the both personages to the fertile mordovian land where Stolypin had estate and took place on the background of complex personal relationship ofthe reformer and the writer who knew the father ofthe Prime-minister very well.
Исторический спор двух «знаковых» персонажей актуализируется, прежде всего, их принадлежностью к противоположным политическим лагерям – умеренно правым, «консерваторам», «государственникам» и «западникам», демократам, либералам, – отношения которых последнее время определяют политику внутри страны. Таким образом полемика между П. А. Столыпиным и Л. Н. Толстым не утратила значения и в наше время, хотя политическое устройство России, общественные формации и отношения претерпели кардинальные изменения. Осмысление исторического опыта здесь представляется важным, поскольку камнем преткновения в споре разных сторон, по-прежнему, остается вопрос о праве собственности на землю. А чтобы разобраться в сути расхождений двух русских авторитетов – национальной политики и литературы, следует прежде всего обратиться к их продекларированным установкам и взглядам, тем паче, что их переписка открыта и давно на виду [8].
Следует отметить, что в споре оба деятеля опирались на опыт, приобретенный в том числе в Мордовии. П. А. Столыпин имел имение в селе Инсар-Акшино под Рузаевкой, развитием которого лично занимался. Этим скромным имением с плодородной землей он дорожил и даже собирался перевезти сюда мебель из-под Москвы [6, с. 549–555]. В то же время известно, что Л. Н. Толстой изучал и даже лично посетил этот край с целью приобрести здесь имение, кстати, на гонорар, полученный при издании романа «Война и мир». Однако к этой идее он охладел, по слухам, после «Арзамасского ужаса»...
Итак, глава правительства П. Столыпин своей аграрной реформой наметил освобождение крестьян от тисков земельной общины и закрепление за ними надельной земли. По его мнению, весь предыдущий опыт «крестьянской державы» – с отсталым землеустройством, круговой порукой, уравниловкой, безынициативностью, бесправностью и постоянным расчетом на скорое присвоение барской земли – свидетельствовал против общины. Главным аргументом против института традиционной общины было нарастающее обеднение самого многочисленного русского класса, в то же время обладающего гораздо большими землями, чем процветающие хуторяне соседних европейских стран. В своей речи в Госсовете сам Столыпин отмечал: «Пока к земле не будет приложен труд самого высокого качества, труд свободный, а не принудительный, земля наша не будет в состоянии выдержать соревнование с землей наших соседей, а земля ‹…› – это Россия» [5, с. 253].
Следует также заметить, что революционные потрясения 1905–1907 г. окончательно развеяли заблуждения власти относительно лояльности русских общин, их преданности самодержавному строю. Община из механизма «круговой поруки» превратилась в новый смутный период подстрекателем крестьянства и организатором его сопротивления и борьбы с помещиками и правительством. В полной мере знакомый с проблемой, изучивший в Западном крае опыт общинного раз-верстания и выделения крестьян на отруба и хутора, П. Столыпин решительно взялся за претворение дела, к которому, в силу разных причин, не смогли основательно приступить его предшественники. Земельная реформа, начатая Указом 9 ноября 1906 г., впоследствии была закреплена законами (14 июня 1910 г. и 29 мая 1911 г.), которые обеспечили право свободного выделения крестьян на хутора и фактическую приватизацию земельных наделов. Государственная инициатива не только наделяла крестьян правом собственности на землю, делая их полноправными владельцами и настоящими хозяевами своей судьбы, но выбивала из-под ног почву у левых движений, лишая их опоры у переселенцев, «отрубников» и хуторян.
Между тем именно право собственности крестьян на свои наделы вызвало, прежде всего, резкое неприятие Л. Толстого и стало точкой расхождения реформатора и писателя, бывшего одним из самых авторитетных противников происходящих на общинной земле перемен. Заметим, что еще с 1906 г. Лев Толстой начинает интересоваться делами нового главы МВД, а еще через год, когда тот уже возглавлял правительство, писатель направляет ему письмо, а также записку младшему брату реформатора – Александру Столыпину. Начинается письмо возвышенно: «...пишу Вам не как Министру, не как сыну своего друга*, пишу Вам как брату...». В этом послании писатель ратует за упразднение частной собственности и следующим образом обосновывает этот подход: «...Нужно теперь для успокоения народа не такие меры, которые увеличивали бы количество земли таких или других русских, людей, называющихся крестьянами (так смотрят обыкновенно на это дело), а нужно уничтожить вековую, древнюю несправедливость... Несправедливость состоит в том, что как не может существовать права одного человека владеть другими (рабство), так и не может существовать права одного, какого бы ни было человека, богатого или бедного, царя или крестьянина, владеть землею, как собственностью. Земля есть достояние всех, и все люди имеют одинаковое право пользоваться ею… Лев Толстой» [4, с. 222]. В этом письме он также знакомит П. Столыпина с учением американского экономиста Генри Джорджа и его «единым налогом» – как панацеей для устранения существующей среди землевладельцев несправедливости: «Только начните это дело, – писал Толстой главе Совмина, – и Вы увидите, как тотчас же примкнут к Вам все стомиллионное крестьянство, которое теперь враждебно Вам» [4, с. 222]. Характерно, что в прилагаемой записке писатель ходатайствует за саратовского ветеринара, примкнувшего к местным революционерам и попавшего за это в тюрьму. Некоторое время младший брат премьера вынужден был исполнять роль посредника, а Петр Столыпин, переживавший в новой должности тяжелое время, вынужден был оправдываться за свое молчание: «...Если будешь отвечать Л. Н. Толстому, напиши ему, пожалуйста, что я не невежа, что я не хотел наскоро отвечать на его письмо, которое меня, конечно, заинтересовало и взволновало, и что я напишу ему, когда мне станет физически возможно сделать это продуманно» [4, с. 222].
Наконец, в конце октября 1907 г. Толстой получает ответ: «Лев Николаевич! Не думайте, что я не обратил внимания на Ваше первое письмо. Я не мог на него ответить, потому что оно меня слишком задело. Вы считаете злом то, что я считаю для России благом. Мне кажется, что отсутствие «собственности» у крестьян создает все наше неустройство.
Природа вложила в человека некоторые врожденные инстинкты, как то: чувство голода, половое чувство и т. п. и одно из самых сильных чувств этого порядка – чувство собственности. Нельзя любить чужое наравне со своим и нельзя обхаживать, улучшать землю, находящуюся во временном пользовании, наравне со своею землею.
Искусственное в этом отношении оскопление нашего крестьянина, уничтожение в нем врожденного чувства собственности ведет ко многому дурному и, главное, к бедности. А бедность, по мне, худшее из рабств. Смешно говорить этим людям о свободе или о свободах. Сначала доведите уровень их благосостояния до той, по крайней мере, наименьшей грани, где минимальное довольство делает человека свободным...
Вы мне всегда казались великим человеком, я про себя скромного мнения. Меня вынесла наверх волна событий – вероятно, на миг! Я хочу все же этот миг использовать по мере моих сил, пониманий и чувств на благо людей и моей родины, которую люблю, как любили ее в старину. Как же я буду делать не то, что я думаю и сознаю добром? А Вы мне пишете, что я иду по дороге злых дел, дурной славы и, главное, греха. Поверьте, что, ощущая часто возможность близкой смерти, нельзя не задумываться над этими вопросами, и путь мой мне кажется прямым путем.
Сознаю, что все это пишу Вам напрасно – это и было причиною того, что я Вам не отвечал… Простите, Ваш П. Столыпин» [4, с. 223].
Толстой в ответном письме пытается оспорить взгляды оппонента: «Вы пишете, что обладание собственностью есть прирожденное и неистребимое свойство человеческой натуры. Я совершенно согласен с этим, но… истинное законное право собственности есть только одно: право собственности на произведения своего труда. Владение же землей при уплате на нее налагаемого налога не делает владение это менее прочным и твердым, чем владение по купчим. Скорее наоборот» [4, с. 223].
Таким образом, по мнению Толстого, Столыпин совершает ошибки, начав бороться насилием против насилия и приступив к земельной политике, которая также несет «земельное насилие», разрушая общину. Писатель считает, что только признание земли «равной собственностью всего народа» и установление единого для всех налога, могут «успокоить народ и сделать бессильными все усилия революционеров, опирающихся теперь на народ»… И далее он призывает Столыпина исправить положение дел: «Смелому, честному, благородному человеку, каким я Вас считаю… свойственно не упорствовать в сделанной ошибке, а сознать ее и направить все силы на исправление ее последствий».
Вместе с тем он словно сознает, что его призыв обречен на неуспех: «Еще раз прошу Вас простить меня за то, что я мог сказать Вам неприятного, и не трудиться отвечать мне, если Вы не согласны со мной. Но, пожалуйста, не имейте против меня недоброго чувства» [4, с. 223].
На этом полемика закончилась, точнее, затем носила односторонний характер. Столыпин в силу занятости не ответил на следующее письмо: он, образно говоря, одной рукой держал плуг, а другой отмахивался от врагов, наседавших со всех сторон... Историки советской поры назвали этот период «столыпинской реакцией», задавившей революцию... А «яснополянский затворник» писал обличительные письма, статьи, из которых самой известной и гневной стала «Не могу молчать» [9, с. 83–96]. В ней он подверг остракизму жесткость мер, которыми власть пыталась остудить революционный запал, – в пору когда губернаторов и полицейских «стреляли, как куропаток», люди боялись выходить на улицу, а в России местами не осталось целых дворянских усадьб... [4, с. 142].
Как известно, именно усадебные земли стали главной причиной острых политических вожделений русских крестьян, всемерно поддерживаемых либеральной интеллигенцией в части необходимости их принудительного отчуждения. Стало общим местом считать, что П. Столыпин был категорически против этой программы, стремясь сохранить помещичье земледелие [1, с. 104]. А между тем еще в мятежный саратовский период, убедившись, что большие поместья отжили свой век, он продает свое нижегородское имение Крестьянскому банку, полагая, что это послужит примером для остальных [2, с. 92–96]. Должного понимания в среде саратовских помещиков он не обнаружил, однако будучи уже в должности главы правительства всемерно способствовал добровольной передаче части этих земель Крестьянскому банку для дальнейшего обеспечения ею малоземельных крестьян. Любопытно, что Николай II именно по настойчивому совету Столыпина решил начать с себя, и после долгих и горячих прений в среде родни Романовыми было решено продать часть фамильной земли, а кабинетские земли Алтая передать переселенцам безо всякого выкупа от казны [3, с. 180].
Как бы то ни было, но существует немало свидетельств готовности столыпинского кабинета для сокращения земельной нужды удовлетворять ее за счет казенных и удельных земель, вплоть до «обязательного отчуждения частной собственности в тех случаях, где того потребует естественное развитие землеустроительных задач» [3, с. 181]. Этот подход, после запроса обеспокоенного Объединенного дворянства подтвержденный правительством, вызвал среди правых возмущение, став одной из причин их нарастающего недовольства П. Столыпиным и курсом реформ. Заметим, что и часть «прогрессивного», «либерального» общества, когда дело касалось их непосредственных интересов, готова была пожертвовать принципами для сохранения своих привилегий. Например, уже после революции в эмигрантской публицистике, а следом в СССР были преданы гласности сведения о том, что когда в смутное время волна погромов докатилась до усадьбы писателя, Толстые проявили осмотрительность и вызвали для охраны надежный отряд казаков. Таким образом, знаменитый толстовский призыв «непротивления злу силой», был в критический момент позабыт [4, с. 224]... Надо заметить, что переписка Столыпина и Толстого, по сути, нисколько не изменила положения дел. Писатель, взял поначалу менторский тон, но встретив достойный ответ убежденного в своей правоте и просвещенного оппонента, видимо, к этому спору остыл. Впрочем, по свидетельствам толстовского окружения, Лев Николаевич резко отзывался о П. Столыпине* и в августе 1909 г. готовил ему очередное письмо, по сути, содержащее ультиматум: «...если в вашей деятельности не будет никакого изменения, письмо это будет напечатано за границей». Однако, видимо, одумавшись, премьеру его не отослал [10, с. 79–82].
С другой стороны, полемику с Толстым по своему переживал и Столыпин. Как сообщала его дочь, «...рассказывая об этих письмах, мой отец лишь руками разводил, говоря, что отказывается понять, как человек, которому дана была прозорливость Толстого, его знание души человеческой и глубокое пониманье жизни, как мог этот гений лепетать детски беспомощные фразы этих якобы «политических» писем. Папá еще прибавлял, до чего ему тяжело не иметь возможности удовлетворить Льва Николаевича, но исполнение его просьб почти всегда должно было повести за собой неминуемое зло» [2, с. 23].
Обращаясь к основному предмету спора – «праве собственности на землю» – трудно представить, что сама по себе национализация земли, признание ее «ничейной», передача крестьянам всей помещичьей земли без остатка или другие меры, увеличивающие размеры наделов – без передового землеустройства, обеспечения крестьян техникой, кредитами – могли бы успокоить всех земледельцев и «уничтожить вековую, древнюю несправедливость». И справедливо указывал в своих думских речах реформатор, что на «ничейной земле» в той же общине крестьянин не станет особо заботиться о сохранении ее плодородия, поскольку надел за ним закреплен не навечно и вскоре перейдет к другому хозяину-временщику. Что даже полный раздел помещичьих земель не решает проблемы, поскольку в центральных районах страны не обеспечит нужной прибавки, а к тому же не покрывает естественного прироста населения. Что «под нож» пойдут плодородные земли дворянских имений, служащие передовой технологией примером всем остальным. Что при тотальном отчуждении этих земель возникает опасность сокращения лесных угодьев России, которые составляли в поместьях весомую часть. Между тем доля помещичьих площадей сокращалась естественным образом – через распродажу ее крестьянам по льготным расценкам посредством Земельного банка и фонда – без потрясения, озлобления дворянский массы и превращения ее в противника этих реформ...
И напротив – призывы и чаяния Льва Толстого носили благожелательный, но простодушный и малореальный характер. Рекомендуемый им «единый налог в размере земельной ренты» (по образцу Г. Джорджа), как панацея для решения вековой российской проблемы, не учитывал психологии русского крестьянина и условий нашей страны. Но, главное, как и программы кадетов и социалистов, идея писателя поощряла принудительное отчуждение помещичьих угодий, даровую раздачу земли и, в конечном счете сохраняла общину, а вместе с ней и отсталость российских крестьян. А противники столыпинских преобразований опирались как при жизни, так и после смерти Л. Толстого, на него, как на авторитет, с которым власть была вынуждена считаться. Видимо, симпатии В. Ленина к Л. Толстому также объясняются позицией последнего в земельном вопросе, возбуждавшей – против дворян, правительства и в целом монархии – всех русских крестьян...
Лучшее свидетельство правоты Столыпина в этом историческом споре – первые результаты реформ. Общепризнанно, что ему в начале века удалось укротить смуту и остановить российский распад, жизнь постепенно снова входила в мирные берега: после реформ окрепла экономика, разворачивалось передовое землеустройство, обживалось огромное восточное пространство страны, модернизация охватила все важнейшие сферы. Внушительным результатом экономического подъема стало укрепление российского рубля, с лихвой обеспеченного золотым запасом страны (!), причем когда валюта самых развитых государств была обесценена до критического состояния.
Здесь следует также принять в расчет, что золотой запас России прирастал прежде всего постоянно восполнимым продуктом, и не только и не столько хлебом, но, например, экспортным маслом, продажа которого за рубеж выручала золота больше чем сибирские прииски (!). Прогресс наблюдался во всем сельском хозяйстве России, а также в ее промышленности, особенно в транспорте, горнодобывающей отрасли и металлургии. В результате трудовой российский люд медленно, но уверенно вылезал из вековой нищеты, чему способствовали укрепление его социальной базы, развитие кооперации, страхования и образования. Передовое землеустройство значительно изменило сельский ландшафт, причем преимущества отрубов и хуторов осознали даже бывшие апологеты общины. Вопреки тому, что писали о «провале реформ» кадет А. Изгоев (А. Лянде) и советский ученый А. Аврех и иже с ними – авторитетный экономист А. Чаянов признал, что «одним из глубоких и важнейших явлений переживаемой нами эпохи в истории
России является мощное, полное юной энергии возрождение русской деревни... Никогда раньше наша деревня не испытывала мощного просветительского воздействия, какое испытывает теперь...» [11, с. 1–2].
Замечательные перемены в российской аграрной отрасли отмечали также другие отечественные исследователи и ученые начала XX века: например, М. Покровский, А. Тюменев, Н. Карпов, И. Литвинов и знаменитый землеустроитель А. Кофод. Стремительные успехи нашей державы стали объектом исследования иностранцев, причем, француз Э. Тере, считал, что «в середине настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе как в политическом, так и в экономическом, и в финасовом положении». А немецкий ученый Прейер даже посвятил российской земельной реформе основательный труд, поставив ее в пример прусскому сельскому хозяйств и советуя применить русские методы – по вложенным средствам, энергии и упорству. Изучать русский опыт приехала из Германии комиссия числом более 100 специалистов во главе со знаменитым профессором Аугагеном, которая была поражена результатом реформ. В ее секретном отчете было сказано, что при таких темпах через десять лет Россия станет самой сильной державой в Европе... [4, с. 503–523].
Примечательно, что передачей крестьянам земли и организацией кооперативов в этот период займется и дочь писателя Александра Толстая [7, с. 15]. Впрочем о расцвете довоенной русской деревни и кооперации с восторгом писали впоследствии и кадеты, которые вместе с Толстым шли против Столыпина и реформ... Таким образом, как представляется, на тот исторический период спор с ним Лев Толстой проиграл.
Список литературы Лев Толстой против Петра Столыпина: спор о земле
- Анфимов А. М. Неоконченные споры/А. М. Анфимов//Вопросы истории. -1997. -№ 5/6. -С. 49-54.
- Бок М. П. Воспоминания о моем отце П. А. Столыпине/М. П. Бок. -М.: Современник, 1992. -316 с.
- Бородин А. П. Столыпин. Реформы во имя России/А. П. Бородин. -М.: Вече, 2004. -384 с.
- Сидоровнин Г. П. П. А. Столыпин. Жизнь за Отечество. Жизнеописание/Г. П. Сидоровнин. -Саратов: КЦ им. П. А. Столыпина, 2002. -640 с.
- Столыпин П. А. Нам нужна Великая Россия: полн. собр. речей в Государственной думе и Государственном совете. 1906-1911 гг. -М.: Молодая гвардия, 1991. -411 с.
- Столыпин П. А. Переписка./П. А. Столыпин. -М.: РОССПЭН, 2007. -704 с.
- Толстая А. Л. Дочь/А. Л. Толстая -США: Заря, 1979. -540 с.
- Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. /Л. Н. Толстой. -М.: Художественная литература, 1928-1958. -Режим доступа: http://petrovitskaya.lifeware.ru/sobranie_sochineniy
- Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: в 90 т./Л. Н. Толстой. -М.: Художественная литература, 1956. -Т. 37. -497 с.
- Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: в 90 т./Л. Н. Толстой. -М.: Художественная литература, 1955. -Т. 80. -376 с.
- Чаянов А. В. Методы изложения предметов/А. В. Чаянов. -М., 1916. -32 с.