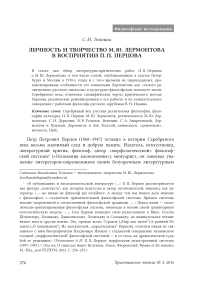Личность и творчество М.Ю. Лермонтова в восприятии П.П. Перцова
Автор: Телегина Светлана Михайловна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские исследования
Статья в выпуске: 3 (68), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье дан обзор литературно-критических работ П.П. Перцова о М.Ю. Лермонтове, в том числе статей, опубликованных в газетах Петербурга и Москвы в 1910-х годах и с того времени не переизданных, проанализированы особенности его концепции Лермонтова как «самого религиозного русского писателя» в культурно-философском контексте эпохи Серебряного века, отмечены специфические черты критического метода Перцова, розановские реминисценции в его работах и их концептуальное совпадение с работами философа русского зарубежья В. Н. Ильина.
Cеребряный век, русская религиозная философия, философия культуры, п. п. перцов, м. ю. лермонтов, религиозность м. ю. лер- монтова, с. н. дурылин, в. в. розанов, венеция, с. а. андреевский, лер- монтов и пушкин, лермонтов и лев толстой, символизм, "демонизм", вечность, небо
Короткий адрес: https://sciup.org/140190186
IDR: 140190186
Текст научной статьи Личность и творчество М.Ю. Лермонтова в восприятии П.П. Перцова
вкусом, эрудицией2 и безукоризненной честностью. С ним вели переписку и дорожили его мнением многие выдающиеся современники, в том числе А. А. Блок, В. В. Розанов, Д. С. Мережковский, С. Н. Дуры-лин, В. Я. Брюсов, З. Н. Гиппиус.
Петр Петрович родился в Казани, в старинной дворянской семье, богатой культурными традициями. Его дядя — поэт Эраст Петрович Перцов (1804–1873) — приятель А. С. Пушкина и Е. А. Боратынского3. Пушкин, собирая материалы о Пугачеве, заезжал в 1833 году (5–8 сентября) в Казань и посетил Эраста Петровича в его казанском доме4. В богатейшем фонде П. П. Перцова в РГАЛИ хранятся литературные материалы его родственников, среди них: «Путешествие по Испании. Дневник» (1861–1862) его отца Петра Петровича Перцова, «Дневник» его тети Юлии Петровны Перцовой (1812–1852), в котором отразились ее впечатления от путешествия из Казани в Петербург в 1838–1839 годах5, и «Воспоминания» его двоюродного брата, инженера Петра Николаевича Перцова6.
Литературную деятельность Петр Петрович Перцов начал еще студентом юридического факультета Казанского университета. «Я родился литературно 10 апреля 1890 года — на двадцать втором году от рождения физического», — писал Перцов в своих воспоминаниях7. Именно тогда были напечатаны его стихи в столичном журнале «Книжки недели» (1890. № 9).
В юности Петр Петрович симпатизировал либералам и придерживался народнических взглядов, в 1892–1893 годах был постоянным сотрудником «Русского богатства» — ведущего печатного органа этого общественно-политического направления. Быстро разочаровавшись и разойдясь во взглядах на искусство с Н. К. Михайловским, он покинул журнал и два года жил и работал в Казани, печатая в местных изданиях «Письма о поэзии», где проводил мысль о независимости поэтического творчества «от злободневных потребностей». В представлении Перцова, в искусстве и литературе «остается жить только то, что относится к вечной категории — идеализма . Только воплощения вечного идеала и будут вечно волновать нас, вечно говорить с душою человека»8.
Перцов получил заслуженное признание как деятельный издатель-интеллектуал с тонким литературным чутьем, издательская деятельность которого никогда не была коммерческой. «Я издаю книги, которые считаю хорошими и которые издать автор не может, а издатели-купцы не хотят», — писал Петр Петрович отцу в феврале 1897 года9. Перцов стоял у истоков символизма — сборник «Молодая поэзия», составленный и изданный им в 1896 году, открыл путь в литературный мир сорока двум молодым русским поэтам символистского направления, среди которых были И. А. Бунин, К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов. Н. М. Минский.
В этом же году он познакомился и подружился с В. В. Розановым, став «великим поклонником» (И. Ф. Романов-Рцы) философа на всю жизнь. И хотя в их отношениях случались недоразумения, дружба между ними сохранилась до смерти Розанова10. Петр Петрович был единственным из литераторов, кто сразу откликнулся на просьбу дочери Розанова, Татьяны Васильевны, написать воспоминания об отце11. Перцов — издатель и редактор первых книг Василия Васильевича, тогда еще незнакомого широкой читательской аудитории: «Сумерки просвещения», «Религия и культура», «Литературные очерки» (1899), «Природа и история» (1900). Литературной знаменитостью философ стал именно после выхода сборников статей, изданных Перцовым. Розанов признавался, что подобного предложения издания его избранных сочинений он до того времени «ни от кого не слышал»: «С изумительным терпением и великодушием [Перцов] взял эти обязанности [редактора и корректора] на себя, и, можно сказать, умерев для себя на год, — воскресил (из газетного мусора) и создал как „писателя с физиономией“ — меня»12. Василий Васильевич умел ценить своего скромного друга «с геттингенской душой». «Вы для меня сделали, сколько никто в 20 лет, разве кроме Страхова („вывел“)…» — писал он Перцову 8 апреля 1900 года13. На правах старшего друга он наставляет Петра Петровича: «Вы ужасно серьезны. ‹…› Вы слишком ушли в „понимание“. ‹…› Труд и мышление — но где же че-ловек?»14 «Эх, если бы Вы были поживее и поинтимнее, — сокрушается Розанов в другом письме. — А то „корректность“ Ваша связывает язык собеседнику»15. Отмечая в Перцове-писателе «богатейшую наблюдательность» и «чрезвычайно научный» ум, высоко ценя «благородство и бескорыстие „рыцаря честного“», Розанов заметил, что «недостаток Перцова заключается в недостаточно яркой и даже недостаточно определенной индивидуальности. ‹…› Ума и далекого зрения, как и меткого слова (в письмах), у него „как Бог дай всякому“, но все эти качества заволакиваются туманом неопределенных поступков, тихо сказанных слов; какого-то „шуршания бытия“»16. Это определение — «шуршание бытия»17, — как очень верное, вспоминает С. Н. Дурылин в своем дневнике в 1926 году, отмечая, что в то трудное для Перцова время при невыносимых условиях жизни и творческой работы он не слышал от Петра Петровича «ни жалобы, ни ропота»18.
Постоянно трудясь и помогая другим, деятельный Перцов, видимо, сознательно оставался в тени своих знаменитых современников. Поверхностное впечатление о тихом и застенчивом Петре Петровиче было обманчиво. «Я вообще „человек с секретом“», — писал он в одном из писем19. Из его переписки с Розановым предстает человек острого ума, свежих и ярких мыслей, знающий себе цену, смело и прямо высказывающий довольно нелицеприятное мнение о некоторых идеях Василия Васильевича, непримиримый к его развязному тону, который Розанов иногда позволял себе в письмах. Причины размолвок между друзьями были и идейные: последовательный монархизм Розанова, готового «умереть за царя», и неизлеченный до конца либерализм Перцова с его резкими отзывами о личности Николая II.
Многие критики единодушно высоко оценили книгу Перцова «Венеция и венецианская живопись»20, написанную им в Италии, где он в 1897–1898 годах изучал искусство Возрождения. Розанов отмечал в своей рецензии на второе издание этой книги: «П. П. Перцов изучал, вернее, залюбовывался искусством Италии. ‹…› Но он смотрит на искусство… как историк культуры, который живопись объясняет через человека и, в свою очередь, постигает человека через живопись»21.
В 1902–1904 годах Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус пригласили Перцова в качестве главного редактора в религиозно-философский журнал «Новый путь», в котором они полагали соединить богоискательство и символизм. В журнале печатались К. Д. Бальмонт, А. А. Блок, В. Я. Брюсов, Вяч. И. Иванов, М. А. Волошин, Б. К. Зайцев, А. М. Ремизов. Мережковский опубликовал в «Новом Пути» «Судьбу Гоголя» и роман «Антихрист. Петр и Алексей». Но журнал не спасли ни громкие имена авторов, ни бескорыстие сотрудников, писавших для него бесплатно: из-за нехватки средств он просуществовал только два года. Петр Петрович покинул журнал до его закрытия, в феврале 1904 года, из-за разногласий с Мережковскими. Дурылин в своем дневнике дает такой post scriptum к рассказу Перцова о драматической судьбе «Нового Пути»: «Никто не помог. Правительство и богачи давали деньги на „Мир искусства“, на эстетику Бакста и Дягилева, „батюшки“ подписывались на „Русский паломник“ и издавали „Труды“ Духовной Академии, — и никто не подумал позаботиться о журнале, где впервые с Петра Великого встречались Вера и Мысль, русская вера и русская мысль, — никто в огромной православной России…»22
С Лермонтовым Перцов-критик соприкоснулся в 1896 году при издании сборника «Философские течения русской поэзии»23, включающего характеристику двенадцати русских поэтов с подбором «наиболее типичных для философской индивидуальности» стихотворений каждого из них. Это был первый опыт такого рода, учитывая, что позитивистская критика, не проявляя интереса к внутреннему, идеальному миру человека, не рассматривала поэзию в философском контексте. Розанов писал, что для поколения 1860–1870-х годов «мир поэзии, религии и нравственности остался непонятным и навсегда закрытым»24. В результате русские писатели на рубеже веков оказались «чужды преемственности с прекрасным прошлым» (С. Н. Дурылин); Фет и Тютчев были забыты и издателями, и читателями, кумирами последних становились поэты уровня Надсона, книги которого за двадцать лет выдержали двадцать три издания.
В предисловии Петр Петрович так определял основную цель сборника: «Руководящие критические очерки, посвященные каждому поэту, имеют в виду главным образом его миросозерцание; рассматривают его, как мыслителя, как философа. Если искусство есть лучшая форма выражения индивидуальности, — то с другой стороны главным содержанием индивидуальности, определяющим ее моментом является бесспорно ее религия: то или иное отношение человека к важнейшим, к вечным вопросам бытия. ‹…›. Своеобразное отношение прежней русской критики к вопросам поэзии и философии оставило интересующую нас область почти неразработанной»25.
Критические статьи в сборнике были представлены именами С. А. Андреевского (М. Ю. Лермонтов, Е. А. Баратынский), Д. С. Мережковского (А. С. Пушкин, А. В. Кольцов, А. Н. Майков), Б. В. Никольского (А. А. Фет), Вл. С. Соловьева (Ф. И. Тютчев). Перцов написал статьи о Н. П. Огареве,
А. К. Толстом, Я. П. Полонском, А. Н. Апухтине, А. А. Голенищеве-Кутузове и А. В. Кольцове в соавторстве с Мережковским.
Емкий по содержанию и изящный по стилю этюд Сергея Аркадьевича Андреевского «Лермонтов»26 — один из самых ярких в этом сборнике. Адвокат Андреевский (1847–1918) был не только выдающимся судебным оратором (в современных юридических учебниках его адвокатские выступления приводятся как образец ораторского искусства), но и талантливым литературным критиком, и не лишенным дарования поэтом. Перцову были близки выводы, сделанные Андреевским, он считал его работу «одною из лучших характеристик в сравнительно небогатой лермонтовской литературе, несмотря на свою односторонность»27. Отличительной чертой всех этюдов Андреевского, и лермонтовского в частности, было внимание к душе писателя и его психологическим переживаниям, что, несомненно, явилось следствием адвокатской практики критика. Этюд о Лермонтове носил полемический характер. Сергей Аркадьевич, рассматривая главным образом духовную сущность лермонтовского творчества, его взгляд на вечные вопросы бытия, спорил с корифеями народнической критики Н. К. Михайловским и А. М. Скабичевским, в своих работах определявшими Лермонтова как «героя безвременья» николаевской эпохи, «который тосковал не столько о небе, сколько об освобождении крестьян»28. Андреевский называет «фальшивым» такое объяснение источника скорби Лермонтова и акцентирует внимание на «более глубокой и менее исследованной стороне лермонтовского дарования — на стороне сверхчувственной»29: «Нет другого поэта, который бы так явно считал небо своей родиной и землю — своим изгнанием. ‹…› Неизбежность высшего мира проходит полным аккордом через всю лирику Лермонтова. ‹…› Ангелы входят в его поэзию, как постоянный привычный образ, как знакомые, живые лица. Во всем, что он писал, чувствуется взор человека, высоко парящего „над грешной землей“, человека, „не созданного для мира“»30. Андреевский дает интересное сравнение отношений гениев европейской литературы к вопросам веры и вечности и приходит к выводу: «Один Лермонтов нигде положительно не высказал (как и следует поэту), во что он верил, но зато во всей своей поэзии оставил глубокий след своей непреодолимой и для него совершенно ясной связи с вечностью. ‹…› Смелое, вполне усвоенное Лермонтовым родство с небом дает ключ к пониманию и его жизни, и его произведений. Под куполом неба, населенного чудной фантазией, обличение великих неправд земли есть, в сущности, самая сильная поэзия веры в иное существование…»31
Вполне естественно, что позитивистская критика, которую остроумный В. О. Ключевский называл «литературною полицией», не приняла статью Андреевского, но ее оценили Мережковский и проницательный Розанов, отмечавший новизну определений, впервые высказанных так «полно, закругленно и без колебаний»: «Никто не сказал, что „связь с сверхчувственным“ у Лермонтова есть самая главная черта и что ясностью этой связи он превосходит всех поэтов всемирной литературы»32. Но следует отметить, что Розанов обращает внимание на недостаток остроты и глубины «всех нигде не поразительных, но всюду привлекательных этюдов, [в которых] умный автор-собеседник играет перед вами умом, изысканно образованным…»33 Такая оценка была вызвана, вероятно, тем, что Андреевский, отождествляя понятия «человек не от мира сего» и «чистокровнейший поэт», в конце концов уводил свои рассуждения из мистической плоскости в литературную, а поэму «Демон» трактовал как романтическую историю любви, герои которой «по красоте фантазии… превосходят все влюбленные пары во всемирной поэзии»34.
Тем не менее Андреевский признан предтечей символисткой критики. Основные положения его работы: о связи Лермонтова с Небом, о его «двойном зрении», об отношении к смерти — были восприняты (осознанно или неосознанно) и представлены в символистской трактовке В. В. Розановым, Вл. Соловьевым, Д. С. Мережковским, А. Белым, А. А. Блоком, Б. А. Садовским, В. Ф. Ходасевичем, П. П. Перцовым, С. Н. Дурылиным.
Лермонтова Перцов упоминает во всех своих статьях, подготовленных для сборника «Философские течения русской поэзии», поскольку рассматривает творчество характеризуемых поэтов на фоне русского литературного процесса XIX века, но более подробно останавливается на сравнении Лермонтова с его «сонаследниками» — Огаревым и гр. А. К. Толстым. Необходимо отметить, что личное отношение Перцова к Лермонтову на протяжении его литературной деятельности претерпело эволюцию от индифферентного до признания его одним из любимых поэтов в конце жизни (наряду с Фетом, Полонским и Майковым)35. В период издания сборника Перцов трактовал личность поэта с преобладанием в ней демонического начала, мятежа и протеста, при этом всегда подчеркивал связь с вечностью, отсутствие страха смерти, мастерство в передаче потустороннего, отвлеченного, надземного.
В статье, посвященной Н. П. Огареву, Перцов дает развернутое сравнение его поэзии с лермонтовской, называет Огарева «одним из эпигонов Лермонтова, его легатарием», указывая на «сходство огаревских настроений с основным мотивом лирики Лермонтова»: «У Лермонтова — это слияние страстного, уверенного стремления к Небу с тоскливым, безнадежным отчуждением от земли, гордый вызов Небу, который характеризует собою „мятежного“ поэта. ‹…› Скука жизни чувствовалась Огаревым так же ярко, как и автором „Ангела“. ‹…› Даже любовь, для Огарева, как [и] для Лермонтова, отравляется сознанием ее недолговечности. „Вечно любить невозможно“»36. По мнению Перцова, в отличие от Лермонтова «Огарев боится смерти — именно как полного конца, содрогаясь чисто физическим ужасом перед призраком уничтожения. Не имея лермонтовской уверенности „мир увидеть новый“, не зная пушкинского пантеистического примирения с „равнодушной“ природой, он восклицает в поэме „Юмор“: „Аккорд нам полный, господа, / Звучать не будет никогда!“37 « „Никогда“ — вот в чем индивидуальная особенность мировоззрения Огарева, — подчеркивает Перцов, — вот чего не сказал бы Лермонтов»38.
Но чувство есть у нас святое,
Надежда, бог грядущих дней, —
Она в душе, где все земное,
Живет наперекор страстей;
Она залог, что есть поныне
На небе иль в другой пустыне
Такое место, где любовь
Предстанет нам, как ангел нежный,
И где тоски ее мятежной
Душа узнать не может вновь39.
То святое чувство надежды на вечное блаженство, которое жило в душе Лермонтова, было недоступно Огареву, не сумевшему выйти из-под влияния философии крайнего материализма, истребившей у него не только веру, но вообще возможность признания объективного существования «иного мира».
Сходство между Огаревым и Лермонтовым Перцов замечает и в психологической особенности их личностей, причисляя обоих поэтов к разряду «субъективных художников»: «Источник творческих впечатлений такого поэта — не столько во внешнем мире, сколько в нем самом. ‹…› И как бы ни были ярки и разнообразны созданные им типы, первым и самым ярким его типом всегда является он сам. Для Пушкина, как для его „пророка“, были внятны „и неба содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход…“ — его поэзия была, действительно, подобна „эху“ жизни. Лермонтовский пророк бежал в пустыню, и поэзия его творца была, прежде всего, его исповедью »40. Огарев принадлежит к лермонтовскому типу, как Апухтин, как Баратынский, как Голенищев-Кутузов, между тем как Фет, Майков, Полонский, например, к пушкинскому41.
Полную антитезу Огарева — графа А. К. Толстого — Перцов называет другим «сонаследником Лермонтова», к которому «перешла лермонтовская уверенность „мир увидеть новый“, открылись „звуки небес“ и заглушили для него даже весь разлад земли, ‹…› воскресла лермонтовская вера, [но] без его могучего протеста и жгучей тоски. Лермонтовский мятежный вопрос о том, „что мне Бог готовил, зачем так горько прекословил надеждам юности моей?“, ему показался бы гордым и преступным. ‹…› Земная жизнь для Алексея Толстого, как и для Лермонтова, — „неволя“, но он терпеливо сносит ее цепи, ‹…› жгучая обида жизни, „жар души, растраченный в пустыне“, были непонятным кощунством для этого верного ангела»42.
Влияние Лермонтова на Алексея Толстого было и чисто литературным, эстетическим, на что обратил внимание Дурылин: «Кн. Вяземский в „Князе Серебряном“ написан А. Толстым по „Кирибеевичу“ — Лер-монтова43: и задумчивость его на пиру у Грозного, и участие Грозного в его страсти любовной, и похищение чужой жены, и бой, и самый удалой характер князя — все по Лермонтову; даже похвальба Хомяка перед боем — перифраза: „Присмирели, небось, призадумались!“»44
В статье, посвященной гр. А. А. Голенищеву-Кутузову, определяя его как поэта смерти, для которого «смерть есть не только необходимость, но высшее благо и настоящее блаженство», Перцов останавливается на разработке этого мотива в творчестве других русских писателей: «Вслед за сознательно-спокойной resignation Пушкина — как все, достигаемой великим поэтом без борьбы и усилий, ‹…› с Лермонтовым подымается в русской поэзии мятежный протест духа, гордый вызов Демона, и Небу адресуется язвительная, мрачная „благодарность“ — „За жар души, растраченный в пустыне, / За все, чем я обманут в жизни был…“ Но в самой глубине этого протеста, в самой силе этого вызова коренится непоколебимая уверенность в близости Неба, в кровном родстве с ним души…»45
Об адресате стихотворения Лермонтова «Благодарность», которое упоминает Перцов, допустимо рассуждать только на уровне гипотезы. Мнения исследователей разделились, и полемика продолжается до сего времени. Известно, что в прижизненных публикациях (Отечественные записки. 1840. т. 10. № 6. отд. III. С. 290; Стихотворения М. Лермонтова. СПб., 1840. С. 117) слово тебя напечатано со строчной буквы. Часть исследователей находят в этом цензурные причины, ссылаясь на то, что в автографе стоит заглавная буква46, и видят в адресате стихотворения — Бога. Тогда как другие, упрекая своих оппонентов в слишком произвольной трактовке смысла текста, предполагают, что это стихотворение — «письмо к женщине», измену которой поэт пережил как трагедию всей жизни, и считают его типичным для любовной лирики Лермонтова, в которой есть примеры такой «благодарности»47. Действительно, бессмысленно упрекать Бога за вероломство в любви («отраву поцелуя») и «клевету друзей», которые проистекают из поврежденного грехом человеческого сердца, из свободной воли, дарованной Создателем человеку. В свою очередь, часть исследователей, предполагающих адресатом «Благодарности» Бога, определяют ее как «саркастический вызов» Создателю, «презрительную, кощунственную антимолитву»48; другие же, отмечая трагическую тональность произведения, называют его «стихотворением-молитвой», «духовным плачем» Лермонтова, «все творчество которого вопиет к Всемогущему о человеческой боли, пронзающей всю бытийную историю»49, сопоставляют стихотворение с драмой библейских пророков Иеремии и Ионы, которые, переживая «горечь отверженного существования, обращались к Богу со словами горьких упреков»50. Философ и богослов русского зарубежья В. Н. Ильин называл Лермонтова «„поэтом-литургистом“, творчество которого звучит отзвуками „Арфы
Давида“ даже тогда, когда душа его в пытке невыносимого страдания исходит „Иовлевыми воплями“ и протестами…»51
В результате многолетних размышлений о личности и творчестве Лермонтова Перцов пересмотрел свою первоначальную трактовку «Благодарности», что нашло отражение в его «Литературных афоризмах», над которыми он работал более тридцати лет, начиная с 1897 года. Здесь, уже отрицая «мятежный» характер личности Лермонтова, Перцов указывает, что «он говорит с Богом, как равный с равным, — и так никто не умел говорить („Благодарность“ и друг.). ‹…› У Гоголя — еще природный человек, — в вечном смятении перед Богом, как ветхозаветный иудей. Только у Лермонтова он — сын „Божий“, и не боится Отца, потому что „совершенная любовь исключает страх“. ‹…› У него нет и не может быть бунта, потому что бунт только там, где рабство, а у Лермонтова отношение к Богу — отношение сына к Отцу, а не раба или слуги — к Господину (Пушкин, Гоголь). Даже в минуты непокорности и упреков оно остается сыновним, новозаветным. Сын может возмущаться властью Отца, Его несправедливостью (на его взгляд), но это не бунт: тут нет чувства разнородности и несоизмеримости »52.
Статья «„Судьба“ Пушкина» (1899) является откликом на полемику в период 100-летнего юбилея Пушкина и связана со статьей «Смерть Пушкина». Размышляя о причинах «пушкинской катастрофы», Петр Петрович указывает на разницу обстоятельств, приведших обоих гениев к дуэли: « земной характер трагедии Пушкина» и стремление Лермонтова к освобождению от «земной неволи» и к возвращению в небесную отчизну. В статье «„Судьба“ Пушкина» (в совокупности со статьями об Огареве и А. К. Толстом) намечены основные положения трактовки образа Лермонтова, которые будут развиты в последующих статьях Перцова.
«В пушкинской катастрофе все, выражаясь языком философии, „фе-номенально“ — легкомысленная жена, враждебные вельможи, светские сплетни. Это — оскорбление, идущее со стороны людей, — пишет Перцов. — В дуэли и судьбе Лермонтова все „ноуменально“ — здесь нет никаких посредствующих деятелей драмы. Великий человек бросает свою жизнь зря, из-за пустяков, для удовольствия приятеля, без всякой видимой причины. Это почти замаскированное самоубийство. Причина здесь — внутренняя: тоже оскорбление поэта, но оскорбление, идущее не от людей…
Придет ли вестник избавленья
Открыть мне жизни назначенье,
Цель упований и страстей?
Поведать, что мне Бог готовил,
Зачем так горько прекословил
Надеждам юности моей?
***
Но я без страха жду довременный конец —
Давно пора мне мир увидеть новый.
И он ушел из того мира, „скучные песни“ которого не были в силах заглушить в его памяти „звуков небес“. Вот беспримесный, чистый трагизм — неразрешимое столкновение гения с жизнью. ‹…› Ничтожество Мартынова только усугубляет общее впечатление, ничтожество Дантеса — досадно. Причина, конечно, в том, что в истории Лермонтова личность противника не играет никакой роли: все дело в самом поэте, во внутренней его коллизии; чем ничтожнее противник, тем даже резче выступает эта последняя. У Пушкина коллизия во внешних отношениях…»53
У Петра Петровича в русском зарубежье был единомышленник — философ и богослов Владимир Николаевич Ильин (1891–1974). А. И. Резниченко отметила «параллельность совершенно независимой „морфологи-ческой“ философской системы В. Н. Ильина» «Основаниям космономии» Перцова (см. сноску 1). Такое же поразительное концептуальное совпадение находим у этих мыслителей, творивших в разных русских мирах, в отношении личности и творчества Лермонтова. (Можно предположить, что в юности Владимир Николаевич был знаком со статьями Перцова, и этим объяснить перцовские реминисценции в его работах.) «В противоположность убийству Пушкина через приражение извне, — пишет Ильин, — дуэль Лермонтова и все, что ей предшествовало, было замаскированным самоубийством (курсив мой. — С. Т.). Конечно, и здесь по отношению к такой сложной, гениальной и таинственной личности, какой был автор „Фаталиста“, слово „самоубийство“ звучит совсем иначе и содержит совершенно иной смысл, чем мы это наблюдаем у обыкновенных натур. ‹…› Лермонтов есть по преимуществу ангелическая натура русского высокого Парнаса. Пребывание его на земле можно назвать — со всякими оговорками — как бы карающим воплощением ангела. ‹…› Жизнь Лермонтова… есть лютое страдание от насильственного воплощения такого духа, которому воплощение по природе не свойственно. Отсюда желание как можно скорее развоплотиться и уйти. ‹…› Все обстоятельства рокового события показывают, что Лермонтов не только не желал убить своего противника Мартынова, но, наоборот, все сделал для того, чтобы быть убитым, — и преуспел в этом совершенно»54.
Концепция Ильина отличается от перцовской тем, что он считал Пушкина, при всем его несходстве с Лермонтовым, также мечтающим, но только скрытно , поскорее «мир увидеть новый»: «У обоих была тяжкая привилегия исключительных натур: им было неуютно в этом мире, [оттого они] взмолились о „карете“. Таковы были их истинные молитвенные слова, полные горечи и любви». «Смерть для них, — уверен Владимир Николаевич, — означала „восхождение по вертикали“»55.
В концепциях Перцова и В. Н. Ильина делается акцент на добровольном характере ухода Лермонтова из жизни, что, конечно, спорно. Многие современники поэта, в том числе Е. П. Ростопчина и В. А. Соллогуб, близко наблюдавшие Лермонтова перед последним отъездом из Петербурга в 1841 году, когда ему было отказано в прощении и предписывалось в 48 часов покинуть столицу, отмечают его «чрезвычайную грусть» и тяжелые предчувствия близкой смерти56. Кроме того, сохранилось свидетельство М. П. Глебова, секунданта Лермонтова (?), о задуманной поэтом дилогии из двух эпох русской жизни57, свидетельство А. А. Краевского о желании Лермонтова издавать свой журнал, о чем он часто с ним говорил58, и последнее письмо Лермонтова к бабушке, написанное за несколько дней до смерти, с просьбой прислать «поскорее полное собрание сочинений Жуковского и полного Шекспира, по-ан-глински» (IV, 429), — все это никак не соответствует намерениям поэта уйти из жизни.
Несмотря на эти факты, точка зрения Перцова о «замаскированном самоубийстве» осталась неизменной на протяжении всей его литературно-критической деятельности и закреплена в несколько смягченной форме в итоговой работе «Литературные афоризмы»: «Дуэль Лермонтова — замаскированное самоубийство (как уже неоднократно замечалось). ‹…› Быть может, он и был прав в отношении себя: „исчезнуть“ он не боялся, а хотелось поскорее „мир увидеть новый“. Но, несомненно, он был неправ объективно — забыв свой гений. Сила личности (и отсюда — самососредоточенности) слишком ослабила в нем чувство обязанности (своей относительности)»59. Следует заметить, что, в отличие от Перцова и В. Н. Ильина, архимандрит Константин (Зайцев), подводя духовный итог трагической дуэли Лермонтова, отрицал в ней мотив самоубийства, так как в этот мо мент, «под дулом пистолета, по мнению
-
о. Константина, зло уже было безвластно над ним. ‹…› В таком смиренном отказе от выстрела по своему случайному и раздраженному противнику можно распознать вольное самоотдание в руки Бога Живого, разящего, но милостивого»60. И эта точка зрения, на наш взгляд, ближе стоит к объяснению тайны, которую Лермонтов унес с собой в иной мир.
В 1904–1906 годах Перцов сотрудничал в петербургской газете «Слово», издаваемой его родственником Н. Н. Перцовым, вел там рубрику «Обзор печати» и редактировал литературное приложение «Понедельники газеты „Слово“», привлекая туда талантливых поэтов-символистов В. Я. Брюсова, А. А. Блока, Федора Сологуба (Ф. К. Тетерникова), И. Ф. Анненского и др. В сентябре 1908 года, после двухлетнего перерыва, Перцов возвратился к литературной работе, став сотрудником столичной газеты патриотического направления «Новое время», самой читаемой газеты в России, и активно печатался там до 1917 года как публицист, литературный и художественный критик, для которого были характерны воззрения, близкие к славянофильским. Именно в этот период (1909–1916) Перцовым были написаны статьи о Лермонтове. Сам Петр Петрович подсчитал, что всего в «Новом времени» за период с 1908-го по 1917 год было опубликовано 553 его статьи, а в «Голосе Москвы» за четыре года (1911–1914) — 90 статей61. Лермонтовский цикл Перцова, сравнительно с общим количеством публикаций, небольшой — восемь статей, которыми восхищался Розанов и высоко ценил Дурылин.
В конце 1930-х годов Перцов, находясь в костромской деревне, активно работал над «Космономией». «Нуждаясь в сомыслящем собеседнике», он отправлял готовые главы для прочтения Дурылину. Интересно, что, высоко оценив62 принципиально новый философский труд своего друга, подробно анализируя прочитанные главы «Космономии», Дуры-лин вспоминает его статьи о Лермонтове: «…статьи Ваши о Лермонтове
(кстати: они перепечатаны для Вас в двух экземплярах) мне ближе двух глав Вашей системы. Мне кажется, в „оболочке зримой“ в лермонтовской оболочке „сквозит и тайно светит“ у Вас то же , что и в „Системе“, но мне… легче распознать это Ваше „тайное и живое“ в зримой оболочке, чем в отточенной схеме высокой абстракции»63. Через два года Сергей Николаевич, вдохновляя Перцова на продолжение «Литературных воспоминаний» и «Оснований космономии», пишет ему: «Высоко ценю Вас как писателя и художника слова. Если б моя воля, к юбилею Лермонтова я первым долгом издал бы Ваши статьи, как лучшее, что о нем написано»64. Мысль об издании статей Перцова (не изданных до сего времени) не оставляет Дурылина, он возвращается к ней 28 марта 1942 года: «Я бы издал Ваши статьи о Лермонтове в один томик. У Вас есть ощущение неповторимого бытия Лермонтова, и у Вас есть ощущение его аромата — как-то запах лермонтовского ландыша. Это его цветок — и он у Вас благоухает»65.
Из восьми статей три представляют собой рецензии на новые книги о Лермонтове. В 1909 году Перцов откликается на выход отдельным изданием статьи Д. С. Мережковского «М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчелове-чества»66, носившей характер острой полемики с Вл. Соловьевым, резко обвинявшим Лермонтова в демонизме (одержимости тремя демонами) и видевшим в поэте прямого родоначальника ницшеанства. По мысли Соловьева, Лермонтов был не способен на смирение и на «сложный и долгий подвиг борьбы» с демонизмом, поэтому не исполнил своего призвания гения67. В отличие от Вл. Соловьева, Д. С. Мережковский видел в «богоборчестве Лермонтова» страдания библейского Иова и был уверен, что через него поэт шел к «богосыновству». Мережковский указывал, что Лермонтов — первый русский писатель, поднявший «религиозный вопрос о зле», первый писатель, в котором так ясно видна связь с вечностью. В то же время «главная трагедия Лермонтова», по мысли Мережковского, в том, что «он христианство преодолеть не мог, потому что не принял и не исполнил его до конца»68. Это утверждение философа, как и его идея о «несмиренности» Лермонтова, исходит из религиозных заблуждений Мережковского, его попыток преодоления традиционного христианства, выразившихся в активном богоискательстве, попытке создания «Церкви Третьего Завета» и «некоего вселенского неохристианства».
Перцов считал, что религиозное реформаторство только повредило критическому таланту Мережковского. «Как ни настаивай на признании „третьего царства“ и „религии Св. Духа“, — никого не соблазнишь к новому верованию и ни одна живая душа не дрогнет, — пишет Петр Петрович в рецензии. — В книжке о Лермонтове тоже слишком много „противоположения христианству“ и „преодоления христианства“, „бого-борчества“ и „богосыновства“… Но уж пусть его! Зато есть действительно меткие намеки на „загадку“ Лермонтова»69. Перцов обращает внимание на мысли Мережковского о метафизической природе поэзии Лермонтова, как на самое главное, что может приблизить к пониманию «загадки» Лермонтова: «Действительно, Лермонтов, „демонический“ Лермонтов, есть самое религиозное явление русской литературы»70. Перцов считал, что, в отличие от Гоголя, Достоевского и Толстого, которые рассуждали о религии, потому что «продвинулись от нее и затосковали, Лермонтов не рассуждает о религии, потому что он дышит ею, живет в ней, потому что он религиозен стихийно, бессознательно, как дети, как часто женщины, как народ и, наконец, как природа»71. Для Перцова «необыкновенный „Ангел“», как и «Листок», «Тучи» и многие другие у Лермонтова, «больше, чем стихи. Это именно заклинания, — заклинания, стремящиеся вернуть невозвратно ушедшее. О чем бы ни писал Лермонтов, — он пишет о потерянной отчизне»72. Мережковский заметил, что в противоположность большинству людей, Лермонтов помнил прошлую вечность. Перцов дополняет: «Отсюда вечность его тем и вечность его стихов-формул»73.
И я счет своих лет потерял
И крылья забвенья ловлю.
Как я сердце унесть бы им дал,
Как бы вечность им бросил мою !
I, 326
По мнению Дурылина, все творчество Лермонтова говорит о его «пламенном исповедании иной действительности». «Лермонтовское из лермонтовских признание: „И я бросил бы вечность мою“, — пишет Сергей Николаевич, — невозможно, немыслимо в устах Пушкина. МОЮ! — вечность мою! — сказать так же просто и твердо, как ребенок говорит про мать: „мама моя“. В Лермонтове и была простота мудрости — знания о вечном. А у Пушкина — „мое“ обращено только к земле, к земному: вот красавицу жену называет он в минуту страсти „смиренницей моей“. А „вечность моя“ в устах Пушкина звучит так же дико, как молитва Ефрема Сирина в устах Магомета»74.
Эти слова Дурылина проясняют, почему он так ценил перцовские статьи о Лермонтове: у них совпадали трактовки его творчества, что особенно было ценно в советские годы, когда работы с такой интерпретацией не могли быть опубликованы, их основные мысли и идеи оставались зафиксированными только в потаенных записках и доверительных беседах.
Перцов часто прибегает к сопоставлению Лермонтова с Пушкиным («Их не устаешь сравнивать», — замечает Петр Петрович), и в этом отношении у него много глубоких мыслей. Говоря о разнице между двумя гениями, Перцов замечает, что Пушкин своим «изящным, легким, искрящимся» стихом откликается даже на «мимолетное, случайное настроение», и Лермонтов, который «все мимолетное склонен возводить к пределу вечности. Он неутомимо, неотвлекаемо серьезен»75. В «Литературных афоризмах» суть этого различия Перцов выразил кратко и ясно одним предложением: «Пушкин эстетически совершеннее Лермонтова, но Лермонтов духовно — значительнее»76. «На их примере наглядно видно, — делает он небольшое пояснение, — что в искусстве „главное“ все-таки не красота, и что само искусство не есть важнейшее явле ние нашего духовного мира»77. Немецкий поэт и переводчик Фридрих
Боденштедт, близко наблюдавший поэта в последний год его жизни, писал, что «серьезная мысль была главною чертою его благородного лица, как и всех значительнейших его произведений, и вообще в его характере преобладало задумчивое, часто грустное настроение…»78. Петр Петрович обращает внимание, что в стихотворении «М. А. Щербатовой» «серьезная нота врывается вдруг в светский мадригал — столь же нежданная, как этот странный эпитет „печальная“ в применении к Украине, которая никому другому из поэтов не казалось такой. Но печаль он носил всегда в себе:
На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украйны она променяла…
***
И, следуя строго
Печальной отчизны примеру,
В надежду на Бога
Хранит она детскую веру»79.
Исповедование иной действительности и связь с вечностью — это тяжкое бремя, оттого, по мнению Перцова, «не было человека несчастнее Лермонтова, — по крайней мере между русскими поэтами. ‹…› Смерть его есть, несомненно, замаскированное самоубийство. Если бы Мартынов промахнулся, он додразнил бы кого-нибудь другого»80. Свои мысли о религиозности Лермонтова, намеченные в рецензии на книгу Мережковского, Перцов окончательно выразил в форме литературных афоризмов, где они приобрели отточенную лаконичность и философскую глубину.
Рецензия Перцова на книгу Д. Н Овсянико-Куликовского81 называется «Нечто о Лермонтове» и начитается словами: «Мучительно-пустая книга…» И далее в том же ироничном ключе: «Положительно, это какой-то особый талант, распространенный по преимуществу между нашими „почетными академиками“ и вообще „мужами науки“, — умение написать целую книгу и ничего в ней не сказать. Как это они умеют? Что за секрет?»82 Книга Овсянико-Куликовского наполнена азбучными истинами и банальными рассуждениями о «субъективном» и «объективном», которые «до такой степени несомненны, что новорожденный младенец их уже знает и если не беседует на эту тему со своей кормилицей, то единственно из скромности. А вот почетный академик и „знаме-нитый“ профессор не побоялся посвятить им целую книгу»83. Не найдя ни одной свежей мысли в рассуждениях Овсянико-Куликовского, Петр Петрович заметил, что все книги «почетных академиков» «так удручающе схожи друг с другом». Полное равнодушие автора к объекту своего исследования вызывает у Перцова восклицание: «Главное, что поражает у „почетного“ автора — это именно отсутствие своего личного отношения к Лермонтову (к Лермонтову!). Чувствуется, что ни разу он не задумался неодолимо над поэтом, ‹…› не был поражен его загадочно-трагическим обликом. Только сидел и писал: „Субъективное, ‹…› объективное“. ‹…› Есть же такие счастливые души!» «Единственные оазисы книги — это ее обширные, к счастью, цитаты, — иронизирует Перцов. — Вот что читается с удовольствием. Отличные цитаты: все ведь из Лермонтова…»84
Дурылина называл труды «разных „ологов“» «жвачкой», которая уничтожает «остроту и тонкое благоухание» великих писателей85. По мнению Сергея Николаевича, не «Львовы-Рогачевские и Пикса-новы», а русские мыслители, которые никогда «не получали чинов и наград по печальному ведомству истории литературы, сказали о Лермонтове самое умное и самое верное»86. «[Они] находили и открывали оттого, что сами ощущали трепет творчества, волнение мыслительных раздумий». В числе тех, кто входил в «эту царственную линию, никогда не занимавшую престола»87, Дурылин называет и Перцова наравне с Розановым, Ключевским, Леонтьевым, Говорухой-Отроком.
Деятельный Петр Петрович предлагает Розанову создать «анти-венгеровскую и анти-куликовскую коалицию [и] бороться с этой пошлятиной именно книгой» : «Хорошо бы повторить издание „Философских течений“. Но не буквально (не имело бы смысла) ‹…›: берем… „тему“ — Лермонтов, Пушкин, Некрасов, Гоголь — и подбираем на нее статьи „умных авторов“ (собственно это и есть тип моих „Философских течений“). Напр<имер>, о Лермонтове: 1) Розанов. „Вечно печальная дуэль“ и еще другое что; 2) Шперк — прекрасная была статья, осталась в рукописи; 3) Перцов — заметки из „Нов<ого> вр<емени>“, Вами хвалимые… ‹…› Хорошо бы такую серию дать „наших“ авторов. ‹…› А то посмотрите — ведь вся литература засыпана их горохом. Какой-то Коген (литературовед П. С. Коган. — С. Т. ) вышел седьмым изданием! (именно сборник статей о русских „класси-ках“). Овсянико- Дураковский выходит каждый год новым. ‹…› Не все учителя леваки; наверное, есть и нашего типа. Но что же он рекомендует? Страхова, которого негде купить, Розанова, который (в этом смысле) почти не издан?.. ‹…› Вообще, давайте „толкаться“. Иначе и не отверзет-ся…»88 Наступил 1917 год, и издание обновленных «Философских течений» осуществить не удалось.
В 1915 году Перцов рецензирует книгу молодого ученого Л. П. Се-менова89, в которой был дан обзор литературы о Лермонтове, опубликованной к 100-летию со дня рождения поэта, в том числе всех статей и заметок из столичных и провинциальных газет и журналов. «Нельзя отрицать трудолюбия г. Семенова, — пишет Перцов. — Все на свете трудно, но не все одинаково ценно. Г. Леонид Семенов один из тех, кто не понимает этой истины. ‹…› Нельзя написать ни одной мимолетной рецензии, чтобы не быть пришпиленным в одном из ящиков его коллекции. Он думает, что писать о Лермонтове — это значит собирать под одну обложку все, где мелькнет его имя»90. Идет война с немцами, и Перцов переходит к рассуждению о влиянии германского духа на нашу науку. Именно для немцев, по мнению рецензента, характерно «это нагромождение… „фактов“, фактецов, полу-фактов, четверть-фактов и наконец фактишков»: «В конце концов появляются такие „лермонтовские“ темы, как „случаи употребления Лермонтовым античных имен“. В самом деле, чрезвычайно важно знать, что Александр Македонский упоми- нается у Лермонтова три раза, а Гектор всего только раз. ‹…› Г. Леонид Семенов — это типичный лепесток с древа нашей академической официальной учености, которая вся пропитана кенигсбергским духом, унылым, как бескрасочное прусское побережье»91.
Надо сказать, что такая резкая критика Перцова скромной, но все же нужной книги начинающего ученого во многом была несправедлива. Л. П. Семенов92 собрал и сохранил юбилейные публикации, рассеянные по дореволюционным периодическим изданиям, часто недоступным для исследователей и со временем приобретающим все большую ценность. Кроме того, книга передает юбилейную атмосферу в стране, омраченную начавшейся Первой мировой войной, обозначает проблемы в сохранении памяти поэта, отмечает отношение простых обывателей к гению. Семенов пишет во вступительной статье «Судьба поэта»: «Мы хотим здесь напомнить лишний раз, что мы не умеем ни беречь великих людей, ни хранить память о них. ‹…› Гул пушек менее угрожает имени поэта, нежели равнодушие или глухая неприязнь, перешагнувшая за порог XIX века. Подписка на памятник в Москве открыта, но пожертвования даются скудно, неохотно. У нас нет образцового, строго научного издания, как нет и хорошего общедоступного издания избранных произведений поэта…»93 Побывав в день 100-летия со дня рождения поэта, 15 июля 1914 года, в Пятигорске, Семенов с горечью отмечал, что на панихиду у места первоначального погребения поэта в Пятигорске собралось всего тридцать человек, в Домике Лермонтова посетителей было мало, пояснение давал сторож. Место дуэли, общение с коренными жителями Пятигорска — все это оставило у него тягостное впечатление94.
Статьи, в которых развернуты основные положения трактовки личности и творчества Лермонтова, написаны Перцовым в период с 1911-го по 1916 год, преимущественно к юбилейным датам. Для Петра Петровича «черный Владимирский день95 1841 года, когда русская литература потеряла величайшую из своих надежд, еще печальнее, чем январские дни 1837 года»96. Перцов чрезвычайно высоко ценил работы Розанова о Лермонтове и считал, что «в нашей литературе очень немного слов о Лермонтове (если есть), равноценных розановским словам»97, вероятно, поэтому в статьях много явных и скрытых розановских реминисценций, которые усложняют создаваемый критиком образ поэта98. Тем не менее мысли Розанова в статьях Перцова приобретают новые оттенки и трансформируются в другом контексте. Так, одна из основных идей Розанова о Пушкине — поэте осени, а Лермонтове — весны (Пушкин «обращен к прошлому», Лермонтов — к будущему)99 получает в трактовке Перцова новый смысл: доминирующим признаком лермонтовской поэзии становится «воскресность» и «пасхальность»: «Пушкин был в значительной степени уже „осуществлен“. Напротив, к Лермонтову слишком применимо его же выражение о русском народе: „весь в будущем“»100. По мысли Перцова, от стихов Лермонтова «веет весенним воздухом», а от стихов Пушкина — «крепким ароматом осени»: «Тайной остается, каким образом мог появиться этот вечно юный, столь близкий к небу поэт в русской литературе непосредственно вслед за другим, изначала — зрелым, столь проникнутым земною стихией? Каким образом эта „весна“ могла прийти за этой „осенью“? И что несет с собою самый факт ее явления — какие великие обетования новых возможностей, после однажды свершенных?»101 В этой статье, написанной к 100-летнему юбилею поэта, мысли о религиозности Лермонтова уже сложились у Перцова в лаконичную форму (он и перенес их в «Литературные афоризмы» почти без изменения): «Если считать существом религиозности непосредственное ощущение Божественного элемента в мире — чувство Бога, то Лермонтов — самый религиозный русский писатель. Его поэзия — самая весенняя в нашей литературе, — и, вместе, самая воскресная. Отблеск пасхального утра лежит на этой поэзии, вся „мятежность“ которой так полна религиозной уверенности. „Небесное“ было для Лермонтова своей стихией. Именно он умел находить, говоря о нем, такие поэтически точные „окончательные“ слова, какие находит Пушкин, говоря о земном. Когда Лермонтов касается мира бесплотности, самый стих его окрыляется, точно освобождаясь от веса („На воздушном океане“)»102. Именно перед «силой и ясностью врожденного» лермонтовского ощущения Бога (Дурылин называл это его «изначальной религиозностью»), по мнению Перцова, совершенно отступают поздние и мудрые старцы нашей литературы — Достоевский и Лев Толстой. Вся напряженность и глубина их исканий как-то растаивает перед легкими, как небесная синева, стихами [лермонтовской „Молитвы“ („В минуту жизни трудную“)]»103.
В дополнение следует сказать о недавней находке петербургского лер-монтоведа И. С. Чистовой (ИРЛИ), которая убедительно доказала лермонтовское авторство стихотворения «Христос Воскресе», опубликованного впервые в «Литературной газете» (1840, № 40) за подписью «Л»104. Исследователю удалось обнаружить его в личном фонде П. И. Бартенева (РГАЛИ), переписанное рукою близкого друга поэта, графини Е. П. Ростопчиной, и подписанное полным именем — Лермонтов. Тщательный стилистический анализ стихотворения, сделанный И. С. Чистовой в синтезе с привлеченными биографическими фактами, указывает на неоспоримое авторство Лермонтова. Вторая часть этого большого стихотворения представляет стихотворное переложение евангельского рассказа о воскресении Христа:
Минувшее открылось предо мною.
Его проник могучий взор души,
И вот оно картиною живою
Рисуется в тиши.
***
И в этот миг раздался хор нетленных, Хор светлых ангелов с небес —
Он возгласил над миром искупленным:
Христос воскрес! Христос воскрес!
Оледеневшая от страха,
Внимая голосу небес,
Упала стража — и, средь праха, Воскликнула: воистину воскрес!
Так совершилась тайна искупленья —
И гордый враг небес низвержен в прах,
И снова для преступного творенья
Доступна жизнь — и вечность в небесах104.
Перцов называет Лермонтова «поэтом Воскресения, христианином насквозь» оттого, что «у него не только нет страха смерти, ‹…› но нет даже мысли о ней — никакого ее чувства. „Смерть, где жало твое?“ Чувство жизни — Вечной Жизни, — и отсюда полное равнодушие к „пере-ходу“»105. И в этом смысле Лермонтов — редчайшее явление русской литературы, если учитывать тот ужас перед смертью, который испытывали Гоголь, Тургенев, Лев Толстой. Розанов считал, что начало вообще всех страхов в мире — смерть. В отличие от них Лермонтов «принимает свой „довременный конец“ как что-то законное и неизбежное», и только у Достоевского было похожее отношение к смерти. Но для Лермонтова иной мир был не только предметом стремлений, но и ощущением его объективной реальности, поэтому, по мнению Перцова, «Лермонтов — лучшее удостоверение человеческого бессмертия. Оно для него не философский постулат и даже не религиозное утверждение, а простое реальное переживание. ‹…› Мощь личного начала (величайшая в русской литературе) сообщала ему ощущение всей жизни личности: и до, и во время, и после „земли“. ‹…› Он знал бессмертие раньше, чем наступила смерть»106. Здесь истоки того, считает Перцов, что Лермонтов не дорожил своим поэтическим призванием:
Пускай толпа растопчет мой венец:
Венец певца, венец терновый! ..
Пускай! я им не дорожил.
I, 384
«„Призвание“, т.е. положение в перспективах „этого“ мира, в условиях „земли“, было для него нечто столь же второстепенное, столь же „подчи-ненное“, как и остальные из этих условий. ‹…› Недаром он и „венец певца“ так некстати назвал „терновым“, т.е. придал ему определение из других „измерений“»107. В отличие от Пушкина, считает Перцов, для которого «венец мог быть только лавровым, Лермонтов всегда прислушивался только к „голосу Бога“ внутри себя и, ничем не развлекаемый извне, выносил его на свет в наибольшей, доступной людям цельности и чистоте и не думал об этой отраженной жизни — только в „заветной лире“. ‹…› Сама лира была для него лишь выражением иного „завета“». Поэтому не может представить Петр Петрович Лермонтова, в отличие от «журналиста Пушкина», «в роли редактора журнала. Это слишком „из трех измерений“»108.
Перцов размышляет над вопросом, который не приходил в голову ни одному из мыслителей того времени, писавших о поэте: «…было ли это будущее [Лермонтова], действительно, „посюсторонним“ — будущим несвершившихся литературных возможностей, или же это было уже веяние „миров иных“, простор нездешних пространств, и слишком ощущавший его, слишком тянувшийся к нему поэт, самый „мистиче-ский“ из наших поэтов, ни в чем не обманул нас и ничего не унес от нас преждевременно»109. Справедливость этого вопроса видна в контексте христианского учения о смерти, которая наступает для человека в самый подходящий для вечности момент, когда он достиг предела жизни, какой предопределен Богом для совершения уготованного ему дела. Именно так, весьма неожиданно для лермонтоведения (и старого, и нового), смотрит на смерть великого поэта профессор Свято-Троицкой семинарии (Джорданвилль, США) И. М. Андреев в своем очерке, написанном на стыке филологии, философии, психологии и богословия: «Господь сжалился над грешной душой поэта, так мучительно всю жизнь тосковавшей по небу и так безнадежно привязанной к земле, и послал ему смерть без страдания, в лучший момент его жизни, когда он перед лицом ожесточенного и злобного врага, улыбаясь, смотрел на небо и горы, приготовляясь выстрелить в воздух. Очень возможно, что, глядя с улыбкой на небо, он вновь видел в нем Бога и безмолвно молился Ему тоскующим сердцем. ‹…› Если с обыденной человеческой точки зрения смерть 26-летнего гениального поэта была трагически бессмысленна, то с религиозной точки зрения — она должна быть признана глубоко осмысленной и знаменательной»110.
В ходе своих размышлений Петр Петрович склоняется к мнению, что «„земной“ путь Лермонтова был внутренне свершен. Те обещания, которыми мерцает его поэзия, вряд ли относятся к ее „здешним“ возможностям. В „будущем“, которое в ней чуется, лежало, может быть, не столько будущее самого поэта, сколько привнесенных им с собою обетований»111. И эти обетования Перцов связывает с судьбой России, перед которой «полная религиозного трепета поэзия Лермонтова точно развертывает даль иного, зачинающегося будущего»112. В «Литературных афоризмах» эта мысль обретает законченную форму: «Стихи Пушкина — царские стихи; стихи Лермонтова — пророческие стихи. Пушкин — золотой купол Исаакия над петровской Россией, но только над ней. Не он, а Лермонтов — великое обетование»113. У Лермонтова после его кончины нашли в записной книжке, подаренной ему князем В. Ф. Одоевским, запись загадочную и на первый взгляд странную для автора «Песни о купце Калашникове…» и «Бородино», но и изумительную по устремленности в великое будущее России: «У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем. Сказывается и сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21-м году проснулся от тяжкого сна и встал и пошел… и встретил он тридцать семь королей и семьдесят богатырей и побил их и сел над ними царствовать… Такова Россия» (IV, 350). «Если, по слову Лермонтова, „Россия вся в буду-щем“, — заключает Перцов, — то сам он, больше, чем кто-нибудь, ручается за это будущее»114.
По одной из главных мыслей Перцова-критика творчество каждого писателя (шире — художника) определяется степенью воплощения своей главной идеи. Он считал, что Лермонтову это удалось во всей полноте. «Лермонтов отличается между всеми нашими поэтами, прежде всего, абсолютностью своих тем и всего духа своего творчества, — пишет Перцов. — На всей его поэзии лежит отпечаток „вечности“, и о чем бы он не писал, всегда кажется, что он вещает о потерянном рае. В этой абсолютности творчества Лермонтову уступают даже Гоголь и Достоевский. У первого эта „предельность“ тем всегда замаскирована или фан-тастически-сказочным элементом (первые повести), или маской быта; у второго же она переходит уже в явную схематичность. Один Лермонтов имел силу выдержать всю требовательность своего творчества»115.
Но «близкий к Небу», Лермонтов знал и внимательно наблюдал жизнь, замечая даже такие детали, как «полное гумно» и «резные ставни». В то же время жизнь и окружающие люди оставались для него, по проницательному замечанию Ю. Ф. Самарина, «чем-то совершенно внешним». Перцов объясняет это исключительным сочетанием знания и нелюбви и видит в нем основную трагедию поэта: «Лермонтов знал жизнь и не любил ее. Это сочетание почти никогда не встречается. Лермонтов рисовал мир с яркостью и правдивостью Пушкина, — и был внутренне чужд ей, как Гоголь. В этом заключается корень его жизненной трагедии»116. В результате, по мнению Перцова, постоянно находясь в конфликте с окружающими, Лермонтов вынужден был защищать свой внутренний мир, «целомудрие души, поглощенной всегдашним ощущеньем Абсолютного, эта полудобровольная вражда создала или помогла ему создать тоже полудобровольный уход из жизни»117. В конце статьи «Трагедия Лермонтова» вывод, сделанный Перцовым, вызывает некоторое недоумение своей парадоксальностью в духе Розанова: «Темперамент художника-наблюдателя тянул Лермонтова к людям, но любить их мешала ему основная в нем — „с Небом гордая вражда“»118. Здесь сказалось характерное для подавляющей части интеллигенции Серебряного века непонимание или неприятие основ духовной жизни. В душе человека не может сочетаться целомудрие и «вражда с Небом». «Сердце, — по определению свт. Николая Сербского, — это средоточие души»119, и, значит, целомудрие души — это чистота сердца. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф 5:8). Современник Перцова, священник Павел Флоренский писал в своей диссертации «Столп и утверждение истины»: «Сердце — это очаг духовной жизни нашей, и одухотвориться — это значит не иное что, как „уцеломудрить“ свое сердце»120.
И тут надо сказать об истоках весьма распространенного представления о «богоборчестве» Лермонтова, как правило, подкрепляемого указанной Перцовым цитатой из VI редакции «Демона». В канонической (последней) VIII редакции поэмы Лермонтов исключает эту фразу, словно предчувствуя, что она впоследствии станет главной в обвинении его в богоборчестве и даже в атеизме (советская критика). А вот в каком контексте эта фраза присутствует в VI редакции: автор, описывая «странную» улыбку (только улыбку!) мертвой Тамары, пытается понять ее смысл, признавая в конце концов, что значенье ее для живущих уже утрачено:
…Но темен, как сама могила, Печальный смысл улыбки той: Что в ней? Насмешка ль над судьбой, Непобедимое ль сомненье?
Иль к жизни хладное презренье?
Иль с небом гордая вражда?
Как знать? для света навсегда
Утрачено ее значенье!
Она невольно манит взор,
Как древней надписи узор,
Где, может быть, под буквой странной
Таится повесть прежних лет,
Символ премудрости туманной,
Глубоких дум забытый след…
VI ред. II, 519 (курсив мой. — С. Т. )
Началось все с В. Г. Белинского, упомянувшего эту фразу в письме к В. П. Боткину от 17 марта 1842 года. «Неистовый» критик был знаком с поэмой в VI редакции, получившей распространение в списках. VIII (каноническая) редакция, где этих слов нет, опубликована только в 1856 году в Германии, когда Белинского уже не было в живых. «Лермонтов далеко уступит Пушкину в художественности и виртуозности, в стихе музыкальном и упруго-гибком, — пишет Белинский, — ‹…› но содержание, добытое со дна глубочайшей и могущественнейшей натуры, исполинский взмах, демонский полет — с небом гордая вражда — все это заставляет думать, что мы лишились в Лермонтове поэта, который, по содержанию, шагнул бы дальше Пушкина…»121 Как видим, Белинский приводит слова без кавычек и выделяет их, подчеркивая тем самым богоборческую суть творчества и личности поэта и прямо искажая смысл, заложенный Лермонтовым в описании улыбки Тамары. (Справедливости ради надо отметить, что атеист Белинский видел в поэме не столько мистический, сколько социальный аспект.) Против такой трактовки, прямолинейно отождествляющей мировоззрение Лермонтова с сущностью Демона, категорически выступал в своих лекциях профессор И. М. Андреев122, приводя в пример и эту фразу из VI редакции, взятой на вооружение левой критикой. В наши дни духовный писатель и лермонтовед монах Лазарь (Афанасьев) отмечал, что атеистическое мировоззрение, как правило, уводит исследователя на ложные пути в постижении творений Лермонтова, в результате происходит искажение и образа поэта: «…на Лермонтова много клеветали, — нет числа „трудам“ литературоведов и даже философов, где поэт отождествляется с Демоном. Ему беззастенчиво приписывали (вплоть до изданной дважды „Лермонтовской энцикло-педии“) речи персонажей его произведений (отовсюду — из „Вадима“, из „Героя нашего времени“, из всех его поэм). ‹…› Я не называю имен исследователей, а там есть весьма известные…»123 Удивительно также и то, что эту фразу в том контексте, в каком она приведена у радикально настроенного лидера либеральной критики, взяли для толкования лермонтовского «богоборчества» некоторые критики Серебряного века, всей своей деятельностью боровшиеся с позитивизмом. Остается только воскликнуть вслед за поэтом: «Увы! злой дух торжествовал!» (II, 398). Перцов, отличавшийся незаурядным философским умом, сумел преодолеть это противоречие и пришел в итоговой работе «Литературные афоризмы» к другому заключению, отметив, что в Лермонтове «боролись ангельское и демонское начала с преобладанием первого»124.
Для Перцова Лермонтов олицетворяет новозаветное начало («настоящая гармония Божественного и человеческого — момент совершенств а, ‹…› отношение к Богу — отношение сына к Отцу»), в то время как Гоголь — ветхозаветное («еще природный человек, — в вечном смятении перед Богом, как ветхозаветный иудей»), а Толстой — апостасийное («соблазн Толстого — „лаодикийский“, космический соблазн. ‹…› „Неверие во Христа пришедшего“ — признак, по которому ап. Иоанн указал нам отличать дух антихристов, определенно характеризует Толсто-го»)125. В «Литературных афоризмах» в VI разделе «Лев Толстой» Перцов отмечает, что «явление Антихриста, очевидно, более всего угрожает нам — в связи, вероятно, с „гуманитарными“, толстовскими элементами русской души», и заканчивает такими словами: «Борьба между духом Лермонтова и духом Толстого — вот ожидающая нас наша религиозная борьба»126.
В статье «Будущий Лермонтов», написанной к 75-летию гибели Лермонтова, Перцов размышлял о возможных путях дальнейшей эволюции творчества поэта. Здесь есть существенные отличия от трактовки образа поэта в предыдущих статьях. Так, тема «замаскированного самоубийства» заменена темой «безвременной гибели великой нашей надежды». (Отметим, что в «Литературных афоризмах» прежняя тема опять присутствует.)
Кроме того, появляется новый тезис о «глубоком душевном кризисе», переживаемом поэтом в последние месяцы жизни, во многом напоминающем подобный кризис, пережитый ближайшим духовным наследником Лермонтова — Львом Толстым. Перцов предполагает, что этот кризис привел бы «величайшего из русских индивидуалистов к возможной внутренней метаморфозе. Сущность этого кризиса может быть выражена именно как выход из заколдованного круга, единой, собственной личности, приятие в себя внешнего множественного мира. Борьба единства и множества — так может быть охарактеризован тот мучительный психологический процесс, который… сделал из автора „Детства, отрочества и юности“ (моего детства, моего отрочества, моей юности) автора „Войны и мира“ и „Анны Карениной“. В лабиринт того же самого процесса уже начал вступать автор „Демона“ и Печорина»127.
Если раньше Перцов рассматривал Лермонтова преимущественно как поэта, близкого к Небу, всем своим творчеством вещающего о потерянной небесной отчизне, даже будущее которого виделось критику в «просторе нездешних пространств», то теперь он говорит о будущем «несвершившихся литературных возможностей» Лермонтова, находившегося в последний период своей жизни на «переломе от романтизма к реализму, к многосложным картинам окружающего мира»: «В Лермонтове в последние годы, даже месяцы его жизни, все яснее сказывался объективный художник, которого от портрета лирического пейзажа начинало тянуть к пейзажу реальному и наконец просто к жанру. Творец Печорина, уже нарисовавший Максима Максимыча и доктора Вернера, не говоря о женских типах, должен был в дальнейшем все более заинтересоваться всем психологическим разнообразием „внешней“ среды»128.
В результате своих размышлений Перцов приходит к убеждению, что «будущего Лермонтова, которого унесла от нас вечно печальная и вечно проклятая дуэль, нужно представлять более прозаиком, нежели поэтом. [На это указывают] ранний переход Лермонтова к прозе и то совершенство, с каким он сразу овладел этой формой. ‹…› К своим 26-ти годам он уже написал страницы русской прозы, которые, несмотря на такое соперничество раньше и позже, остались непревзойденными („Тамань“). В том же возрасте (к 1825 году) Пушкин не только не написал еще большого романа, но даже почти и не пробовал себя как прозаик»129.
Останавливаясь на задуманном поэтом цикле романов из эпохи Екатерины II и Александра I, о чем Лермонтов говорил Глебову перед дуэлью, Перцов пишет, что «так легко представить себе интерес Лермонтова к Потемкину и ко всему блестящему веку Екатерины и ее „орлов“…
В русской литературе осталась бы чудесная эпопея той эпохи чудес, какую уже не могли и даже не пытались создать позднейшие, гораздо более „штатские“ и далекие от первоначального кипения творчества писатели. Лермонтов был последним, над кем горела эта заря героизма в нашей литературе130, и из-под его золотого пера могли родиться страницы такого родного эпоса, который мы в праве были бы назвать нашей „Илиадой“»131.
Петр Петрович уверен, что Лермонтов был способен отразить «многообразную картину объективного мира, которая требует для себя „ох-лажденных“ и сложных приемов прозаической речи»132. Сама поэзия Лермонтова, по проницательному наблюдению историка литературы русского зарубежья П. М. Бицилли, «насыщена элементом, почитаемым принадлежностью прозы, — интеллектуализмом. Это — поэзия человека, которому мало чувствовать, созерцать, переживать, который желает понимать, объяснять, определять. ‹…› Его словарь изобилует философскими терминами, „научными“ словами и выражениями»133. Философ В. Ф. Асмус, высоко ценивший творчество Лермонтова, подчеркивал в нем именно философскую составляющую: «Лермонтов — поэт глубокой, напряженной и страстной мысли. Мысль эта — самый важный, наиболее четко сформулированный и продуманный тезис его философских размышлений. ‹…› Формулы, в какие отливается эта мысль, поражают своей силой, законченностью, сконцентрированной в ней потенциальной философской значительностью. ‹…› Вместе с Лермонтовым преждевременно погиб ум огромной потенциальной философской силы и первоклассный в потенции эстетик»134.
По мнению Перцова, в житейских чертах реального пейзажа в «Родине» «уже совсем просвечивает Некрасов». Конечно, это всего лишь мимолетное замечание, по которому нельзя предположить, что Перцов «поэта мысли» Лермонтова «отправил» по пути Некрасова. Большинство мыслителей (В. В. Розанов, Вяч. Иванов, А. Ф. Лосев,
Вл. Ильин, С. Н. Дурылин… etc.) видели в Лермонтове «будущего Досто-евского»135. Дурылин при этом делает оговорку: «„Достоевский“ в Лермонтове, живи [он] до 40 лет, был бы целостней, прекрасней, совершеннее того Д[остоевско]го, который жил отдельно в 60–70-е гг.»136. Перцов присоединял имя «будущего» Лермонтова к группе прозаиков: Достоевский, Толстой, Гончаров, Тургенев, но видел в нем скорее Льва Толстого, считая, что он «отчасти осуществил предполагаемую мечту Лермонтова, создав эпопею 1805–1812 гг.»137. Петр Петрович был уверен, что будущий Лермонтов, оставив окончательно демоническую тему, «разворачивал бы карандашные силуэты „Героя нашего времени“ в богатую галерею масляной живописи»138.
Розанов, всегда внимательно следивший за публикациями Перцова, почти мгновенно откликается на статью «Будущий Лермонтов» небольшим эссе «О Лермонтове»139, которое воспринимается как восторженный гимн поэту140. Заметив, что «Перцов пишет хорошо, но недостаточно», Розанов вступает с ним в полемику, предлагая свое в и дение «будущего Лермонтова- поэта «духовным вождем народа», который сочетает в себе непрестанную молитву и созерцательность, отшельничество и безмолвие, аскетизм и высокий поэтический дар и творит в высоких библейских традициях, создавая «Священную книгу России». Поэтому смерть такого несвершившегося духовного вождя воспринимается Розановым как сакральная трагедия для Отечества: «Час смерти Лермонтова — сиротство России »141 . Но, плача о Лермонтове, Розанов предлагает «простить общею русскою душою „несчастного Мартынова“. Ведь он нес в душе 40 лет сознание „быть Каином около Авеля“. Бедный, бедный Мартынов! „Миша“ ему бесспорно простил…»142
Петра Петровича возмутил призыв Розанова к прощению Мартынова, и он публикует свой резкий ответ в рубрике «Маленький фельетон». «Если состоится такое прощение, — пишет Перцов, — то прошу меня исключить из „общей души“. Я предпочитаю лучше остаться бездушным, нежели малодушным. А такое „отпущение“ было бы именно проявлением коллективного слабодушия, к сожалению особенно свойственного нам, русским. ‹…› Мне эти вселенские объятия кажутся слишком широкими. ‹…› Если действительно никто не виноват и все правы, то не о чем и толковать, а остается только целоваться налево и направо»143.
Перцов сравнивает убийц наших гениев и приходит к выводу, что «попытку защитить д’Антеса можно понять ‹…› Что „не мог щадить он нашей славы“ — это тоже довольно извинительно, если припомнить, что убийца Пушкина вряд ли мог и читать по-русски, разве по скла-дам…»144. Но Мартынов, по мнению Перцова, не имеет никаких оправданий: «Повод для дуэли был пустой; Мартынов не только был грамотен по-русски, но даже сам пописывал какие-то a la Лермонтов „разочаро-ванные“ стишки. ‹…› Для меня отвратителен этот самодовольный, напыщенный собою и ограниченный офицерик, этот настоящий „медный лоб“, который, не умея ответить остроумно на шутку приятеля, тащит его к барьеру и здесь поспешно „палит“ в него с очевидным прицелом, с очевидным желанием „всадить пулю“. Ведь никто не мешал ему взять на вершок в сторону. Говорят, Мартынов не умел стрелять; но целиться он, к сожалению, прекрасно умел. Допустимо, что он не хотел убить Лермонтова, но ранить его он хотел несомненно»145.
Петр Петрович отмечает, что, судя по поведению Мартынова, никакого раскаяния у него не было: «„Montagnard au grand poignard“146 вряд ли был органически способен понять, что он совершил. Но под старость пришлось снять длинную черкеску и „большой кинжал“, — осталась зато какая-то тень таинственности — „запирается в день дуэли“…»147 В конце статьи сарказм сменяется горьким сожалением о незаменимой потере: «Нет, как вспомнишь роковую минуту у подножия Машука, когда одно легкое движение руки могло все сохранить для нас и навсегда… Одно только легкое отклонение вправо!.. Но — „Пустое сердце бьется ровно, / В руке не дрогнет пистолет…“ Нет, я не хочу обниматься с Мартыновым!..»148
Этой статьей заканчивается лермонтовский цикл Перцова, который до сего дня ждет своего издателя и своих читателей, способных оценить глубину самобытной мысли талантливого критика и ясность его афористического стиля.
В концепции Перцова просматриваются две тенденции: первая нашла отражение в статьях 1909–1914 годов и синтезирована в «Литературных афоризмах»; в ней доминирует образ Лермонтова как поэта Воскресения, самого религиозного русского писателя, на пасхальной поэзии которого лежит отпечаток вечности. Его земной путь закончился «замаскированным самоубийством», оттого что «был внутренне свершен». Поэт принес России «великие обетования» зачинающегося будущего. Вторая тенденция представлена в статье «„Будущий“ Лермонтов» (1916), где преобладает мотив «безвременной гибели» и «несвершившихся литературных возможностей» Лермонтова- прозаика, способного создавать эпические произведения гомеровского типа, поскольку он был «последним, над кем горела заря героизма в нашей литературе».
Перцов писал Розанову в 1915 году: «Писатели „нашего“ лагеря никогда и никак не издаются и, печатаясь (распыляясь) по газетам etc., в конце концов затеривается и на ½ пропадают для читателя. ‹…› У меня накопилось, наверное, на том, а то 2 чисто литерат<урных> статей, к<о-то>рые очень бы недурно издать. Но я и подумать не могу…»149 Не мог он подумать в то время и о том, до какой степени будут неугодны «писатели „нашего“ лагеря» новой власти, воцарившейся в России в 1917 году. Жил Петр Петрович в Костромской губернии, в крайней нужде, бывая в Москве лишь наездами, печатали его мало. Из дневниковой записи Ду-рылина (1926) видна вся бедственность его положения: «Я очень люблю Перцова. Он напоминает мне В. В-ча [Розанова]: такой же маленький, седенький… Он читал о раннем символизме. Стоит у стенки. Кругом все чужие, — и его „были“: „Философские течения“, „Новый путь“, „Мир искусства“ — им „баснословье“, — и скучное баснословье. Прочел два доклада о русском символизме, и так как не „научный сотрудник“, то ничего не заплатили. А есть нечего. Из имущества — только архив, где письма всего „русского символизма“ и 700 — Василия Васильевича! Но это никому не нужно: за все в Румянцевском Музее дают 200 р. — по… гривеннику за письмо!.. Подал в КУБУ просьбу о пенсии. Требуют на рассмотрение его „Историю искусств“ (рукопись). Он беспомощен»150.
В 1920–1940-х годах Перцов работает в основном над «Историей русской живописи», «Литературными афоризмами» и философским трудом «Основания космономии». Все эти работы изданы не были. Увидели свет только «Литературные воспоминания. 1890–1902 гг.» (1933), «Ранний Блок» (1922), переписка с Брюсовым (1926–1927) и несколько художественных путеводителей (1921–1925).
Огромной поддержкой для Перцова в этот тяжелый период (1930– 1947) была дружба с Дурылиным, который полностью оправдал характеристику, данную ему Розановым в последнем письме к Перцову: «Дурылин — на редкость человек»151. Деликатный Сергей Николаевич помогает ему материально, но так, чтобы не задеть его достоинство, помня, что Петр Петрович воспитан в дворянских традициях. Дурылин покупает часть его богатейшей библиотеки (но, оплатив покупку, оставляет книги у Петра Петровича) и письма Розанова (заплатив гораздо больше, чем Перцову предлагал Румянцевский музей), помогает с публикациями статей, с успехом хлопочет о назначении пенсии: «Вчера я был у Мих<аила> Вас<ильевича>…: — в „Цекубу“ дело Ваше решено, — Вам назначена пенсия в размере 100 руб. в месяц, и с 1-го мая Вы можете ее получать“. ‹…› Славлю это 1-е мая от души!»152.
«Отсутствие возможности сколько-нибудь сосредоточенной работы», жестокая материальная нужда, «звериное одиночество» вызывают у Петра Петровича приступы уныния и тоски, о чем он пишет своему «сомыслящему» другу. Дурылин в ответ находит слова любви и утешения: «…пока я жив, не хочу, чтобы Вы думали, что Вы — в пустыне. Мы с Вами последние из тех, кто мыслью и мечтою, идущей еще от Хомякова и Киреевского, — и пока мы любим друг друга (а это есть и это будет ), — ни Вы, старый друг, ни я, младший Ваш сверстник, не можем, не должны говорить, что „я — один в пустыне“. Да, в пустыне, но не один, а вдвоем и даже втроем (я не отделяю себя от Ирины, а мои друзья — это ее друзья), а там, где собраны вместе любовью, Вы знаете, Кто обещал быть „посреди их“»153. После смерти П. П. Перцова (19 мая 1947 года) по инициативе Сергея Николаевича Дурылина был подготовлен некролог и направлен в «Литературную газету», но публикация его была отклонена.
Список литературы Личность и творчество М.Ю. Лермонтова в восприятии П.П. Перцова
- Андреевский С. А. Лермонтов. Характеристика//Философские течения русской поэзии. Избранные стихотворения и критические статьи/сост. П. Перцов. СПб.: Типография М. Меркушева, 1896. С. 131-150.
- Андреев И. М., проф. М. Ю. Лермонтов. Основные особенности личностии творчества гениального поэта//Русские писатели XIX века: очерки по истории русской литературы. М.: Изд. Дом «Русский паломник», 2009. С. 109-206.
- Лазарь (Афанасьев), мон. На высотах духа. Горы в сочинениях М. Ю. Лермонтова: этюд//Лермонтов и православие: сб. статей о творчестве М. Ю. Лермонтова. М.: Изд. дом «К единству», 2010. С. 280-290.
- Архипов В. А. М. Ю. Лермонтов. Поэзия познания и действия. М.; Л.: Наука,1965. 664 с.
- Асмус В. Ф. Круг идей Лермонтова//М. Ю. Лермонтов/АН СССР. ИРЛИ(Пушкин. Дом). М.: Изд-во АН СССР, 1941. Кн. I. С. 83-128. (Лит. наследство. Т. 43/44).
- Белинский В. Г. Письмо Боткину В. П., 17 марта 1842 г. Петербург//Он же.М. Ю. Лермонтов: Статьи и рецензии. Л.: Гослитиздат, 1941. С. 238.
- Бицилли П. Место Лермонтова в истории русской поэзии//Избран-ные труды по филологии/сост., подгот. текст. и коммент. В. М. Вомперского,И. В. Анненковой. М.: Наследие, 1996. С. 456-478.
- Бухштаб Б. Я. «Благодарность»//Лит. наследство. Т. 58. М.: Изд-во АНСССР, 1952. С. 406-410.
- Висковатов П. А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. М.: Современник, 1987. 494 с. (Сер. «Б-ка любителей российской словесности»).
- Воспоминатели мгновений: переписка и взаимные рецензии ВасилияРозанова и Петра Перцова. 1911-1916/изд. подгот. Андрей Дмитриев и Андрей Федоров. СПб.: ООО «Изд-во „Росток“», 2015. 447 с.
- Горланов Г.Е «Благодарность» Лермонтова и Православие//«Люблю от-чизну я…» Пенза, 2012. С. 117-127.
- Дунаев М. М. Михаил Юрьевич Лермонтов(1814-1841)//Православиеи русская литература. М.: Христианская литература, 2001. Ч. 2. С. 312-386.
- Дурылин С. Н. В своем углу/сост. и прим. В. Н. Тороповой; предисл.Г. Е. Померанцевой. М.: Молодая гвардия, 2006. 879 с. (Б-ка мемуаров «Близкоепрошлое». Вып. 21).
- Константин (Зайцев), архим. Лермонтов (1814-1841)//Чудо русской исто-рии. М.: НТЦ Форум, 2000. С. 719-720.
- Ильин В. Н. М. Ю. Лермонтов//Арфа Давида: религиозно-философскиемотивы русской литературы. СПб.: Русский мирь, 2009. С. 76-90.
- Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: в 4 т. М.: Наука, 1979-1981.
- Нестор (Кумыш), игум. Тайна Лермонтова. СПб.: СПб ГУ, 2011. 544 с.
- Лавров А. В. П. П. Перцов//Русские писатели. 1800-1917: биогр. словарь/гл. ред.П. А. Николаев. Т. 4 (М-П). М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. С. 561-565.
- М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1989.672 с. (Литературные мемуары).
- Максимов Д. Е. Поэзия Лермонтова/АН СССР. М.; Л.: Наука. 1964. 266 с.
- Мартьянов П. К. Дела и люди века: Отрывки из старой записной книжки,статьи и заметки: в 3 т. Т. 2. СПб.: Тип. Р. Р. Голике, 1893-1896. 375 с.
- Мережковский Д. С. М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества//М. Ю. Лер-монтов: pro et contra: Личность и творчество Михаила Лермонтова в оценкерусских мыслителей и исследователей: антология. СПб.: Изд-во РХГИ, 2002.С. 348-387. («Русский путь»).
- Николюкин А. Н. Розанов. М.: Мол. гвардия, 2001. 512 с. («Жизнь замеча-тельных людей». Вып. 788).
- Перцов П. «Будущий» Лермонтов: (К 75-летию со дня смерти)//Новоевремя. 1916. 15 (28) июля. № 14496. С. 4.
- Перцов П. П. Воспоминания о В. В. Розанове/публ. В. Сукача//Новыймир. 1998. № 10.
- Перцов П. Гр. А. К. Толстой//Философские течения в русской поэзии/сост.П. Перцов. СПб.: М. Меркушев, 1896. С. 209-230.
- Перцов П. Гр. А. А. Голенищев-Кутузов//Философские течения в русскойпоэзии/сост. П. Перцов. 2-е изд. СПб.: М. Меркушев, 1899. С. 363-378.
- Перцов П. Годовщина Лермонтова (1841-1911)//Новое время. 1911. 15 (28)июля. № 12693. С. 2.
- Перцов П. Загадка будущего:(Столетие со дня рождения Лермонто-ва)//Голос Москвы. 1914. 2 окт. № 226. С. 1
- Перцов П.«Загадка» Лермонтова//Новое время.1909.15(28) июля.№ 11975. С. 3.
- Перцов П. Литературные воспоминания.1890-1902 гг./предисл.Б. Ф. Поршнева. М.; Л.: Academia, 1933. 322 с.
- Перцов П. Литературное крохоборство//Новое время. 1915. 3 (16) окт.№ 14212. С. 11-12.
- Перцов П. Нечто о Лермонтове//Новое время: ил. прил. 1914. 11 (24) окт.№ 13859. С. 333.
- Перцов П. Н. П. Огарев//Философские течения в русской поэзии/сост.П. Перцов. СПб.: М. Меркушев, 1896. С. 161-171.
- Перцов П. Прощать ли Мартынова?//Новое время. 1916. 1 (14) авг. № 14513.С. 3.
- Перцов П. Трагедия Лермонтова//Новое время: ил. прил. 1914. 18 (31) окт.№ 13860. С. 337.
- Перцов П. П. Литературные афоризмы//Российский архив. История От-ечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв.: альманах. М.: Студия ТРИТЭ: Рос. архив, 1994. С. 212-236.
- Перцов П. П. «Судьба» Пушкина//1900 год в неизвестной переписке, статьях, рассказах и юморесках Василия Розанова, Ивана Романова-Рцы и Петра Перцова/сост. А. П. Дмитриева; изд. подгот. А. П. Дмитриева и Д. А. Федорова.СПб.: ООО «Родник», 2014. С. 240-242.
- Ратников К. В. Степан Петрович Шевырев и русские литераторы XIX века. Челябинск:Околица, 2007. Ч. 2. С. 40-61.
- Резниченко А. И. П. П. Перцов: морфология недостроенной системы (1897-1947)//Она же. О смыслах имен: Булгаков, Лосев, Флоренский, Франк et diiminores. М.: Изд. дом РЕГНУМ, 2012. С. 253-300.
- Резниченко Анна. Сергей Дурылин: проекты и наброски (к реконструкции ландшафта)//Сергей Дурылин и его время: Исследования. Тексты. Библиография. Кн. I: Исследования/сост., ред., предисл. Анны Резниченко. М.: МодестКолеров, 2010. С. 463-487.
- Розанов В. В. «Вечно печальная дуэль»//Собрание сочинений. Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях/под общ. ред. А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1996.С. 287-299.
- Розанов В. В. В чем главный недостаток «наследства 60-70-х годов»//Со-брание сочинений. Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях/под общ. ред. А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1996. С. 168-178.
- Розанов В. В. О Лермонтове//Новое время. 1916. 18 (31) июля. № 14499. С. 4-5.
- Розанов В. В. С. А. Андреевский как критик//Новое время. 1903. 27сент. (10 окт.) № 9901. С. 2.
- Розанов -Перцову 17 сентября 1918 г. Сергиев Посад//Литературная учеба. 1990. № 1. С. 81.
- Розанов В. В. Уединенное/сост., вступ. ст. и коммент. А. Н. Николюкина. М.: Политиздат, 1990. 543 с. (Мыслители XX века).
- Сахарова О. В. Стихотворение М. Ю. Лермонтова«Благодарность» в кон-тексте святоотеческой молитвенной традиции//Собор. Альманах религиоведения: светские и религиозные семейные ценности в контексте истории и современности. Вып. 11. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2013. С. 105-109.
- Семенов Л. П. М. Ю. Лермонтов: Статьи и заметки//Лермонтовский текст:Ставропольские исследователи о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова: Антология: в 2 т./под ред. проф. В. А. Шаповалова, проф. К. Э. Штайн. Ставрополь:Изд-во СГУ, 2007. Т. 1. С. 151-157.
- Николай Сербский, свт. Толкование заповедей блаженства/пер. Н. Феофа-новой. Клин: Христианская жизнь, 2011. 50 с.
- Сиротин В. И. Лермонтов и христианство//Лермонтов и православие: сб. статей о творчестве М. Ю. Лермонтова. М.: Изд. Дом «К единству», 2010.С. 184-233