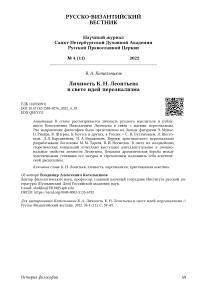Личность К. Н. Леонтьева в свете идей персонализма
Автор: Котельников Владимир Алексеевич
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 4 (11), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается личность русского мыслителя и публициста Константина Николаевича Леонтьева в связи с идеями персонализма. Это направление философии было представлено на Западе фигурами Э. Мунье, П. Рикёра, В. Штерна, Б. Коутса и других, в России - С. Н. Булгаковым, Л. Шестовым, Л. П. Карсавиным, Н. А. Бердяевым. Версию христианского персонализма разрабатывали богословы М. М. Тареев, В. И. Несмелов. В свете их позднейших теоретических концепций отчетливо выступают интеллектуальные и эмоциональные свойства личности Леонтьева. Показана драматическая борьба между чувственными стихиями его натуры и стремлением подчинить себя аскетической дисциплине.
К. н. леонтьев, личность, персонализм, христианская аскетика
Короткий адрес: https://sciup.org/140297550
IDR: 140297550 | УДК: 1(470)(091) | DOI: 10.47132/2588-0276_2022_4_59
Текст научной статьи Личность К. Н. Леонтьева в свете идей персонализма
Как самостоятельное философское направление персонализм сложился к концу XIX в. вокруг тезиса о первичной духовной субстанции, являющейся творческим началом бытия и имеющей личностную форму, — в Верховной своей ипостаси и в человеке как «образе и подобии» ее. Получившая у персоналистов углубленную теоретическую разработку, тема личности, разумеется, и ранее присутствовала у многих мыслителей, начиная с Сократа, проблематизировавшего личные γνῶσις и ἦθος, со стоиков, блж. Августина — до personalites у Фомы Аквината, до учения Г. В. Лейбница о монадах как духовных субстанциях, обладающих энергией и гармонизированных с Богом, до Б. Паскаля, И. Канта, выделявшего Personalität и Persönlichkeit в их особой качественности, до С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра, Г. Лотце, Г. Тейхмюллера и других. Давно, еще в 1799 г. Ф. Шлейермахером был введен и сам термин Personalismus, номинирующий совокупность идей о личности в его работе «Über die Religion — Reden an die Gebildeten unter ihren Verähtern»».
Существенно различие в антропологическом плане между личностью и индивидуумом. Индивидуум есть самодостаточный в своих природных и социальных свойствах субъект познания и деятельности, он определяется через объекты его активности и через сходства и отличия его в отношении других субъектов. Личность автономно возрастает на основе индивидуальности в ходе уникального свободного развития умственных, нравственных, волевых начал в направлении усматриваемых ею целей. Личность не завершена в себе, и она не пребывает равной себе во времени. Акты самопознания личности, необходимо внося в нее Иное, меняют ее содержание и положение в мире. Индивидуум функционален, личность телеологична. Индивидуум анонимен, личность имеет имя собственное.
Персоналистская тенденция философствования отчетливо обозначилась уже в 1880-е гг. в России («панпсихизм» А. А. Козлова) и в 1900-е гг. в Северной Америке (Б. П. Боун). В первой трети ХХ столетия в Европе и в США продолжалось ее развитие и распространение в работах М.-Г. Недонселя, Э. Мунье, П. Рикёра, В. Штерна, Б. Коутса, У. Э. Хокинга, Р. Т. Флюэллинга, Э. Ш. Брайтмена и других. В России последователем Козлова выступил Е. А. Бобров, затем названная тенденция, в разных ее версиях, проявилась у Н. О. Лосского, Л. М. Лопатина, С. А. Алексеева (Аскольдова), С. Н. Булгакова, Л. Шестова, Л. П. Карсавина1 и — с рискованной в своих крайностях постановкой темы свободы — у Н. А. Бердяева. Русский персонализм был теистичен в своей основе. Таков же он был во Франции у Мунье, который считал христианское учение о личности радикальным переворотом в истории человечества, приведшим к сопряжению человеческой активности с Богом. Но для этого личность должна вернуться к себе, чтобы сосредоточиться на безусловно ценном в себе и начать жить с нового самоовладения2. Путь, исполненный трагизма, ибо существование на этом пути продолжается ценой потерь, и в конце концов личность, лишившись всего, что имела в себе и у себя, подлинно обладает только тем, что остается ей в час смерти3. Признавая неизбежной в той или иной мере социализацию личности, Мунье вместе с тем требует отказа от навязанного ей несвободного положения в социуме, «ломки связей», и проектирует некое «общество личностей», подобное христианской общине, прецедентом чего считает средневековую общину, противополагаемую им современной цивилизации.
На рубеже XIX и XX вв. в русском академическом богословии наметился интерес к проблеме личности. В. И. Несмелов4 и М. М. Тареев, отправляясь от святоотеческого учения о человеке, продвинулись к современной трактовке человека как природного, общественного и духовного существа, которую можно назвать развернутой версией христианского персонализма. В основании его у Тареева лежат следующие положения: «В царстве Божием требования абсолютны, и реализованы они могут быть только в абсолютных ценностях, а такими ценностями могут быть только человеческие личности. Поэтому Царствие Божие не приходит приметным образом»5; христианин «не смотрит на себя как на одного из многих, общественно, народно, условно, но он ставит себя в единственные интимные отношения к Богу»6. В ряде трудов, и определеннее всего — в «Основах христианства», Тареев эти положения развертывает и обосновывает: «Христианство есть дело личности», и осуществиться это дело может «лишь в глубине свободного духа», для чего личность должна быть отпущена на свободу как в своей естественно-природной и общественной, так и в духовно-творческой жизни. Необходимое условие — достижение человеком полной «моральной автономии». Именно личность, освобождаясь «от образов и символов» застывающего в своих исторических формах культа, должна взять на себя всю ответственность за решение «христианской проблемы». При том Тареев признавал, что с таким решением сопряжен большой риск, опасность религиозного и жизненного срыва, поэтому он и говорил о «благородном трагизме» личности в подобной ситуации. Но, утверждал он, без личной религиозно-нравственной инициативы цели христианства не достижимы — ни на земных его путях, ни в эсхатологической перспективе.
Тареев не предполагал тотального осуществления христианских идеалов и весьма скептически смотрел на возможность преображения тварной природы всего человечества. Поэтому он допускал, что истинное христианство к концу веков, может быть, будет очень незначительно по числу верующих. Задумывавшийся о том же еще в 1890-е гг. и продлевавший такое предвидение за пределы земного пребывания христиан, Несмелов пришел к весьма безотрадному заключению, удачно использовав физиологическое уподобление. «Но как в этом мире иногда рождаются люди, по своему физическому развитию совершенно неспособные к жизни и потому вскоре же после своего рождения умирающие, так и в будущем мире воскресения, по христианскому учению, могут являться такие же неспособные люди, которых не примет новая светоносная жизнь и которые умрут вскоре же после своего воскресения второю и последнею смертью. Эти люди не уничтожатся, а только умрут для новой жизни, потому что они исключительно приспособили себя к условиям жизни только в пределах наличного мира»7. Несмелов очень метко называет таких людей в их отношении к миру будущей жизни «недоношенными»8, что отсылает к чрезвычайно глубокому по религиозно-метафизической мысли стихотворению Е. А. Боратынского «Недоносок» (1835).
На этом фоне в высшей степени знаменательна личность К. Н. Леонтьева9. Ее психический склад, религиозный и экзистенциальный опыт, отрефлектированный «несчастным сознанием» (С. Кьеркегор), — если взять их в их характерных выражениях — при всей вариативности в человечестве, как раз представляют собой ту антропологическую реальность, на которой базируется указанное направление философской мысли. Такой «неузнанный феномен» (как именовал Леонтьева В. В. Розанов) был, вне и сверх биографической конкретности Леонтьева, опознан в его личностном содержании и на теоретическом языке описан персоналистами.
Переменившее жизнь Леонтьева событие, которое произошло с ним в июле 1871 г., — это « страстное обращение к личному Православию»10, так он называет его в письме к Розанову от 13–14 августа 1891 г.11 Подчеркнуты два слова: «страстное» и «личному», акцентированы два важных для Леонтьева момента в событии. Особая важность их, при его обыкновении говорить о подобных вещах искренне и точно, не подлежит сомнению. «Страстное» — значит возбудившее всю интимно-эмоциональную сферу его личности, направившее его волю и помыслы к исключительному предмету страсти. В те минуты сказался темперамент Леонтьева, не однажды обнаруживавший «безу-держ» в его чувственных и умственных увлечениях. Но что значит «личное» Православие, когда Леонтьев говорит о бессмертии? Это значит, что Леонтьев не только принял догмат «верующим умом», но тогда уже начал переживать свое «собственное личное бессмертие» (12. Кн. 3. С. 178), принимал свое православие . Веровавший в христианское воскресение вообще, он теперь преднаходил себя бессмертным для жизни будущего века. По терминологии персоналиста Мунье, он «вернулся к себе, чтобы сосредоточиться на безусловно ценном в себе и начать жить с нового самоовладения»12.
Но происходило не только вхождение в себя с радикальной переработкой собственного чувственного и умственного опыта — происходил своего рода «захват»13 и ин-териоризация общего религиозно-нравственного пространства. Леонтьев присваивал и эгоцентрически замыкал в себе христианство, как бы притязая на некий личный культ14. Именно так можно понимать его утверждение в письме к Розанову от 13 апреля 1891 г.: «Христианство личное есть прежде всего трансцендентный (не земной, загробный) эгоизм . <…> „Страх Божий“ (за себя, за свою вечность ) — „есть начало Премудро-сти“ — религиозной » (12. Кн. 3. С. 94). О том же говорит и прот. Георгий Флоровский: «Для Леонтьева христианство было только якорем личного спасения , он сам старался сжать всю свою религиозную психологию в рамки „ трансцендентного эгоизма “»15. Однако пресловутый «эгоизм» Леонтьева отнюдь не противопоставлялся личным исповеданиям других верующих, и это также не было отрицание православной соборности (впрочем, о ней он вовсе не упоминает) — это резко заявленное стремление самому, лично отвечать за свою «трансцендентную», посмертную участь, не нарушая, конечно, установлений Церкви. И, тем самым, — в себе решать главные вопросы христианства, на что указывал и наш персоналист Тареев, утверждавший, что все христианство есть «дело личности», и она не должна считать себя в этом деле одной из неразличимого множества, но должна встать в единственные интимные отношения к Богу.
Еще в 1872 г. во втором из «Четырех писем с Афона» Леонтьев, непосредственно наблюдая и обдумывая аскетическое подвижничество в киновиях, указывал на решающее значение в нем «величайшей дисциплины», даже страха как «несокрушимой идеальной узды»: «В страхе христианском если и есть эгоизм, т. е. забота о загробном спасении души при разочаровании во всем земном и непрочном , то называть этого рода заботу эгоизмом (как выдумали многие и не из крайних просветите лей нынешнего человечества) — бы ло бы уж слишком недобросовестной натяжкой!

К. Н. Леонтьев. Гравюра Б. Пуца и Ю. Шюбелера с рис. Ф. Тегаццо, 1879 г.
(с фотографии К. И. Бергамаско, Петербург, 1869 г.)
Положим, думать о загробном спасении — эгоизм; — но благодаря этому воздушному, туманному, отдаленному и неосязательному эгоизму от скольких движений эгоизма грубого, земного, ежедневного освобождается хороший христианин!» (7. Кн. 1. С. 140).
Но в нем самом действовали оба «эгоизма», и сила «земного» не иссякала почти до последних дней его. В личности Леонтьева решалась «христианская проблема», с чем всегда, считал Тареев, сопряжен большой риск религиозного и жизненного срыва.
Неоднократно Леонтьев оказывался на грани такого срыва, «борьба была ужасна», и надо знать напор «земного» эгоизма в нем, т. е. напряжения инстинктуальных порывов его натуры, чтобы оценить не прекращавшуюся в течение десятилетий внутреннюю драму.
Какой же Леонтьев бросился в хри- стианство, захотел принять его самую суровую дисциплину над своей многосложной личностью? Тот самый Леонтьев, который был фанатичным апологетом красоты во всем, далеко увлекаемый в этой области стихиями «страстно-демоническими», превратившийся, по откровенному его признанию, в «эстетика-пантеиста, весьма вдобавок развращенного, сладострастного донельзя, до утонченности», «с истинно сатанинской» фантазией (6. Кн. 1. С. 783). Леонтьевым долго управляли мощные эротико-эстетические инстинкты, то потаенно, то почти неприкрыто и даже вызывающе обнаруживавшиеся в его влечениях к женщинам, в поступках, даже в мыслях, в суждениях, в литературных сюжетах. В значительной мере отсюда проистекает его отрицательная реакция на проповедь религиозно одухотворенной любви. Поэтому позднее, окрашивая ее в цвет «розового христианства», Леонтьев считал ее «мечтательным гуманизмом», уводящим в сторону от строгого церковного вероисповедания.
Всматриваясь в личность Леонтьева, С. Н. Булгаков замечал, что в его отношении к «красоте мира и к женственности было нечто насильническое, не умягченное, не брачное»16. Здесь есть доля правды о Леонтьеве, о чем ниже.
Но прежде о самих предметах его отношений. Красота мира как явленное «художество» Софии (она «была при Нем художницею», говорит Соломон, — Притч 8:30) не входила в леонтьевскую картину бытия. Духовного наслаждения ею он не знал, в ее фрагментах видел эстетические феномены, а от чувственных наслаждений ими пытался уйти на своем религиозном пути. «Насилие» было мстительно направлено на культивируемую в самом себе вещную и плотскую красоту, на себя, «эстетика-пантеиста».
«Женственность» вообще Леонтьеву не могла быть внятна — как всякое чуждое ему субстантивирование природных, человеческих свойств в отвлеченной категории. Совершенно непредставима для него объявленная Гете высшей целью духа «Вечная Женственность» (Das Ewig-Weibliche), увенчивающая финал второй части «Фауста». Импонировавший немецкому романтизму образ Вечной Женственности, олицетворявший мистико-эротические устремления человека, был вскоре после смерти Леонтьева восстановлен символистами и узаконен в русской поэзии Вл. С. Соловьевым как образ «новой богини». Если праматерь ее — Άφροδίτη Ούρανία (Афродита Небесная) — не возбуждала в Леонтьеве ни мыслительного, ни чувственного интереса, то противополагаемая ей у греков (что отражено в платоновской антиномии в «Пире») — Άφροδίτη Πάνδημος (Афродита Общенародная) — была близка Леонтьеву, и в его отношениях к ее земным воплощениям нечто «насильническое» несомненно присутствует, о чем свидетельствуют некоторые факты его биографии. Не Вечная Женственность в теокосмических высотах, а Вечно Женское в его человеческой натуральности влекло Леонтьева.
Откуда происходит его апелляция к насилию? Изнутри к тому побуждала неудержимая витальная энергия леонтьевской натуры (не лишенная некоей «бести-альности»), часто сокрушительная в своих порывах и готовая прибегать к жестким средствам в своем стремлении к достижению целей. Практически он склонен был применять такие средства к людям и применял к себе. Теоретически же утверждал моральную и историческую необходимость и неизбежность насилия в мире: без «хронических жестокостей», говорил он, « нельзя ничего из человеческого матерьяла надолго построить» (12. Кн. 3. С. 137). И еще в 1880 г., воздавая хвалу русскому воинству, носителю героизма и высшей гражданственности, он писал 21 февраля в передовой статье «Варшавского дневника»: «Без насилия нельзя. Неправда, что можно жить без насилия. Насилие не только побеждает, оно и убеждает многих, когда за ним, за этим насилием, есть идея » (7. Кн. 2. С. 65). Здоровые инстинкты общества в минуты тяжких испытаний заставляют обращаться не к ораторам, журналистам, юристам, «а к людям силы , к людям, повелевать умеющим, принуждать дерзающим! » (Там же). Поэтому для него «великая вещь — война! Прав был тот, кто назвал войну „божественным учреждением“. Это огонь пожирающий, правда, но зато очистительный!» (Там же. С. 63). Движимый таким убеждением, он создавал колоссальные концепции насильственного вмешательства в премортальные цивилизационные процессы, однако оставался «Наполеоном без армии», Ницше без ницшеанства.
Проблема была перенесена в область идей, где частное насилие предстает у него одним из выражений великой силы , которую Леонтьев признавал фундаментальным мировым началом, движущим историю, строящим государство, созидающим личность физически и духовно. Он взывает к силе, облеченной властью, — властью церковной, политической, военной, к силе, направляющей мышление и волю личности. Только силой устанавливаются твердые формы жизни с их ценностной иерархией, только сила спасительно охраняет их, противостоя анархии, разложению, хаосу. Высший источник этой силы — Бог, действующий в вещах и в твари, и такое действие искал и находил в себе Леонтьев, ощущал его особенно остро в моменты телесного и душевного упадка, ослабевания под ударами недугов и жизненных невзгод. Тогда он повторял приведенные Апостолом Павлом слова Господа: «Сила Моя совершается в немощи» (2 Кор 12:9) и вдохновлялся заповедью Иисуса: «Царствие Небесное силою берется» (Мф 11:12).
Продолжая данную тему в аспекте персонализма, можно сказать, что Леонтьев чувствовал, мыслил, творил в мировом силовом поле. Силовые линии пронизывают его переживание жизненной эмпирии, духовный опыт, всю умственную работу, создаваемые тексты. В столь обнаженном виде мы находим это только у Достоев-ского17. От драматической борьбы сил в самом себе Леонтьев переходил к этикофилософскому и историософскому осмыслению силовых коллизий в природе, в истории и рассматривал их в прогностической перспективе. Он точно предсказал эпоху великого насилия в 1920–1930-е гг., принявшего форму «союза социализма с Русским Самодержавием» (12. Кн. 3. С. 137), т. е. соединения социального и экономического насилия с автократией, добавив к этому еще и «пламенную мистику (которой философия — будет служить как собака)» (Там же). Форму «пламенной» квазимистической веры приняла идеология коммунизма (и советская философия ее ревностно обслуживала) с патерналистским культом вождя в центре.
В мире действуют разнонаправленные силы; их борьба дает движение жизни, в ходе которого одно разрушается и гибнет, другое рождается и возрастает, — такова «феноменологическая» аксиоматика Леонтьева, выводимая им из естественнонаучных и социологических данных. Применяя ее к историко-политическим явлениям, он решительно отвергал боязливое стремление примирять антагонизмы, притуплять острия идей и орудий борьбы. На всю область этих явлений он распространял как сверхисторическую истину объявленное Христом: «Не мир пришел Я принести, но меч» (Мф 10:34). Наряду с трагической развязкой столкновений «интересов и страстей», Леонтьев предполагал и возможность гармонического разрешения конфликта. Но требовал понимать это не как завершающее статическое согласие сил, а как динамическое их взаимодействие, включающее новые обострения. Он настаивал, что вожделенная для многих « гармония не есть мирный унисон, а плодотворная, чреватая творчеством по временам и жестокая борьба . Такова и гармония самой внечеловече-ской природы…» (7. Кн. 1. С. 407). Всякие же «пошлые унисоны» ненавистны Леонтьеву — они трусливы, жалки, некрасивы.
В незаурядных людях заложены разнообразные силы и разыгрывается сложное их взаимодействие, что способствует развитию выдающихся личностей, мощно проявляющих себя на всех поприщах жизни, вносящих героические инициативы в движение человечества — вот излюбленный антропологический идеал Леонтьева. Как сама жизнь, так и личность должна быть богата задаткам такого развития, в ней сосредоточиваются лучшие природные качества. К этим мыслям Леонтьев пришел еще в конце 1850-х гг. и выразил их словами своего протагониста Милькеева в романе «В своем краю» (1864): «Главный элемент разнообразия есть личность, она выше своих произведений. Многосторонняя сила личности или односторонняя доблесть ее — вот более других ясная цель истории» (2. С. 152).
В современной европейской цивилизации Леонтьев выделил три определяющих ее суть свойства: движение к сплошной эгалитарности, т. е. к всеобщему равенству; одержимость прогрессом в научной, технической, промышленной, социальной сферах; наконец, «новая религия , которую проповедуют нам либералы и прогрессисты всех стран еще с XVIII века» и основной догмат которой Леонтьев называет эвдемонизмом, поскольку, по его мнению, именно этот философско-этический принцип, провозглашающий счастье главной целью и мерой жизни, лежит в основе «новой веры во всеобщее земное благоденствие , которое отныне должно составлять конечную цель человечества» (7. Кн. 1. С. 150–151).
Все это, считает Леонтьев, враждебно идеальным устремлениям человека, противоречит развитию и расцвету личности и ничего, кроме серого «среднего европейца», породить не может. Прогресс, возведенный современными деятелями в универсальный закон, не соответствует естественному органическому ходу жизни. «Между эгалитарно-либеральным поступательным движением [т. е. пресловутым прогрессом ] и идеей развития нет ничего логически родственного, даже более: эгалитарнолиберальный процесс есть антитеза процессу развития » (7. Кн. 1. С. 384).
Вооружась «культурой Византийской дисциплины» (7. Кн. 1. С. 174), Леонтьев повел решительное наступление на новоевропейскую цивилизацию, указывая на то, что «Византизм (как и вообще Христианство) отвергает всякую надежду на всеобщее благоденствие народов, что он есть сильнейшая антитеза идее всечеловечества в смысле земного всеравенства, земной всесвободы, земного всесовершенства и все-довольства» (7. Кн. 1. С. 301). Для Леонтьева очевидно, что «идеал эвдемонического прогресса — глуп и даже ненаучен » (7. Кн. 1. С. 170), ибо «с точки зрения умственной непозволительно мечтать о всеобщей правде на земле, о какой-то всеобщей мистической любви, никому ясно даже и не понятной; нельзя мечтать о равномерном благоденствии » (8. Кн. 1. С. 222). Так определял он область моральных химер и социальных фантазий, лежащую за пределами реальных исторических процессов и целей.
Он признает, что «в России глубоко перемешаны и перепутаны теперь эти две культуры — Византийская — аскетическая и неофранцузская, эвдемоническая» (7. Кн. 1. С. 172), — тем актуальнее предпринятая им резкая критика западной цивилизации в ее нынешнем состоянии.
В этой критике он был тогда не одинок. Против эгалитаризма выступил Т. Карлейль — апологет сильной героической личности и ее руководящей роли в истории, с негодованием наблюдавший усреднение и обесцвечивание личности в современной Европе. Леонтьев, убежденный, что нет и не может быть такого разумного плана человеческой истории, согласно которому все идет к лучшему, почти буквально совпадал в принципиальных своих высказываниях с суждением Шопенгауэра, писавшего о современных ему мыслителях просветительско-позитивистской ориентации: «Они считают мир вполне реальным и видят его цель в жалком земном счастье, которое, как бы ни стремились к нему люди и как бы ни благоприятствовала этому судьба, все-таки в своей сущности пусто, обманчиво, шатко и печально, и ни конституции и законодательства, ни паровые машины и телеграфы не превратят его в нечто действительно лучшее. Названные философы истории, восхваляющие ее, — ограниченные реалисты, к тому же оптимисты и эвдемонисты, другими словами, пошляки и прирожденные филистеры, к тому же в сущности и плохие христиане, так как истинный дух и сущность христианства, так же как брахманизма и буддизма, заключается в знании, что земное счастье ничтожно»18.
В примечании 1885 г. к статье «Как надо понимать сближение с народом?» (1880) Леонтьев, процитировав слова Э. фон Гартмана о всеобщем конце, дает замечательный комментарий, который стоит привести полностью — в нем вполне раскрывается леонтьевский взгляд на предмет: «Не правда ли, ужасная картина! Это не то, что христианское „преставление света“, после которого настанет вечная, новая жизнь. Но как она ни ужасна, все же она, эта картина, несколько ближе к делу и правдоподобнее, чем воображение, что европейская демократия, возобладав везде, обратит на веки вечные весь Mиp в свободно-равенственное общежитие каких-то „средних“ и благоразумных людей, которые будут совершенно счастливы одним мирным и справедливым разделением труда. Ведь эта благоденственная надежда уж до того нелепа и мелка, до того противоречит всем человеческим понятиям, что надо только дивиться, как могла подобная эвдемоническая мечта почти целый век править столь многими высокими умами Запада и даже до сих пор иметь своих (хотя и значительно разочарованных) приверженцев… Эта надежда противоречит всему: она противна нашим эстетическим идеалам (требующим разнообразия положений и характеров, подвигов, восторгов, горя и борьбы); она противоречит нашим религиозным верованиям (предрекающим конец земного Mиpa после ужасов последнего расстройства); противоречит нравственным понятиям (ибо высшая степень нравственных сил обнаруживается не при организованном покое, а при свободном выборе добра или зла и особенно тогда, когда это очень трудно и опасно). Надежда эта противоречит даже здравому рационализму и науке, и вот по какой простой причине: всякий организм умирает ; всякий органический процесс кончается; всякий эволюционный процесс (процесс развития) достигает сперва своей высшей точки, потом спускается ниже и ниже, идет к своему разрешению.
Если человечество есть явление живое, органическое, развивающееся, то оно должно же когда-нибудь погибнуть и окончить свое земное существование!
Если бы одна эта мысль о необходимом, о неизбежном конце так же часто мелькала в умах наших, как мелькает до сих пор еще в умах скудная мысль о „всеобщем мире“, о всеблагих плодах физико-химических открытий и эгалитарной свободы, то результат от подобного, даже и полусмутного представления конца, был бы великий! Перестали бы любить образ „среднего европейского человека“, безбожного и прозаического, но дельного и честного, безбожно и плоско, хотя весьма честно и дельно восседающего всегда и всюду на каких-то всеполезных и всемирных конференциях, заседаниях, съездах и митингах. Перестали бы верить, что вся предыдущая история была лишь педагогическим и страдальческим подготовлением к умеренному и аккуратному благоденствию миллионов и миллионов безличных людей и перестали бы во имя этого идеала разрушать все преграды, которые кладут еще до сих пор, слава Богу, этому разлитию убийственного бездушия, с одной стороны, государственность и войны, с другой — требования положительных религий; поэзия жизни и даже (увы, что делать!) во многих случаях самые порочные страсти и дурные наклонности человеческого рода» (7. Кн. 2. С. 175–176).
Упоминавшийся выше богослов-персоналист Тареев, фактически подхватывая и развивая мысль Леонтьева (хотя и не ссылаясь на него), справедливо утверждал, что «эвдемонизм не имеет оснований в биологическом и историческом прошлом человека», а «надежды на счастье в будущем суть в сущности надежды на то, что в будущем возрастет материальное благосостояние человека и даже всего человечества». Это иллюзорные надежды, и оборачиваются они крахом личности, вожделеющей исключительно удовлетворения своих потребностей и благоденствия, — таковы итоги рассуждений Тареева. «Счастье недостижимо по психологической природе стремления к счастью», ибо с каждым частным его достижением является желание нового и большего. При этом такое стремление «сопровождается вмешательством человека в течение его естественной жизни, вследствие чего или естественные потребности усиливаются до напряженности страстей, или им дается удовлетворение, поставленное в исключительную зависимость от личной воли человека, очень часто не-естественное»19. На такое вмешательство в жизнь ради «всеобщей пользы и всеобщего довольства» Леонтьев указывал еще в 1872 г.: «У дерзких — кровь, огонь и меч, словом — новые страдания; у острожных, лицемерных или робких — проповедь однообразного реализма, всеобщего ограниченного знания, всеобщей бездарности и прозы!» (7. Кн. 1. С. 153).
Леонтьев хорошо знал в себе самом неодолимую силу стремления к наслаждениям чувственным, эстетическим, к житейскому счастью, знал, насколько велико такое стремление в современной личности, — и в борьбе с ним в себе прибегал к крайнему насильственному средству — обузданию суровой аскетической дисциплиной. В какой мере и всегда ли то было для него действенным средством, это другое дело, но его он провозглашал как единственно надежное (в отличие от моральной рефлексии, от «нравственного самовоспитания и самосовершенствования» толстовского образца) и проповедовал его настойчиво. При том он не предполагал не только окончательного одоления «эвдемонизма» в личности, но даже и существенного уменьшения его силы не ожидал. Здесь — вечная драма личности, и она, собственно, и составляет основной сюжет ее существования, что есть антропологическая реальность, выводимая Леонтьевым из своего опыта и из опыта христианской аскетики, ставшего понятным и даже очевидным для него на Афоне: «Аскетизм христианский подразумевает борьбу, страдания, неравенство, то есть остается верен феноменальной философии строгого реализма; а эвдемоническая вера мечтает уничтожить боль, этот существенный атрибут всякой исторической и даже животной феноменальности … Христианство сообразнее на практике и с земной жизнью, чем эти — холодные надежды всеполезного прогресса!» (7. Кн. 1. С. 153).
Персоналист Мунье, как помним, предполагал возникновение некоего «общества личностей» как подобия христианской общины, в котором духовное развитие каждой из них и всех вместе может достигнуть высокого уровня и, в исторической перспективе, стать важным моментом в эволюции человечества. Казалось бы, нечто похожее происходило в последний период жизни Леонтьева. Вокруг него сложилось такое «общество», объединяемое личностью Константина Николаевича и некоторым, редким в русской образованной среде, умственным и нравственным резонансом. В составе его были И. И. Фудель, И. И. Кристи, А. А. Александров, Ф. П. Чуфрин, Г. И. Замараев, Я. А. Денисов, Н. А. Уманов, А. Н. Волжин и другие. Исчерпывающе полное и подробно документированное описание леонтьевского «общества» дала О. Л. Фетисенко в третьей части своей фундаментальной монографии, указывая, что «в лучшие времена в кружок входило до 15 человек», в разной степени близких Леонтьеву20.
В предшествующих частях книги Фетисенко скрупулезно воссоздала в биографических и литературных фактах картину жизни и деятельности Леонтьева. И оказалось, что рядом с ним названное его окружение (за исключением Фуделя, взявшего на себя заботу о наследии учителя) представляло собой, конечно, утешительное для Константина Николаевича, но кратковременное и не получившее никакого культурноисторического значения собрание. В данном случае предположение Мунье не оправдалось. Но бедность и узость этих фигур (и еще немалого числа даже известных деятелей той эпохи) искупается такой личностью, как Леонтьев, открывшей себя в поразительном идейном богатстве и драматической сложности.
Список литературы Личность К. Н. Леонтьева в свете идей персонализма
- Булгаков С. Победитель — Побежденный (Судьба К. Н. Леонтьева) // Тихие думы. М.: Изд. Г. А. Лемана и С. И. Сахарова, 1918.
- Гаврилов И.Б. «Память об Афоне живет в моем сердце». К 185-летию со дня рождения К. Н. Леонтьева // Научные труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2016. С. 126-134.
- Карсавин Л. П. О личности. Записки филологического отделения Литовского университета. Каунас, 1929.
- ЛеонтьевК.Н Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т.2-12. СПб.: Владимир Даль, 2000-2021.
- Маркидонов А. В. Богословие и культура: монография. СПб.: Изд-во СПбДА, 2022. 504 с.
- Несмелов В. И. Вопрос о смысле жизни в учении новозаветного Откровения // Православный собеседник. 1895. Июнь — июль.
- Несмелов В.И. Наука о человеке. Т. 1. Опыт психологической истории и критики основных вопросов жизни. Казань, 1898.
- Несмелов В. И. Наука о человеке. Т. 2. Метафизика жизни и христианское Откровение. Казань, 1903.
- Носов С.Н «Хищное» христианство К. Н. Леонтьева // Христианство и русская литература. Сб. ст. [Вып. 1] / Отв. ред. В. А. Котельников. СПб.: Наука, 1994.
- Розанов В.В. Собр. соч. О писательстве и писателях. М.: Республика, 1995.
- Розанов В.В. Соч. М.: Советская Россия, 1990.
- Тареев М.М. Основы христианства: В 5 т. Сергиев Посад, 1908. Т. 4.
- Тареев М. М. Цель и смысл жизни // Вера и Церковь. 1901. Кн. 2.
- Фетисенко О.Л. «Гептастилисты». Константин Леонтьев, его собеседники и ученики (Идеи русского консерватизма в литературно-художественных и публицистических практиках второй половины XIX — первой четверти XX века. СПб.: Пушкинский Дом, 2012.
- Фетисенко О.Л. Афон и его «единство в разнообразии» в социокультурной концепции Константина Леонтьева // Русско-Византийский вестник. 2018. № 1. С. 141-145.
- Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. 3-е изд. P.: YMCA-Press, 1983.
- Шопенгауэр А. Мир как воля и представление: В 2 т. / Пер. М. И. Левиной. М.: Наука, 1993. Т. 2.
- Mounter E. Le personnalisme. P., 1965.