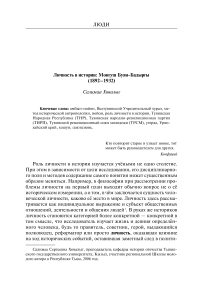Личность в истории: Монгуш Буян-Бадыргы (1892-1932)
Автор: Ховалыг Салимаа Сергеевна
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Люди
Статья в выпуске: 2, 2007 года.
Бесплатный доступ
Амбын-нойон, всетувинский учредительный хурал, метод исторической антропологии, роль личности в истории, тувинская народная республика (тнр), тувинская народно-революционная партия (тнрп), тувинский революционный союз молодежи (трсм), угерда, урянхайский край, хошун, цзянцзюнь
Короткий адрес: https://sciup.org/14911990
IDR: 14911990
Текст статьи Личность в истории: Монгуш Буян-Бадыргы (1892-1932)
Рис. 1. Монгуш Буян-Бадыргы (1892–1932)
ческой, социальной и культурной жизни народа и/или страны. Соответственно и изучается историческая личность в первую очередь для того, чтобы выявить её роль в тех или иных событиях.
Цель данной статьи — показать жизнь и деятельность человека по имени Монгуш Буян-Бадыргы (рис. 1) и определить, какую роль он сыграл в истории Тувы. Хронологические рамки статьи обусловлены годами жизни нашего героя (1892–1932). В качестве обоснования нашего выбора можно сослаться на то, что историку органично стремление к выявлению новых, ранее недоступных фактов; но в ещё большей степени выбор обусловлен необходимостью восстановления исторической справедливости и отсутствием фундаментальных, собственно научных трудов о Монгуше Буян-Бадыргы.
В советское время трактовка Буян-Бадырги была однозначной: феодал, нещадно эксплуатировавший аратов, защитник феодально-ламской верхушки. Новый этап в осмыслении личности Монгуша Буян-Бадыргы начался с конца 80-х годов XX столетия — в эпоху перестройки, гласности, переоценки ценностей в обществе и в исторической науке. Историки Тувы, получив доступ к ранее закрытым фондам республиканского архива, уже по-иному оценивают Буян-Бадыргы: первый национальный политик, основатель тувинского государства, демократ. В периодической печати появляется большое количество статей научного и публицистического характера о жизни Председателя Всетувинского Учредительного Хурала, его приёмном отце Хайдыпе, его семье 2. К 100-летию со дня рождения Монгуша Буян-Бадыргы были опубликованы воспоминания современников и проведены различные мероприятия в западных районах республики. Его именем были названы центральная улица в Кызыл-Мажалы-ке, созданный в 1991 году Чаданский филиал республиканского музея. М. Б. Кенин-Лопсан 3 написал роман-эссе «Буян-Бадыргы 4».
Интерес к судьбе одного из первых руководителей Тувинской Народной Республики не утихает и сейчас. Имя его занесено в Государственную книгу «Заслуженные люди Тувы XX века» 5, что равнозначно присвоению высшей государственной награды — ордена Республики. Каждый учёный, занимающийся историей Тувы XX века, в той или иной мере касается Буян-Бадырги, делает попытку охарактеризовать его личность, дать оценку его политической деятельности 6.
Источниковой базой моего исследования послужили документы делопроизводства, докладные письма, прошения об установлении покровительства России над Урянхайским краем 7, поданные в 1912–1913 годах на имя императора Николая II. Хранятся они в фондах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского Государственном архива социально-политической истории (РГАСПИ), Центрального государственного архива Республики Тыва (ЦГА РТ), Центра хранения архивной документации партии и общественных организаций Республики Тыва (ЦАДПОО ЦГА РТ), в рукописном фонде Тувинского института гуманитарных исследований (РФ ТИГИ). Также были использованы различные опубликованные документы, включая путевые заметки исследователей, путешественников и командированных в Тувинскую Народную Республику представителей Советского Союза и Коминтерна 8.
Для установления степени влияния Монгуша Буян-Бадыргы на ход исторических событий использован метод исторической антропологии. Ещё А. С. Лаппо-Данилевский применил подходы «описательной психологии» к исследованию истории. Он считал, что исторический факт, понимаемый как факт взаимодействия индивидуальности и среды и влекущий изменения в «душевной жизни», недоступен прямому наблюдению и может быть воспроизведён в сознании исследователя на основе принципа «признания чужой одушевлённости». Принцип этот необходим «психологу, социологу или историку для того, чтобы объединять свое знание о наблюдаемых им чужих поступках и деятельностях» 9. Применение историкоантропологического метода к анализу источников по политической истории Тувы начала XX века позволяет более глубоко изучить деятельность её творцов.
Статья состоит из нескольких частей. В первой даётся краткая характеристика Тувы на начало XX века: её административно-территориального устройства, населения и хозяйства. Остальные главки посвящены непосредственно личности Монгуша Буян-Бадыргы. В них мы попытались систематизировать материал о непростой судьбе человека, ставшего символом переломной эпохи, определившей будущее всего народа.
I
В начале прошлого столетия Тува представляла собой окраину Цинской империи, власть которой была установлена в 1757 году 10 и продлилась до 1912 года. Подчинив Халху (Внешнюю Монголию) и Туву, маньчжуры распространили на них свою военно-административную организацию путём переформирования бывших княжеских уделов в военные единицы, соответствовавшие маньчжурским «знамёнам» 11 ци , по-монгольски называвшимся хошунами . Каждый хо-шун в свою очередь делился на сумоны (кавалерийские эскадроны цзо-лин ), а сумоны на — арбаны 12, объединявшие, как правило, близких родственников, сородичей. Один арбан выставлял в солдаты 10 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет 13, а один сумон — 150 всадников в полной боевой экипировке. Шесть сумонов образовывали один цзяла-цзалан или полк, пять полков составляли дивизию, а пять дивизий — корпус 14.
Основная территория тувинских племён 15 разделялась на несколько хошунов 16; одни из них управлялась правителями-тувинцами, другие — правителями-монголами. Соответственно в исторической литературы хошуны первой группы называются тувинскими, второй — монгольскими. В 1759 году были учреждены четыре тувинских хошуна 17: Тесингольский или Оюннарский, Хемгольский или Салчакский (Сальжакский), Тоджинурский или Тоджинский и Хуб-сугульский (последний в 1787 году был отделен от тувинских хошу-нов, переименован в Хасутский и перешел в ведение китайской администрации в Улясутае, но население его ещё и в XIX веке продолжало нести кое-какие повинности по отношению к тувинскому правителю 18). Во главе каждого из этих хошунов были поставлены правители угерда (другое встречающееся написание — угер-даа) 19 из числа бывших тувинских зайсанов 20. В 1762 году амбын-нойону 21 Тесингольского хошуна была дарована печать 22 Бугуде (Бугдийн)-дарга 23, то есть главы тогда же созданного специального верховного управления всеми тувинскими хошунами. Вскоре, однако, выяснилось, что правители-тувинцы слабо осведомлены в делах и не знают монгольского языка. Поэтому главным управителем всех четырёх хошунов был назначен халхасский князь в чине мейрен-чангы 24. Место пребывания главного управителя было определено вблизи пограничных караулов Эрзин и Самагалтай 25. Только в 1787 году амбын-нойоном всех тувинских хошунов в чине мейрен-чангы впервые стал тувинский зайсан Даши. После этого на протяжении двух столетий тувинцами управляли его потомки — владетели Тесингольского хо-шуна. Последний из них правивил с 1916 по 1921 год.
Тувинцы, жившие в бассейне рек Улуг-Хема (Енисея) и Хемчи-ка, частично к югу от хребта Танну-Ола и по обоим склонам Саян, оставались данниками монгольских князей 26. Хемчикские тувинцы до цинского завоевания принадлежали вану 27 Сайн-нойоновского ханства Арадану, затем были поделены между его сыновьями: Цери-бом, имевшим титул бэйсе , и Дамби, носившим титул гуна 28. Фактически образовались два самостоятельных хошуна — Бэйсе (Бейсе, тув. Бээзи ) и Хемчикский. В 1764 году за какие-то проступки Дамби был лишен звания гуна и тувинских данников, которых передали в подчинение хебей-амбыну 29, находившемуся в Кобдо, ана должность угерда, непосредственно ими управлявшего, поставили зайсана Шарбу (Шара). С 1808 года Хемчикский хошун или Даа хошун (другие варианты написания — Да-хошун, Даа-хошун) окончательно стал пятым тувинским хошуном. Делопроизводственные документы его нойонов 30 позволяют установить, что за время существования Даа хошуна им управляли девять угерда и последним в их ряду был Монгуш Буян-Бадыргы. Под управлением монголов были ещё сумоны Маады и Чооду, впоследствии известные как хошун Даа-вана и сумоны Шалык и Сартул, в начале XX века составлявшие Нибазы хошун 31.
Управление покорёнными тувинцами и монголами было учреждено с 1768 года в Улясутае, где находился цзянцзюнь 32 — наместник императора в Северной Монголии, и в Кобдо, где был создан Ино- родческий приказ 33. Начиная с 1806 года земли каждого хошуна были точно определены, только в их в пределах население хошуна и могло кочевать; если же араты нарушали эти границы, то признавались виновными в захвате или использовании чужой собственности 34. С 1809 года из государственного казначейства ежегодно стали выдавать жалованье лицам, осуществлявшим управление: амбын-нойон за исполнение должности амбаня получал 771/2 лан серебра, ему также полагались за княжеский титул бэйле 35 800 лан серебра и 13 кусков парчи и шелковых тканей; угерда получал 65 лан. О выдаче жалованья цзянцзюнь был обязан докладывать регулярно в конце года Палате государственного имущества.
Таким образом, к концу XVIII века Цинам удалось завершить создание военно-административной структуры управления и сформировать аппарат, обеспечивавший им господствующее положение в Халхе и Туве вплоть до 1912 года. Свое юридическое оформление эта структура получила в 1789 году в кодексе цинского законодательства «Лифаньюань цзэли» («Уложение китайской палаты внешних сношений»).
За единицу обложения был принята юрта, точнее ореге (тув.), буквально — дым от очага в юрте 36. Тувинский народ был обязан ежегодно выплачивать албан 37 в размере до 9 тыс. соболей, то есть по три соболя с каждого ореге. Пять тувинских хошунов вели по отдельности счёт людям и скоту, и албан распределяли согласно количеству населения и скота. Податные единицы исчислялись в следующем порядке: Оюннарский хошун насчитывал 147 ореге, Салчакский — 109, Тоджинский — 150, Хасутский — 150, Хемчикский — 2209, всего, таким образом, 2765 ореге. Выплата албана тяжело сказывалась на семьях, поскольку дань взималась в размере, установленном в Улясу-тае раз и навсегда. Амбын-нойон раскладывал её на подчиненные ему хошуны, внутри хошунов раскладкой занимались угерда, поручавшие сумонным начальникам чангы собрать указанное количество шкурок к установленному сроку. Чиновники отвечали за своевременный сбор дани своим имуществом: «Уложение» предусматривало наказания для тех, кто не справлялся со своими обязанностями. Именно с целью упорядочения сбора дани аратам, как главному податному населению, было запрещено покидать свои хошуны. Если население хошуна по разным причинам уменьшалось, чиновники для сохранения жалования не уведомляли об этом вышестоящие ведомства, а сдавали албан в полном размере, и все тяготы за выплату недоимок ложились на аратов, способных платить подать.
В связи с выплатой албана в каждой хошунной управе велся учёт населения и скота; материалы этого учёта поступали в распоряжение администрации в Улясутае и, наряду с данными Переселенческого управления в Урянхайском крае, образованного после установления протектората России над Тувой, и материалами отчетов этнографических экспедиций, использовались при попытках подсчитать численность населения Тувы в начале XX столетия. Попытки эти предпринимались советскими историками и этнографами Р. М. Кабо, С. И. Дуловым, Л. П. Потаповым, Н. А. Сердобовым и др. Однако, поскольку они опирались на разные источники, их оценки не сходятся.
Р. М. Кабо приводит следующие данные Переселенческого управления на 1914–1915 годы 38:
В двух хемчикских хошунах (Да-хошун и Бэйсе) Тоджинском
Оюннарском
Салчакском
Да-вана (Маады и Чооду)
Всего:
35600 человек
56300 человек
Данные, собранные секретарем заведующего пограничными делами Усинского округа Я. Мальцевым в 1914 году, и цифры, приводимые С. И. Дуловым на основании официальных тувинских данных, намного меньше (табл. 1). Мальцев полагал, что официальные власти в Туве намеренно уменьшали количество населения на 25, а то и все 100%. Дулов уточняет: цифры занижены только по хемчикским хошунам: по подсчету Переселенческого управления в 1916 года население Даа хошуна составило 16 656, а Бэйсе — 19 000 человек. По остальным же хошунам и сумонам данные администрации, наоборот, несколько завышают численность населения. Например, в То-джинском хошуне было насчитано 2400 человек, тогда как по данным переписи 1931 года там проживали 2115 человек 39.
В статье С. Нацова приводятся данные, относящиеся скорее всего к 1914 году 40:
«Коренное население в пределах Тувинской Народной Республики (Хем-чикском, Оюннарском, Тоджинском и Салчакском) было 52300 душ обоего пола».
Таблица 1
Население Тувы на 1914 год по оценке Я. Мальцева и С. Дулова
|
Название хошуна/сумона |
Количество |
|
|
Юрт |
Человек |
|
|
Бэйсе-хошун |
3438 |
10153 |
|
Даа-хошун |
1564 |
8273 |
|
Оюннарский |
Около 1500 |
Около 7000 |
|
Салчакский |
Нет данных |
5000 |
|
Тоджинский |
Нет данных |
4000 |
|
Маады и Чооду |
Нет данных |
Около 1000 |
|
Шалык |
100 |
Около 500 |
|
Сартул |
30 |
Около 200 |
|
Итого: |
– |
Свыше 36000 |
Составлено по: Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 1701. Оп. 1. Д. 34. Л. 6; Дулов В. И. Социально-экономическая история Тувы (XIX — начало XX вв.). М., 1956. С. 179.
Наконец, Н. Леонов, опираясь на материалы Переселенческого управления и собственные наблюдения, приводит цифры (табл. 2), мало отличающиеся от оценки Кабо.
Таким образом, точных данных о количестве населения в начале прошлого столетия мы пока не имеем. Можно сказать, что численность коренного населения Тувы составляла не более 60 тыс. человек.
К началу XX века в Туве сложилось три хозяйственно-культурных типа 41. Кочевые скотоводы горно-степной зоны занимали большую часть территории Тувы — ее центральные, западные и южные районы. В научной литературе их называли западными тувинцами, по данным конца XIX — начала XX века они составляли 95% всего населения края. Их хозяйство основывалось на пастбищном скотоводстве с сезонными «вертикальными» перекочевками и дополнялось у западной части населения поливным переложным земледелием, спорадической охотой, собирательством и рыболовством.
Население Тувы на 1914 год по оценке Н. Леонова
Таблица 2
|
№ |
Название хошуна |
Число сумонов |
Населения (чел.) |
|
1 |
Тоджинский |
4 |
4000 |
|
2 |
Салчакский |
4 |
6500 |
|
3 |
Оюннарский |
4 |
8300 |
|
4 |
Гун-хошун (Хемчикский Даа-хошун) |
10 |
16656 |
|
5 |
Бейсе-хошун |
17 |
19000 |
|
6 |
Маады и Чооду |
2 |
1200 |
|
7 |
Шалык и Сартул |
2 |
700 |
|
Итого: |
43 |
56356 |
|
Составлено по: Леонов Н. Урянхайский край до начала XX столетия // Новый Восток, 1923. № 3. С. 408.
Охотники-оленеводы горно-таежной зоны населяли в Восточной Туве бассейны верхних течений рек Бии-Хем и Каа-Хем. В научной литературе они получили название восточных тувинцев или тувин-цев-тоджинцев 42. В исследуемый период у них насчитывалось всего около 400 хозяйств — 3% коренного населения Тувы. В основе их хозяйственной деятельности лежали круглогодичный охотничий промысел (преимущественно на копытных животных) и сезонный — на пушных, а также оленеводство. Последнее было вьючно-верховое, с доением, а при крайней необходимости и с забоем домашних оленей. Значительную роль играли собирательство и рыболовство.
Кочевые и полукочевые охотники-скотоводы жили двумя компактными группами в пограничной области Восточной Тувы на стыке горно-степной и горно-таежной зон в среднем течении рек Бий-Хем и Каа-Хем. Таковых на рубеже XIX–XX веков насчитывалось около 250 хозяйств, или примерно 2% всех тувинцев. Их хозяйство базировалось на охоте и пастбищном скотоводстве, с преимущественным разведением лошади и крупного рогатого скота. У большей части населения Тувы важную роль играло собирательство.
Взятое в масштабах всей Тувы, хозяйство тувинцев следует признать комплексным, так как в нём сочетались кочевое скотоводство, пойменное орошаемое земледелие, в отдельных районах — оленеводство и охота, и некоторые виды ремесленной деятельности: горнорудное дело, шорное производство и другие промыслы, необходимые для ведения кочевого образа жизни, а также удовлетворявшие эстетические запросы населения (например, изготовление ювелирных изделий).
II
1 января 1994 года республиканская комиссия по реабилитации жертв политических репрессий констатировала, что ноян Монгуш Буян-Бадыргы родился в 1892 году в местечке Аянгаты Даа хошуна в семье бедного арата Монгуша Номчула 43. Его усыновил буурул 44 -нойон Хайдып 45, угерда Даа хошуна. Об этом событии в народе рассказывают немало легенд. Одна из них гласит, что весной в год Дракона нойон Хайдып видел сон: недалеко от его юрты родился мальчик, которому суждено стать главой государства. Согласно другой, о рождении мальчика с необыкновенной судьбой Хайдып узнал рано утром во время чтения священных книг. Тогда он отправился узнать, родился ли накануне ребёнок у кого-либо из его подданных и выяснил, что в семье табунщика действительно есть новорожденный младенец. Хайдып его и усыновил, «обменяв» на плитку зелёного чая и несколько голов скота. Произошло это 15-го числа второго месяца весны года Дракона (по григорианскому календарю 25 апреля 1892 года) на берегу р. Оваалыг-Хемчигеш, впадающей в р. Улуг Аянгаты. Там до сих пор растет Хам-Дыт (Священная лиственница), у которой совершают религиозные обряды 46.
У тувинцев издревле существовал обычай усыновления детей посредством выкупа 47. Поэтому поступок Хайдыпа никого из его родственников не удивил; к тому же современники отмечают, что у него не было сына 48, который бы унаследовал титул нойона. Удивительно другое: Даа нойон лично занялся воспитанием и обучением мальчика. Правда, в вопросе о воспитании Буян-Бадыргы тоже имеются расхождения. Общепринятой считается версия, изложенная Кенин-Лопсаном 49:
Буян-Бадыргы не учился в зарубежных странах Востока. Он отлично окончил буддийскую гимназию Чаданского Верхнего и Нижнего храмов. Отец проявил большую заботу о воспитании приемного сына, чтоб он стал высокообразованным человеком.
Согласно этой версии, наследника нойона начали учить тибетской и монгольской письменности с пятилетнего возраста. Для этого были приглашены самые образованные люди того времени. Учителем монгольского языка и письменности стал Ховалыг Шо-кар-Мээрен, тибетского — хорошо знавший этот язык монгол Ур-жуп-Тогоо. Для обучения наследника русскому языку буурул нойон пригласил учителя русского языка Рехлова 50. Буян-Бадыргы оказался очень способным учеником и в 12 лет свободно говорил на монгольском, китайском, русском и тибетском языках. Таким образом, он получил достойное воспитание и солидное образование.
По другой, менее распространенной, версии 51 Хайдып сразу после усыновления отправил Буян-Бадыргы в закрытый храм в Китае. Там его должны были обучить всему, что необходимо было знать и уметь наследнику великого князя. Забрали Буян-Бадыргы оттуда только после внезапной кончины Хайдыпа. Что у Даа нойона есть наследник и что это приёмный сын, никому доселе неизвестный, выяснилось лишь тогда, когда надо было решать, кто будет следующим правителем. Почему Хайдып скрывал факт усыновления, неясно. Также возникает вопрос, действительно ли мальчик воспитывался в Китае. Если его образование было духовным, он мог получить его и в Халхе 52. А светское образование детям урянхайских чиновников давалось нередко при канцеляриях в Кобдо и Улясутае. Точный ответ будет получен только в том случае, если сохранились архивные данные о том, где Буян-Бадыргы учился, и их удастся найти.
Хайдып умер в марте 1909 года 53, и 16-летний Буян-Бадыргы был утвержден в Улясутае в должности угерда и удостоен титула гун 54. Таким образом, он стал правителем Даа хошуна и вторым человеком после амбын-нойона — правителя всей Тувы.
К сожалению, мы пока не располагаем письменными свидетельствами о детстве и юности нойона. Зато в нашем распоряжении есть воспоминания современников: аратов, пасших скот угерда, чиновников управления хошуна и др.55 В них Буян-Бадыргы рисуется весёлым, умным, внимательным человеком, считавшим своим долгом править народом согласно законам и обычаям. От остальных нойонов его отличали такие качества, как терпимость, стремление к знаниям, уважение к людям знающим — мастерам своего дела. Впрочем, становление его личности, тем более становление как политика, на этом этапе не завершилось, да и не могло завершиться, поскольку годы его детства и юности предшествовали бурным событиям, поток которых смёл на своем пути всё, к чему привыкли народ и его правители в течение нескольких столетий.
III
Известно, что роль личности в развертывании исторического процесса особенно возрастает в критические моменты, когда с наибольшей остротой встаёт проблема выбора пути дальнейшего развития. Если речь идёт о правителе, то именно в экстремальных ситуациях решающую роль играют его воля к принятию ответственных решений, способность направить народ на путь их практической реализации. События, последовавшие через год-два после утверждения Буян-Бадыргы в должности правителя хошуна, показали его способность принимать решительные меры, от которых зависит судьба народа.
В Китае произошла Синьхайская революция, начавшаяся Учанским восстанием 1911 года, а завершившаяся свержением маньчжурской династии Цин и провозглашением республики. Вслед за этими событиями в Туве, как и в соседней Монголии, развернулось национально-освободительное движение. Китайскую администрацию и торговцев изгнали за пределы страны. Перед тувинскими правителями хошунов встал исторический вопрос о дальнейшей судьбе своего народа. В конце 1911 года они начали готовить съезд для решения вопроса о будущем Тувы.
Съезд созвали в январе 1912 года 56. На нём сразу столкнулись совершено разные взгляды. Группировка амбын-нойона Комбу-Доржу выступала за присоединение к России. К ней примкнул представитель нарождающейся торговой прослойки богач Агбан, всячески защищавший идею присоединения. Он подчёркивал, например, тот факт, что, несмотря на многолетнее хозяйничанье, китайские купцы не снабжали население необходимыми предметами потребления и что отдельные тувинские араты находятся за чертой крайней бедности. Русские же, говорил он, привозят товары, жизненно нужные для края. В отношении сторонников другой ориентации, монгольской, он иронизировал 57:
«Что Монголия? Чем она лучше Тувы? Что она может нам предоставить кроме масла, которого у нас самих есть? Россия — это сила. Она способна ввозить в Туву не только ткани, но и железо и железные орудия».
Покровительства Монголии искала группа во главе с салчакски-ми и тоджинскими нойонами. Входившие в неё крупные ламы и чиновники, резко возражая Агбану, указывали на важность духовного и религиозного начала, идущего из Тибета и Китая, и призывали ориентироваться на восточные страны 58.
В конечном счёте съездом было принято решение объявить Урянхай «независимым, находящимся под покровительством и защитой Российского государства» 59.
Гун нойон Буян-Бадыргы был яркой и сильной личностью. В первые годы своего правления он продолжил линию, которую проводил его приёмный отец — Хайдып угерда. Её можно определить как в целом антироссийскую и прокитайскую, что подтверждается намерением Буян-Бадыргы прекратить торговлю с Россией, а также тем, что он сформировал двухтысячную армию для охраны китайских торговых точек в Туве. В ходе национального антикитайского движения, вспыхнувшего в Урянхайском крае в декабре 1911 года, хемчикские нойоны во главе с Буян-Бадыргы выступили в защиту китайских торговцев. Они обвиняли амбын-нойона Комбу-Доржу в попустительстве погромам китайских фирм и лавок. В частности, узнав о погроме в Оюннарском хошуне, Буян-Бадыргы заявил 60:
«Допущенные чиновниками Оюннарского хошуна разгром и ограбления китайской фирмы и её лавок совершены незаконно. За то, что допустил эти бесчинства, амбын-нойону быть без головы. Считаю впредь недопустимым беспокоить китайцев. Маньчжурская власть над Тувой была и остается в силе».
Движение восставших аратов на реках Торгалык и Чадан вообще было подавлено.
Скорее всего, в поведении Буян-Бадыргы сказались в данном случае верность взглядам приёмного отца и полученное им воспитание. А воспитан он был в духе верноподданного Китайской империи и потому не сразу осознал, что богдыхана нет и власть, казавшаяся вечной, как Синее Небо, рухнула. Но вскоре сам факт падения маньчжурской династии и провозглашения независимости Внешней Монголии, а также изгнание китайских торговцев из Тувы в корне изменили взгляды Буян-Бадыргы. По мере усиления притязаний на Урянхайский край Внешней Монголии нойон Даа хошуна начал склоняться на её сторону. Вслед за отправленными в Ургу в апреле 1912 года прошениями правителей Салчакского и Тоджин-ского хошунов о принятии их в подданство, с аналогичными просьбами обратились и правители Даа и Бээзи хошунов. Параллельно усиливается антирусская агитация, проводником которой был
Чжалханцы-хутухты — глава Цзасактухановского аймака, действовавший по указаниям правительства в Урге. Последнее, считая тувинцев своими подданными, обложило их обременительными повинностями и налогами, распространило на них монгольские законы, посылало в Урянхайский край монгольских чиновников, которые собирали подати с тувинцев.
Между тем ко второй половине 1913 года царское правительство добилось от Китая согласия на то, что вопросы, так или иначе связанные с Внешней Монголией, будут решаться путём переговоров с Россией. Видя усиление позиций России в Монголии и Туве и улавливая настроения подданных своего хошуна, Буян-Бадыргы счёл более благоразумным переориентироваться на царскую Россию. 26 октября 1913 года им через заведующего делами Усинского пограничного округа А. Церерина было отправлено прошение на Высочайшее имя императору Николаю II 61:
«Около трёхсот лет тому назад (в 1616 году) при первом русском царе из царствующего ныне дома Романовых Михаиле Федоровиче предки наши, кочевавшие по реке Кемчику, присягали на подданство России через первого русского посланца в этом крае Василия Тюменца. Ныне, с упразднением в Китае маньчжурской династии и с провозглашением Монголией своей независимости, я и мой хошун остались без покровительства, а существовать самостоятельно мы, урянхи, ввиду малочисленности, по-прежнему не можем. Потому я и мои духовные и светские чиновники и весь народ после тщательного и продолжительного обсуждения создавшегося положения единодушно решили просить великого Цаган-хана 62 принять весь хошун под свою высокую державную руку и покровительство...»
17 апреля 1914 года было официально заявлено о протекторате России над Урянхайским краем. Надо отметить, что прошение Бу-ян-Бадыргы было хорошо аргументированным, продуманным и дальновидным, что выразилось в настоятельной просьбе сохранить прежнее административно-территориальное деление края, прежние титулы, чины, должности и знаки отличия и в особенности не препятствовать исповеданию буддийской религии, а также освободить тувинцев от воинской повинности, налогов на пастбища, рыбный и звериный промыслы.
Все эти просьбы были удовлетворены, что значительно облегчило материальное и бытовое положение тувинцев. Началось строительство краевого центра, города Белоцарска, план которого согласовывался с Буян-Бадыргы. Если учесть, что ему в то время было всего лишь
22 года, то надо признать его умение правильно оценить ситуацию и принять решение, оптимальное с точки зрения интересов народа.
Несмотря на необычайную одарённость, организаторские способности, умение вести за собой, даже великим императорам не удавалось изменить ход истории в одиночку. Правителя всегда окружают люди, на него влияющие. В окружении Буян-Бадыргы было немало проходимцев, никчемных и жестоких людей, думавших лишь о сиюминутной личной выгоде. Но были рядом с ним и действительно талантливые, мужественные и дальновидные государственные деятели. Об одном необходимо упомянуть — это родной брат Хайдыпа камбы-лама 63 Верхне-Чаданского хурээ (монастыря) Лопсан Чамзы. Он родился в 1857 году, духовное образование получил в одном из монастырей Тибета и в Туву вернулся человеком грамотным, обладавшим глубокими познаниями в области буддийской философии, обрядовой практики буддизма, тибетского и монгольского языков. Русские путешественники отмечали его мудрость, интеллигентность и любовь к народу. Например, Н. Леонов писал 64:
«Один из тувинских лам произвёл на меня огромное впечатление своей богатой душевной жизнью, своими интересами, насквозь проникнутыми глубокой любовью к родной стране. Прежде всего, меня поражало в нём его бескорыстие и отсутствие личной заинтересованности и свойственной нам суеты. Одна мысль о том, как бы помочь танну-тувинскому народу, наладить его жизнь, постоянно владела целостной душой старого ламы. В этом отношении он был изумительным однолюбом, служителем одной идеи».
Лопсан Чамзы был ярым сторонником присоединения к России, поскольку был убеждён в том, что только оно даст импульс дальнейшему развитию и процветанию Тувы. В феврале 1913 года он, вторым после амбын-нойона Комбу-Доржу, написал прошение о присоединении к Российской империи 65. Именно его влиянием во многом объясняется изменение внешнеполитических предпочтений угерда Буян-Бадыргы. Но в дальнейшем их пути расходятся. Октябрьская революция и Гражданская война поколебали веру Буян-Бадыргы в то, что Россия может быть надёжным патроном Тувы. Как следствие, в 1918 году Даа хошун был принят в монгольское подданство; правда, выразилось это фактически только в том, что Буян-Бадыргы в подтверждение его статуса правителя получил от Чжалханцы-ху-тухты титул Эртине бэйсе и печать 66. Напротив, Лопсан Чамзы продолжал вести линию на дальнейшее сближение с Россией. Видя в правительстве А. В. Колчака преемника Российской империи, он всячески поддерживал комиссара этого правительства по делам Урянхайского края А. А. Турчанинова. В 1919 году Лопсан Чамзы совершил поездку в Омск, где лично встретился с Колчаком. Впоследствии это трагически сказалось на его судьбе: по воспоминаниям современников 67, он был обвинен в антинародной деятельности и расстрелян в 1930 году.
IV
Самым знаменательным событием в истории тувинского народа, безусловно, является созыв Всетувинского Учредительного Хурала — съезда представителей всех тувинских хошунов в местечке Суг-Бажы, где находился русский поселок Атамановка (ныне село Кочетово Тандинского кожууна). Хурал проходил с 13 по 16 августа 1921 года, на нем присутствовало 63 представителя от семи хошунов из девяти (от Хасутского и Сартульского хошунов представителей не было) 68. От Советской России присутствовали 17 представителей, в том числе Председатель Сибирского революционного комитета И. Г. Сафьянов 69, от Народно-революционной Монголии — три, был также представитель Дальневосточного секретариата Коминтерна Цивенджапов. Председателем съезда избрали, как значится в протоколе 70, Буян-Бадыргы из Монгуш сумона Даа хошуна.
Хурал единодушно проголосовал за резолюции об установлении в Туве «нового порядка и новой власти» и о том, что «Народная республика Танну-Тува является свободным, ни от кого не зависящим в своих внутренних делах государством свободного народа» 71. Съездом была принята Конституция Тувинской Народной Республики, состоявшая из 22 статей. Буян-Бадыргы на съезде показал себя осторожным, внимательным, в меру демократичным политиком, безусловно — сторонником независимой и самостоятельной Тувы. В то же время он считал необходимым сохранить определённую преемственность с прежними обычаями и законами. В частности, Председатель Учредительного Хурала не согласился с изменением мер наказаний в параграфе Конституции о правосудии и с отменой пыток подозреваемых, заявив 72:
«Мы, Хемчикские хошуны, ещё дома выработали свою Конституцию, в которую вошли все параграфы предложенного на съезде проекта, кроме пяти. Из этих пяти для нас неприемлемым является только один параграф, а именно: о правосудии, где говорится, что допросы с пристрастием отменяются. При отсутствии свидетелей и доказательстве обвиняемых в сознании, мы не можем сейчас отменить палки и другие меры воздействия при следственном допросе преступников».
Тем не менее в ходе обсуждения этого вопроса пришли к заключению, что всё-таки следует отказаться от пыток, поскольку они будут позорить народ и государство, разрешающее применять их при допросе свидетелей 73.
Ещё в одном вопросе — вопросе о равноправии граждан новой республики Буян-Бадыргы тоже занял особую позицию. Однако она диктовалась не столько его заботой о собственных сословных привилегиях, сколько традиционным представлением об общественном благе и о справедливом воздаянии тем, чья деятельность способствует благу 74:
«Мне кажется, что, решив самый главный для нас вопрос о самоопределении с помощью представителей Советской России, в решении всех других вопросов необходимо предоставить полную самостоятельность представителям Танну-Тува, т. к. они знают свою жизнь и обычаи (и, руководствуясь многолетним опытом, решат их более правильно)... Вот я думаю, что права каждого гражданина определяются его деятельностью и тем положением, на которое его выдвинула жизнь, выдвинул весь народ. Например, я не мог бы согласиться в душе с тем, чтобы данный съезд сравнял меня в правах с самым последним человеком нашего хошуна. Такое решение было бы для меня приемлемо только в том случае, если бы оно было вынесено тем хошуном, которым я управлял и перед которым я показал свою несостоятельность».
Монгуш Буян-Бадыргы был избран в первый состав Правительства Тувинской Народной Республики. В 1922 году он стал заместителем Председателя Совета Министров, присутствовал на заседании Центрального Комитета Тувинской народно-революционной партии как член партийной фракции правительства. 3 декабря 1923 года он получил партбилет за № 16 75.
В 1923 году Буян-Бадыргы избирается на пост Председателя Совета Министров республики (рис. 2). Будучи главой Правительства и министром иностранных дел ТНР, он возглавил в июле-августе 1924 года тувинскую правительственную делегацию на проходивших в Кызыле переговорах с Монголией и Советским Союзом. На них обсуждались пути урегулирования вооруженного конфликта в хем-

Рис. 2. Правительство ТНР. Буян-Бадыргы в центре. 1925 год чикских хошунах 76 и вопрос о присоединении Тувы к Монголии, поставленный двумя хошунами и рядом сумонов. Конфликт разрешился мирно, а по второму вопросу в Декларации делегаций СССР и Монгольской Республики говорилось, что воля тувинского народа была учтена на Всетувинском Учредительном Хурале 77.
Советская Россия признала республику ещё в 1921 году. В июле 1925 года в Москве было заключено соглашение между СССР и ТНР об установлении дружественных отношений. В августе 1926 года последовало признание независимости ТНР и со стороны МНР. В Улан-Баторе был подписан договор об установлении дружественных отношений между республиками 78.
В. А. Дубровский отмечает, что «бывший гун-нойон Монгуш Бу-ян-Бадыргы в силу своего природного дарования и образованности, ума и дальновидности достиг вершин политической карьеры. Пользовался заслуженным авторитетом у тувинцев, русских и монголов» 79. При нём и с его участием были разработаны и приняты конституции республики 1921, 1924, 1926 годов. В Кызыле Буян-Ба-дыргы бывал наездами, постоянно он жил с семьёй возле Верхнего Чаданского храма, на правом берегу одноименной реки. В глазах современников он был отмечен образованностью и интеллигентностью: свободно владел монгольским и русским языками, знал санскрит 80. Как дипломат он показал себя умелым и целеустремлённым защитником интересов своего народа. Он мог наперекор мнению большинства защищать какие-то представления о должном, запе- чатлевшиеся в его сознании в юности, — но мог и отказываться от них, когда понимал, что те или иные его взгляды не соответствуют требованиям времени. Тогда он сам выступал за разрыв с традицией, как это, например, произошло на II съезде ТНРП, где именно он 6 июня 1923 года высказался за отмену прежних титулов, званий, чинов и должностей, знаков отличия и форм приветствия 81.
В октябре 1925 года ЦК ТНРП ввел пост Генерального секретаря и создал Политическое бюро. Первым Генсеком ЦК партии стал Буян-Бадыргы. В декабре того же года он открывал первый Всетувинский хурал Союза революционной молодежи и выступил на нём с приветственной речью. Его избрали почётным ревсомольцем, почётным гостем президиума съезда и в первый состав ЦК ТРСМ 82. На первом Малом хурале ТНР в ноябре 1926 года Буян-Бадыргы избирается министром финансов. В этом качестве он в августе 1927 года подписывал договоры с русскими артелями на разведку и добычу золота 83.
Советские и коминтерновские работники воздавали должное Монгушу Буян-Бадыргы. Представитель НКИД советник Тувинского правительства П. Медведев отмечал, что в первые дни революционного движения Буян-Бадыргы сам отказался от своего чина и стал решительно на сторону народа. А будучи Председателем Совета Министров проявил себя как «крепкая государственная сила» и прекрасный администратор 84. А. Г. Старков, полномочный представитель СССР в Туве и один из опытных работников Коминтерна в Монголии, лично знал Буян-Бадыргы и стремился укрепить его позиции в партии 85.
V
О последних годах жизни и деятельности Буян-Бадыргы мы имеем отрывочные сведения. Во второй половине 1920-х годов он, равно как и его соратники, был отодвинут на вторые роли. Данное обстоятельство знаменовало собой значительные изменения в политической жизни страны, близящуюся борьбу с «правыми» и, в конечном счете, поражение национальной демократии.
Со всей силой своего авторитета Буян-Бадыргы защищал буддизм. Как говорится во втором томе «Истории Тувы», подготовка которого курировалась самим Салчаком Тока 86, в марте 1928 года при содействии и активном участии некоторых реакционеров, таких как Буян-Бадыргы, Соднам 87, Дондук 88 и других, еще не изгнанных из правительства и ЦК ТНРП, был созван Всетувинский съезд лам (буддийский собор) с целью укрепления устоев ламаизма 89. В 1928 году встречается подпись Буян-Бадыргы как секретаря Малого Хурала, одно время он являлся заведующим следственным отделом внутренней охраны страны 90. Из писем, адресованных Восточному отделению Коминтерна, известно, что в 1928 году Буян-Бадыргы занимал должность начальника Госторга, причём его уже характеризуют как активного деятеля «правых», защитника духовенства и противника революционных изменений в Туве. По мнению представителей Коминтерна, «людьми важными и дающими тон всей политики Правительства и Политбюро партии являются люди “правого” происхождения. Например, Буян-Бадыргы со своим ставленником Содунамом, затем Далха-Сюрюн 91 и другие. Все они феодалы и богачи. Остальные являются людьми второстепенными, которые остаются совершенно пассивными или же молча, чувствуя свое меньшинство, переносят всё то, что делается в присутствии их» 92.
Не зря 1927–1928 годы считаются переломными, знаменующими наступление второго периода развития Тувинской Народной Республики, когда начинаются активные перемены в политическом курсе, борьба между так называемыми «правыми» и «левыми». «Правыми» в данном случае считались бывшие князья, крупные чиновники, ламы и зажиточные тувинцы. Буян-Бадыргы, как наиболее активный представитель старой чиновничьей аристократии, вызывал наибольшую неприязнь со стороны «левых», стремившихся к безраздельной власти. При поддержке Коминтерна «левые» с 1928 года всё активнее проводят линию на очистку Народно-революционной партии от «чуждых элементов» 93, выражают недовольство отношением командированных советских работников к бывшим чиновникам, в частности к Буян-Бадыргы 94.
Часть раздававшихся в адрес Буян-Бадыргы критических замечаний следует признать справедливыми. Он стремился сохранить некоторые черты старого тувинского быта: в уголовное законодательство была введена смертная казнь за воровство (за 1927 год были расстреляны свыше десяти человек, обвинённых в воровстве), при допросах, как и встарь, применялись пытки, несмотря на осуждение их Всету-винским Учредительным Хуралом 95. Однако главным обвинением, предъявленным Буян-Бадыргы на II пленуме Тувинской народно-революционной партии, проходившем с 7 по 11 января 1929 года, были не эти прегрешения, а княжеский титул, должность правителя хошу-на, поддержка духовенства и бывших чиновников 96. Приведём в этой связи краткий отрывок из стенограммы конференции членов партии Хемчикского 97 хошуна, проходившей 26 января 1929 года 98:
«Дамдын-Сюрюн (он же Талха-Сюрюн. — С. Х. ) и Буян-Бадыргы во время господства маньчжурской власти и во время Гражданской войны занимали ответственные должности, в то время считались большими чиновниками, а поэтому в дальнейшем не нужно привлекать в работе Правительства и на местах. А также необходимо исключить их из партии».
В 1928 году — начале 1929 Буян-Бадыргы ещё занимал должность председателя Законодательной Комиссии. К этому времени относится хлёсткая характеристика, данная ему представителем ЦК ВЛКСМ на IV съезде Тувинского ревсомола В. Мачавариани, вместе с С. Третьяковым написавшим очерки «В Танну-Туву». В «Очерках» говорится следующее 99:
«Если Буян Бодерхо (встречавшийся тогда вариант написания имении Бу-ян-Бадыргы. — С. Х. ) — это бывший хозяин, который знает, что он перестал им быть, то в Дондуке чувствуется властный сегодняшний распорядитель. ...Буян Бодерхо был представителем феодалов и его сменил Дондук, лидер тех зажиточных скотоводов и чиновников, которые только после революции стали политической силой. Но и время Дондука проходит. Его сменяет Сод-нам. Он — арат. Пославшие его только собираются стать хозяевами Тувы».
Со слов авторов книги рисуется такая картина: Буян-Бадыргы работает над законами о семье и браке; понимает, что время его прошло; вроде бы и не пытается вернуть себе прежнее высокое положение. Будто бы он даже заявил: «Настало время аратов, они правят страной, и нам нужно уходить. Я буду рад, если мне разрешат и далее писать законы для республики». А после встречи с московскими представителями просидел целую ночь, переписывая и стилистически выправляя перевод доклада Мачавариани о V конгрессе Коммунистического Интернационала Молодежи 100...
В годы революции бывший нойон сумел понять необходимость перемен и использовал все доступные меры для защиты интересов народа. Он и дальше мог бы делать много полезного для своей страны. Но наступало действительно новое время, в котором ему не было места. В СССР укреплялись административно-командная система, никем и ничем не ограниченный культ личности Сталина. То и другое отрицательно сказалось и на Туве.
Начавшаяся политическая борьба между «левыми» и «правыми» привела карьеру Буян-Бадыргы к логическому концу. Большого мастера компромиссов, необходимых в политике уступок, обвинили в «политическом хамелеонстве» и в поддержке правого уклона, не соответствующего «аратской идеологии». В конце декабря 1928 — начале января 1929 года состоялся IV съезд ТРСМ, при поддержке партийцев подвергший резкой критике политику так называемых «правых», лидером которых назвали Буян-Бадыргы. Затем второй объединенный пленум ЦК и ЦКК ТНРП осудил политику «правых» и обновил состав ЦК. Ана VIII съезде ТНРП в октябре–ноябре 1929 года секретарями ЦК были избраны бывший председатель ЦК ТРСМ Иргит Шагдыржап 101 и только что окончивший Коммунистический университет трудящихся Востока Салчак Тока. К руководству в партии и государстве пришли так называемые «левые». Некоторые из них сначала вступили в ВКП (б) и строго выполняли поступавшие оттуда инструкции и указания. Коллегия восточного секретариата Коминтерна полностью одобрила решения VIII съезда ТНРП 102.
Буян-Бадыргы был исключён из партии и решением Верховного Совета ТНРП от 16 октября 1929 года снят с занимаемой должности. В тот момент он и ещё 16 бывших руководителей уже находились под арестом. Семью его насильственно переселили в другой хошун.
О трагической гибели Буян-Бадыргы, как и о первых годах его жизни ходят легенды. Говорят, что его убили без суда и следствия в марте 1930 года на Хемчике 103. Но вот усилиями К. Т. Аракчаа в Государственном архиве Республики Тыва найдены документы, проливающие новый свет на те события. В анонимном письме-донесении из Самагалтая, датируемом декабрем 1930 года, упоминается о заключении Буян-Бадыргы и Чымба Бээзи (Бэйсе), бывшего правителя второго хемчикского хошуна, в тюрьму в Кызыле 104. Несколькими месяцами раньше, 17 марта 1930 года в Хемчикском хошуне начался вооруженный мятеж аратов. Тогда считалось, что он был спровоцирован представителями бывшей знати и буддийского духовенства с целью дискредитации новой власти. Вероятно, бывшие нойоны были арестованы под тем предлогом, что «готовили» эти выступления. Но главный документ, обнаруженный в бывшем партийном архиве в декабре 1992 года, это протокол № 4 заседания Политбюро ЦК ТНРП, состоявшегося 22 марта 1932 года. На заседании присутствовали Шагдыржап, Тока и еще 15 человек, протокол писался рукой Шагдыржапа, первого секретаря ЦК ТНРП. Обсуждался вопрос «о контрреволюционных бандитско-грабительских участ- никах группы и злоупотреблении своим служебным положением, умышленно принимавших участие в Хемчикском восстании черножелтых феодалов Буян-Бадыргы, Дондука, Шагдыра, Бойду» 105. Было решено «утвердить проект постановления внутренней политической охраны, где предлагается приговорить их по 41 статье Уголовного кодекса к расстрелу» 106.
В это время Буян-Бадыргы было всего 40 лет. До сих пор не найдено место, где его расстреляли. Справедливо сказано: «Революция пожирает своих детей».
VI
Мы попытались эскизно обрисовать жизнь и деятельность Монгу-ша Буян-Бадыргы, сделать набросок к его политическому портрету. Эскизно потому, что для полного портрета Буян-Бадыргы не хватает исходного материала — документальных источников. Так, до сих пор не обнародован архив нойона Даа хошуна. Если будут переведены со старомонгольского на тувинский или русский языки архивные материалы за период с 1905 по 1921 годы, может быть, откроются новые грани его жизни, в которой сейчас столько белых пятен! Пока же о многом мы знаем только отрывочно, из воспоминаний современников. Например, о том, что детей у него не было, и они с женой удочерили девочку по имени Дембикей 107. Или о том, когда и где был арестован Буян-Бадыргы: по воспоминаниям ветерана труда Степана Хаварыковича Сыгыртаа 108 «...зимой 1929 года, в местечке Кадыр-Эл возле Серой горы (Куу-Даг). Там было его кочевье».
Не облегчила нам задачу и имеющаяся историография. В советские времена подход историков, например Ю. Л. Аранчына и В. Ч. Очура, к оценке Буян-Бадыргы был сильно политизированным: он изображался ярым сторонником прокитайской, затем промон-гольской ориентации, антинародным правителем и реакционером 109. Исследователи последнего десятилетия — М. Б. Кенин-Лопсан, В. А. Дубровский, С. Ч. Сат, Г. А. Ондар, С. В. Саая и другие — напротив, видят в Буян-Бадыргы одни добродетели: истинный демократ, защитник интересов народа 110. Интересен подход Н. М. Молле-рова, который характеризует Буян-Бадыргы как стойкого консерватора, защитника старых устоев жизни тувинцев, ставшего на путь прогрессивных изменений в обществе. Моллеров считает, что «в иной, более демократической правовой среде этот консерватизм мог бы служить противовесом левых перегибов, но всё закончилось трагически» 111.
Несомненно одно: несмотря на противоречивые, порой диаметрально расходящиеся оценки специалистов, Монгуш Буян-Бадыргы должен быть признан выдающейся личностью своего времени. Выдающейся личности свойственно активное созидательное отношение к миру, постоянное развитие своих интеллектуальных и духовных качеств. Такая личность меняет социальную организацию общества, приспосабливая её для дальнейшего развития человеческих способностей. Всё это справедливо может быть отнесено к Буян-Бадыргы. По своим природным способностям и деловым качествам, по уровню культуры и владению словом он превосходил других политический деятелей Тувы.
Буян-Бадыргы прошел длинный путь: начав его сыном арата, сделался правителем хошуна, а затем и всей Тувы — когда та стала Тувинской Народной Республикой. Опираясь на прежний управленческий опыт, полученный им на уровне хошуна, он успешно обучался новым методам управления страной; используя старые законы и обычаи, он строил новый общественный порядок, в котором ему не оказалось места...
Список литературы Личность в истории: Монгуш Буян-Бадыргы (1892-1932)
- Философия: Учебник для вузов/Под ред. проф. В. Н. Лавриненко, проф. В. П. Ратникова. М., 2001. С. 640-641.
- Маннай-оол М. Х. Буян-Бадыргы и его роль в создании и становлении ТНР (к 80-летию образования ТНР)//Башкы, 2001. № 2. С. 66-70
- Дубровский В. А. Буян-Бадыргы (105 лет со дня рождения)//Люди и события. Год 1997. Кызыл, 1996. С. 26-33
- Дубровский В. А. О нем ходят легенды (О жизни и деятельности хун-нойона Монгуш Буян-Бадыргы)//Тувинская правда, 1993, 25 февраля
- Моллеров Н. М. Лицо и маски Буян-Бадыргы//Молодежь Тувы, 1991, 11 ноября
- Моллеров Н. М. Сотвори себе правого и убей его. Хроника одного дворцового переворота в Туве: 20-е гг.//Молодежь Тувы, 1992, 14 февраля
- Кенин-Лопсан М. Б. Буян-Бадыргы (политический портрет создателя тувинского государства)//Тувинская правда, 2003. № 100, 104.
- Кенин-Лопсан М. Б. Буян-Бадыргы. Роман-эссе. В 2-х кн. Кызыл, 2000.
- Заслуженные люди Тувы XX века. Государственная книга Республики Тыва. Кызыл, 2004. С. 61-64.
- Монгуш М. В. История буддизма в Туве. Новосибирск, 2001; она же. К вопросу о восстановлении Верхне-Чаданского хурэ//Гуманитарные исследования в Туве. Сб. научных трудов. М., 2001
- Дацышен В. Г., Ондар Г. А. Саянский узел: Усинско-Урянхайский край и российско-тувинские отношения в 1911-1921 гг. Кызыл, 2003
- Саая С. В. Россия -Тува -Монголия: «центрально-азиатский треугольник» в 1921-1944 годах. Абакан, 2003
- Москаленко Н. П. Этнополитическая история Тувы в XX в. М., 2004.
- Дубровский В. А. Установление покровительства России над Тувой в 1914 г.: Архивные документы: к 80-летию объявления протектората (покровительства)/Сост. В. А. Дубровский. Кызыл, 1994
- Минцлов С. Р. Секретное поручение (путешествие в Урянхай). Рига, 1915
- Мачавариани В., Третьяков С. В Танну-Туву. М.-Л., 1930
- Потапов Л. П. Очерки народного быта тувинцев. М., Наука, 1969. С. 38)
- Липовцев С. В. Уложение Китайской палаты внешних сношений. Пер. с маньчжур. Т. I. СПб, 1828. С.100.
- Бруннерт И. С., Гагельстром В. В. Современная политическая организация Китая. Пекин, 1910. С. 371.
- Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии. СПб., 1883. С. 12.
- А. М. Позднеев. Пять китайских печатей//Отдельный оттиск из «Записок Восточн. Отдел. Имп. Русск. Археолог. Общества». Т. IX. СПб., 1896. С. 281-282
- Маннай-оол М. Х. Тувинцы: Происхождение и формирование этноса. Новосибирск, Наука, 2004. С. 113.
- Кабо Р. М. Очерки истории и экономики Тувы. Ч. 1. Дореволюционная Тува. М.-Л., 1934. С. 65.
- Дулов В. И. Социально-экономическая история Тувы (XIX -начало XX вв.). М., 1956. С. 180.
- Нацов С. Национально-освободительное движение тувинских скотоводов//Новый Восток, 1927. № 19. С. 42.
- История Тувы: в 2 т. Т. I. 2-е изд., перераб. и доп./Под общ. ред. С. И. Вайнштейна, М. Х. Маннай-оола. Новосибирск, 2000. С. 229-230
- Вайнштейн С. И. Тувинцы-тоджинцы: Историко-этнографические очерки. М., 1961.
- Сафьянов И. Г. Прошлое и настоящее сойотского народа//Сибирский архив, 1915. № 1. С. 10
- Монгуш М. В. История буддизма в Туве. Новосибирск, 2001. С. 47
- Позднеев А. М. Монголия и монголы. СПб., 1896. С. 310, 363
- Попов В. Урянхайский пограничный вопрос». Иркутск 1910. С. 16-18
- Леонов Н. Танну-Тува. Страна голубой реки. М., 1927. С. 36.
- Родевич В. М. Очерк Урянхайского края (монгольский бассейн р. Енисея). СПб. 1910. С. 126-127, 130-131, 136-137,140-143, 152-167
- Медведев П. 5 лет борьбы за освобождение тувинского народа и Буян-Бадраху//Красный пахарь, 1926, 22 февраля
- Дубровский В. А. О нём ходят легенды: О жизни и деятельности хун-нойона Монгуш Буян-Бадыргы//Тувинская правда, 1993, 25 февраля
- Мачавариани В., Третьяков С. В Тану-Туву. М., 1930. С. 76-77.
- Олзей С. Азыраан уруу Дембикей (Дембикей -дочь Буян-Бадыргы)//Шын, 1993, 26 апреля.