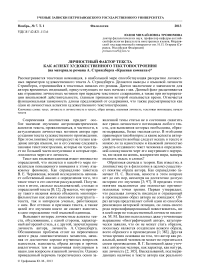Личностный фактор текста как аспект художественного текстопостроения (на материале романа А. Стриндберга «Красная комната»)
Автор: Трофимова Юлия михайловнА.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (136) т.1, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается текстовая номинация, в наибольшей мере способствующая раскрытию личностных параметров художественного текста А. Стриндберга. Делаются выводы о языковой личности Стринберга, отразившейся в текстовых началах его романа. Дается заключение о значимости для автора временных индикаций, присутствующих во всех началах глав. Данный факт расценивается как отражение личностных мотивов при передаче текстового содержания, а также при интерпретации внеязыковой действительности, главным признаком которой оказывается время. Отмечается функциональная зависимость длины предложений от содержания, что также рассматривается как один из личностных аспектов художественного текстопостроения.
Текст, личность и личностность в тексте, образ автора, языковая личность, текстовая номинация, начало текста
Короткий адрес: https://sciup.org/14750540
IDR: 14750540 | УДК: 81’42:821.113.6
Текст научной статьи Личностный фактор текста как аспект художественного текстопостроения (на материале романа А. Стриндберга «Красная комната»)
Современная лингвистика придает особое значение изучению антропоцентрических аспектов текста, проявляющихся, в частности, в актуализации личностных мотивов автора при создании текста художественного произведения. При этом лингвистику интересует не только владение автора языком, но и его умение следовать законам текстопостроения, которые он чувствует по большей части интуитивно и которые преломляются через его личность.
Текст как языковая единица имеет множество определений, что является в какой-то мере показателем повышенного внимания к этому языковому феномену. Как справедливо заметила В. Е. Чернявская, всякий исследователь начинает собственный анализ с определения того, что такое текст в его системе рассуждений. Получается в итоге, сколько исследователей, столько и определений текста [8; 12]. Думается, что причину такого явления можно объяснить многопро-фильностью как самого языкового конструкта – текста, так и интересов ученых, работающих с ним. Все оттенки и признаки текста, а также целей его изучения никто не сможет вместить в одно определение этой языковой единицы.
Вызывают интерес личностные аспекты текста, обусловившие, с одной стороны, характерный авторский стиль, а с другой, запечатлевшие личность автора, личность А. Стриндберга. Обозначенная проблема стоит на пересечении целого ряда лингвистических моментов, начиная от достаточно хорошо изученных вопросов идиостиля, идиолекта, образа автора и прочих аналогичных тем и заканчивая популярным в наши дни вопросом языковой личности. Однако приведенный перечень теоретических основ за
явленной темы статьи не в состоянии охватить все грани личностного потенциала любого текста, для выявления которых необходима, образно выражаясь, более «мелкая сеть». В этой связи правомерен такой вопрос: а какие аспекты авторской личности вообще следует искать в тексте и можно ли за идиостилем и языковой личностью увидеть создавшего текст человека в определенной совокупности черт его внутреннего портрета, взглядов на жизнь, восприятия мира, манеры излагать мысль в словах?
Обратимся сначала к теории. Как известно, в лингвистике (и в филологии в целом) существует понятие образа автора. Как справедливо замечает Н. С. Валгина, ясности в этом вопросе нет до сих пор, несмотря на достаточно долгую историю его изучения [3; 97]. В пределах этого понятия выделяются две полностью противоположные точки зрения. Первая утверждает, что реальная личность писателя и отраженный в произведении образ автора не совпадают. Образ автора представляет собой один из способов реализации авторской позиции, он лишь своего рода персонифицированный повествователь, ни в коей мере не тождественный личности писателя. М. М. Бахтин использовал даже уточняющее выражение «биографический автор», категорически заявляя, что он не может стать образом, поскольку является создателем всякого образа, всего образного в произведении [1; 383]. Другая точка зрения основана на том, что автор как реальный, живой человек не может не отразиться в своем произведении. В. Г. Белинский даже уточнял: автор как человек, как характер, как натура, как личность [2; 305]. Высказываний, подтверждающих наличие в тексте автора как реального человека, можно привести множество, но мы отметим лишь два, привлекательные своей убежденностью: «Всякое художественное произведение есть всегда верное зеркало своего творца, и замаскировать в нем свою натуру ни один не может» (В. В. Стасов); «Творчество самого талантливого автора обязательно отражает его личность, ибо в том-то и заключается художественное творчество, что внешний объективный материал перерабатывается вполне индивидуально психикой художника» (В. В. Воровский).
Две названные позиции не так уж непримиримы. Они, скорее всего, высвечивают разные аспекты такой емкой проблемы, как вербальное явление, в любом случае созданное человеком, который не может быть к нему непричастным. Пусть это не впишется в рамки образа, но человек (в том числе реальный, биографический) в тексте отражен. Отражен и человек абстрактный, отвлеченный, которому «ничто человеческое не чуждо» и который в разных вариациях и с разной степенью полноты и оценки пишет, в сущности, о проблемах, волнующих опять же человека. Более того, человек-автор отражается в тексте во всем спектре своих эмоций, душевных порывов (особенно в стихах), он отражается также и в изменении собственного характера, взрослении. Не случайно же возникла такая метонимия, как ранний Булгаков, люблю (не люблю) Пушкина и т. д., когда, имея в виду текст, называют человека. Можно, следовательно, заключить, что образ автора в тексте напрямую коррелирует с реальным человеком. Более того, как отмечает Б. О. Корман, жизнь, биография, внутренний мир во многом служат для писателя исходным материалом. Резюмируя, Б. О. Корман, заключает, что в основе художественного образа автора (как и всего произведения в целом) лежат, в конечном счете, мировоззрение, идейная позиция, творческая концепция писателя [6; 10]. Из перечисленных Б. О. Корманом моментов складывается весьма заметный блок личностного авторского материала, усиленный к тому же авторской (т. е. опять же личностной) переработкой. Подчеркнем, что «мировоззрение, идейная позиция, творческая концепция писателя» далеко не исчерпывают личностный фактор текста и образ автора, отраженный в нем.
В разных определениях образа автора обращают на себя внимание спорадически повторяющиеся лексемы «личность», «личностный» и т. п. В этой связи нельзя не заметить, что в настоящее время заметно увеличивается число лингвистических работ, посвященных проблеме личности и личностности в тексте. Одной из заметных работ такого рода является статья В. З. Демьянкова, посвященная личности, индивидуальности и субъективности в языке и речи [4]. При разграничении понятий «личность» (person) и «личностность» (personality)
он ссылается на Дж. Лайонза, согласно которому личность представляет собой выводное знание о чертах конкретной личности, это «характер», взятый в привязке к данному человеку, в данном эпизоде общения с ним. С другой стороны, лич-ностность – это «гипотетическая конструкция, о которой мы делаем предположения, исходя из того, что говорит (или о чем умалчивает), что делает (или от чего воздерживается) человек; с помощью этой конструкции мы пытаемся объяснить стабильные черты характера, отличающие данного человека от остальных и дающие основания для прогноза будущего поведения данного субъекта в данных обстоятельствах» [4; 15].
Имеет смысл упростить вышесказанное: личность – это человек (автор), личностность – выводимая дедуктивным способом абстракция, позволяющая сделать заключение о поведении (т. е. деятельности, в том числе и творческой) личности автора. Заметим только, что «черты характера» опять же не охватят всего личностного блока текста. В конечном итоге В. З. Демьянков все сводит к языковой личности, делая акцент на том, что важнейшим видом личности и личност-ности является «языковая личность», основные параметры которой, предложенные Ю. Н. Карауловым (и многократно цитируемые в самых разных работах), отражаются при создании текстов, различающихся: а) степенью структурноязыковой сложности; б) глубиной и точностью отражения действительности; в) определенной целевой направленностью [5; 36–40].
По-видимому, в рассматриваемом вопросе у лингвиста нет иного выхода, как выход в тексто-построение. Но учитывая все вышесказанное об образе автора как личности, заметим, что образ автора – это не только использованные им языковые средства, но и то, что диктует их выбор, а именно законы текстопостроения. В частности, а возможно, в первую очередь сюда отнесем текстовую номинацию. У Ю. Н. Караулова примерно то же явление в самом общем виде определяется как «глубина и точность отражения действительности», но, транспонируя его положение в технику текстопостроения, остановимся, тем не менее, на текстовой номинации. Сущность понятия текстовой номинации, согласно точке зрения З. Я. Тураевой, заключается в том, что уровень текста вербализует внеязыковую ситуацию [7; 22]. Продолжая ее мысль, заметим, что уровень текста делает это избирательно на базе какого-то набора признаков, поскольку отразить фотографически всю внеязыковую ситуацию средствами языка невозможно. Это под силу другим семиотическим системам – живописи, кино, фотографии, но языковое описание ситуации не может быть таким подробным. В этом выборе как раз и актуализируются личность автора, его свойство обращать внимание на какие-то детали окружающего мира, привычка начинать сообщение тем или иным образом. Все эти факты, хотя, в конечном счете, и языковые, детерминированы, тем не менее, исключительно личностными мотивами, и у разных людей они вполне могут оказаться разными. Таким образом, более «мелкая сеть» должна поймать не прямые черты характера или натуры автора-творца, но какие-то только ему свойственные привычки строить высказывание, обращая внимание на те или иные стороны бытия.
Проследим личностный фактор текстопо-строения Стриндберга на примере текстового начала «сильная позиция». Таким образом, конкретизируя проблему статьи, заметим, что она касается того, каков Стриндберг как языковая личность в текстовых началах своих произведений, то есть личность как манера начинать какое-либо сообщение и расставлять в текстовом начале содержательные акценты.
Текстовые начала классифицируются по разным основаниям, однако здесь важно подчеркнуть их внутритекстовую специфику, отметив, что у короткого рассказа начало одно, у романа – их несколько, и тогда они выступают как начала глав. Такие начала функциональны по-своему, поскольку они не столько начинают, сколько продолжают начатое в первой главе сообщение. Заметим, что текстовые начала привлекают внимание не только отечественных, но и шведских лингвистов, которые выделяют две фунции художественных начал: представить тему, развиваемую текстом (att presentera det ämne som texten handlar om), и привлечь внимание читателя (att fånga läsarens intresse) [9].
В общем виде характерные признаки текстовых начал в романе «Красная комната» можно сформулировать следующим образом: когда Стриндберг описывает действия героев, он использует достаточно короткие предложения, но когда предметом изображения становится пейзаж или характеристика персонажа, длина предложений многократно увеличивается, например, 107 слов во 2-м предложении гл. I и 174 слова во 2-м предложении гл. XII. Автор пытается соединить в одном предложении слишком много признаков внеязыковой ситуации, как будто он не хочет нарушать их единства. В этом смысле также можно представить себе языковую личность Стриндберга на основе его текстовых начал.
Здесь нельзя, однако, не признать, что текстовые начала зависят и от языкового опыта эпохи. Стриндберг, в частности, не мог использовать так называемое «начало с середины», исключительно популярное в ХХ веке, как, например, начало рассказа «Невосполнимая утрата» У. Дур-линга («En oersättlig förlust» av Ulf Durling): Snälla ni, somna inte. Ge mig en kort stund av er tid, en kvart. / Det var min hustru som insisterade på att vi skulle flyta från våningen vid Odenplan. «Дорогой вы мой, не засыпайте. Дайте мне немного вашего времени, четверть часа. Это была моя жена, которая настаивала, чтобы мы съехали с квартиры у Уденплана».
Текстовые начала Стриндберга вписываются в языковой менталитет его эпохи, и он выступает его выразителем в текстопостроении. Какие же типы начал использовал Стриндберг в главах своей «Красной комнаты»? Он устойчиво упоминает в них время, приводит характеристики персонажей, описывает их действия, часто во взаимосвязи друг с другом. Пространство часто описывается в зависимости от времени и людей, если это не пейзаж, как в начале гл. I, где его описание в границах одного предложения из 107 слов (вслед за индикацией времени) представляется знаменательным: (1) Det var en afton i början av maj. Den lilla trädgården på Mosebackehade ännu icke blivit öppnad för allmänheten och rabatterna voro ejuppgrävda … «Был вечер в начале мая. Маленький парк на Моисеевой горе еще не открыли для публики, клумбы пока что оставались невскопанными…» 2 .
Самым частотным текстовым фактором является индикация времени: (2) Kap. 11. Klockan är sju på en afton. Orkestern hos Berns spelar upp Bröl-lopsmarschen ur Midsommarnattsdrömmen och vid dess feststämmande toner håller Olle Montanus sitt intåg i Röda Rummet, dit ännu ingen av medlem-marne anlänt. «Семь часов вечера. Оркестр в заведении у Бернса играет “Свадебный марш” из “Сна в летнюю ночь”, и под его торжественные звуки Олле Монтанус шествует в Красную комнату, где пока еще никого нет».
Иногда маркируется завершенный период времени: (3) Kap. 4. Det hade förflutit några dagar. «Прошло несколько дней». (4) Kap. 25. Och vin-tern gick, långsamt för de olycklige, mera fort för de mindre olycklige. Och våren kom med sina krossade förhoppningar om sol och grönt, tills sommaren var inne som en kort förberedelse till hösten. «Прошла зима: медленно для самых несчастных, чуть побыстрее для менее несчастных. И наступила весна с обманчивой надеждой на солнце и зелень, а потом было лето – короткая прелюдия к осени».
При характеристике персонажей Стриндберг так же, как и при описании пейзажа, использует длинные предложения, как бы не желая разрывать связь упоминаемых признаков ситуации: (5) Kap. 2. Linkramhandlaren Carl Nicolaus Falk, son till avlidne linkramhandlaren, en av Borger-skapets femtio äldste och kaptenen vid Borger-skapetsinfanteri, Kyrkorådet och Ledamoten av direktionen för Stockholms Stads Brandförsäkring-skontor Herr Carl Johan Falk – och bror till förre e. o. notarien numera litteratören Arvid Falk, hade sin affär, eller, som hans ovänner helst kallade den, bod, vid Österlånggatan, så snett emot Ferkens gränd, att bodbetjänten kunde, när han tittade upp från sin roman, som han satt och fuskade med un- der disken, se ett stycke av en ångbåt, ett hjulhus, en klyvarbom eller så, och en trätopp på Skeppsholmen samt en bit luft ovanför. «Торговец льном Карл-Николаус Фальк, сын покойного торговца льном, одного из пятидесяти старейшин города, капитана гражданской гвардии, члена церковного совета и члена дирекции Стокгольмского городского общества страхования от пожара господина Карла-Юхана Фалька, брат бывшего сверхштатного нотариуса, а ныне литератора Арвида Фалька, владел магазином, или, как называли его недруги, лавкой, на Восточной улице наискось от переулка Ферркенс-грэнд, так что приказчик, оторвавшись от книги, которую украдкой читал, спрятав ее под прилавок, мог бы при желании увидеть надстройку парохода, рубку рулевого или мачту и еще верхушку дерева на Шепсхольмене и кусочек неба над ним».
Аналогичная ситуация наблюдается и в следующем текстовом начале: (6) Kap. 5. Arvid Falk skulle börja sina försök hos den mäktige Smith – namnet hade denne av en överdriven beundran för allt amerikanskt tagit sig då han en gång i sin ung-dom gjort en liten utflykt till det stora landet –, den fruktade med sina tusen armar, vilken kunde göra en författare på tolv månader av ganska dåligt virke till och med. «Первую попытку Арвид Фальк решил предпринять, обратившись к всемогущему Смиту, который взял это имя, придя в бешеный восторг от всего американского, когда в дни своей юности совершил небольшую поездку по этой великой стране, к грозному тысячерукому Смиту, способному всего за двенадцать месяцев сделать писателя даже из очень скверного материала».
Еще один тип начал – человек (персонаж) во взаимосвязи с индикацией времени и собственными действиями. Пространство ( gatorna ) маркируется как зависимая величина лишь в связи с действием, выполняемым персонажем: (7) Kap. 3. Klockan var mellan åtta och nio den vackra majmorgonen, då Arvid Falk efter scenen hos brodern vandrade gatorna framåt, missnöjd med sig själv, missnöjd med brodern och missnöjd med det hela. «В девятом часу этого прекрасного майского утра после семейной сцены у брата по улицам города медленно шел Арвид Фальк, недовольный самим собой, братом и вообще всем на свете».
Часто вместе упоминаются люди (персонажи), действия и обязательно время: (8) Kap. 9. Carl Nicolaus Falk och hans kära hustru suto vid kaffebordet en morgon någon tid efter händelserna i förra kapitlet. «Однажды утром, через несколько дней после событий, описанных в предыдущей главе, Карл-Николаус Фальк и его дражайшая супруга сидели за столом и пили кофе. Против обыкновения супруг был не в халате и домашних туфлях, а супруга надела дорогой капот».
Ниже индикация времени кажется уже излишне точной (sju en oktoberkväll) : (9) Kap. 20.
Moraklockan på Stadskällarn i X-köping dundrade sju en oktoberkväll då sceniske direktören vid sta-dens stående teater vräkte sig in genom dörren. «Был октябрьский вечер, и долговязые часы в погребке города N только что пробили семь часов, когда в дверь ввалился директор городского театра».
Указание на время года и период суток присутствует и в другом начале: (10) Kap. 18. Då Falk en mycket regnig afton i september vandrade hem och kom in på Grev-Magnigatan såg han till sin förvåning att det lyste i hans fönster. «Когда дождливым сентябрьским вечером Фальк возвращался домой, то, выйдя на Грев-Магнигатан, он увидел, к своему удивлению, у себя в окне свет».
Создается впечатление, что Стриндберг вовсе не старается в начале текста привлечь интерес читателя (att fånga läsarens intresse). Он стремится лишь информировать его, дать представление о предмете, теме главы (att presentera det ämne som texten handlar om). В этом случае он оперирует и длиной предложения, используя короткие предложения при описании действий персонажей: (11) Kap. 15. Följande dagen vaknade Rehnhjelm i sin säng på hotellet framåt middagen. Minnena från den förflutna natten stego upp som vålnader och omgåvo hans säng mitt på sommar-ljusa dagen. «На другое утро Реньельм проснулся в своей комнате в отеле, когда было уже около полудня. Перед ним, как призраки, возникли воспоминания минувшей ночи и при свете летнего дня обступили его кровать».
Длинные предложения, помимо пейзажа, встречаются и при характеристике персонажа, но излюбленный Стриндбергом тип предложений в текстовом начале – это предложения средней длины с одновременной индикацией времени и действия персонажа: (12) Kap. 8. Klockan slog tio i Riddarholmen några dagar därefter då Falk anlände till Riksdagshuset för att hjälpa Rödluvans referent med Andra Kammaren. «Прошло несколько дней; часы на Риддархольмской церкви пробили десять, когда Фальк подходил к зданию риксдага, чтобы помочь корреспонденту “ Красной шапочки ” написать отчет о заседаниях Нижней палаты».
Следующее начало, помимо индикации времени и указания на действия персонажа, заимствует некоторые особенности типа начал, содержащих характеристику персонажа: (13) Kap. 27. Och det är höst igen; det är en klar novembermorgon då Arvid Falk beger sig från sin numera eleganta bostad på Storgatan till den – manska flickpensionen vid Karl XIII: s torg, där han skall göra sitt inträde som lärare i Svenska Språket och Historien. «И снова осень; ясным ноябрьским утром Арвид Фальк выходит из своей теперь весьма элегантной квартиры на Большой улице и направляется на площадь Карла XIII в гимназический пансион для девочек, где сегодня он вступает в должность преподавателя шведского языка и истории».
Почему так важно обратить внимание на длину предложения? Когнитивная лингвистика, так чутко реагирующая на всякую мысль в языке, может на базе текстового начала выявить структурацию мысли в самом начале сообщения (в частности, литературного), и этот момент также явится личностным фактором текста. Языковая личность Стриндберга в текстовых началах глав
«Красной комнаты» выступает в следующем виде: он предпочитает индикации времени во взаимодействии с действиями персонажей и в этом случае использует предложения средней длины. Но когда он описывает персонажей или пейзаж, то предложения становятся чрезмерно длинными. Стриндберг всегда стремился локализовать изображаемого человека во времени.
* Издается в рамках реализации комплекса мероприятий Программы стратегического развития Петргу на 2012–2016 гг. по подпроекту «Scandica: культурные конвергенции».
Trofimova Yu. M., Mordoviya State University (Saransk, Russian Federation)
AUTHOR’S PERSONALITY AS LITERARY TEXT PHENOMENON (BASED ON STRINDBERG’S NOVEL“THE RED ROOM”)
Список литературы Личностный фактор текста как аспект художественного текстопостроения (на материале романа А. Стриндберга «Красная комната»)
- Русский текст романа приводится в переводе К. Телятникова.
- Шведская литература на шведском языке. Den siste atenaren -Viktor Rydberg. Master Olof -August Strindberg. Roda rummet -August Strindberg [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://booksbooksbooks.ru
- Август Стриндберг. Красная комната/Пер. К. Телятникова [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lib.ru/INPROZ/STRINDBERG_A/strindberg_roda_rummet_rus.txir
- Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук//Эстетика словесного творчества. 2-е изд. М.: Искусство, 1986. С. 381-393.
- Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года//Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. Х. С. 279-359.
- Валгина Н. С. Теория текста: Учебное пособие. М.: Логос, 2004. 280 с.
- Демьянков В. З. Личность, индивидуальность и субъективность в языке и речи//«Я», «субъект», «индивид» в парадигмах современного языкознания. М.: ИНИОН РАН, 1992. С. 9-34.
- Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. 264 c.
- Корман Б. О. Изучение текста художественного произведения. М.: Просвещение, 1972. 113 с.
- Тураева З. Я. Лингвистика текста (текст: структура и семантика). М.: Просвещение, 1986. 127 с.
- Чернявская В. Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность: Учебное пособие. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 248 с.
- Svenska 1 2 3. 2. Textens bestandsdelar [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://svenska123