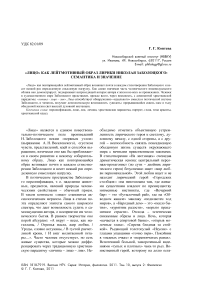«Лицо» как лейтмотивный образ лирики Николая Заболоцкого: семантика и значение
Автор: Коптева Галина Геннадьевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
«Лицо» как повторяющийся лейтмотивный образ возникает почти в каждом стихотворении Заболоцкого и несет всякий раз определенную смысловую нагрузку. Как самая значимая часть человеческого индивидуального облика оно демонстрирует, подчеркивает непреходящий интерес автора к жизни во всех ее проявлениях. Человек в художественном мире Заболоцкого представлен, прежде всего, через внешность, с доминантой христианской парадигмы: «личина - лицо - лик». Лицо способствует обнаружению «идеального» смысла в поэтической системе Заболоцкого, и читатель получает дополнительную возможность «увидеть» прорывающийся сквозь хаос и тьму обыденной жизни свет высшей духовной инстанции.
Персонификация, лицо, лик, личина, христианская парадигма, портрет, глаза, тема красоты, христианский идеал
Короткий адрес: https://sciup.org/14737417
IDR: 14737417 | УДК: 82.01/09
Текст научной статьи «Лицо» как лейтмотивный образ лирики Николая Заболоцкого: семантика и значение
« Лицо » является в едином повествова тельно - поэтическом поле произведений Н . Заболоцкого неким « нервным узлом » ( выражение А . Н . Веселовского ), сгустком чувств , представлений , идей и способов вы ражения ; логически оно как бы приближает ся в своем развитии к некоему собиратель ному образу . Лицо как повторяющийся образ возникает почти в каждом стихотво рении Заболоцкого и несет всякий раз опре деленную смысловую нагрузку .
В поэтическом пространстве Заболоцкого персонификация, т. е. наделение животных, предметов, явлений природы человеческими свойствами – обычный прием. В таком контексте «лицо» становится аксиологическим мерилом. Лица в стихах поэта определяют эпитеты самого широкого спектра, что дает возможность судить о самоощущении автора, о восприятии им человеческого бытия. В раннем творчестве оно порой абсурдно: «А вкруг – весы, как магелланы, / Отрепья масла, жир любви, / Уроды, словно истуканы, / В густой расчетливой крови, / И визг молитвенной гитары…». Часто человек отсутствует, но есть живые существа, которые можно дифференцировать через традиционную христианскую парадигму «личина – лицо – лик». Не- обходимо отметить объективную устремленность лирического героя к светлому, духовному началу, с одной стороны, а с другой – неспособность связать повседневную обыденную жизнь существ окружающего мира с вечными нравственными законами. В стихотворении «На лестницах» очевидна драматическая основа: центральный персонаж-протагонист (по сути – двойник лирического героя) безуспешно ищет «мир любви первоначальной». Этой любви ищет и не находит лирический герой «Городских столбцов»: она невозможна там, где живыми существами владеют по преимуществу низменные инстинкты, где «Вечерний бар» – это «бутылочный рай», где на «Обводном канале» маклаку «подвластен ход миров», а «Народный дом» – это «пекло бытия», «курятник радости», «корыто праздничное страсти». Отсюда – эстетически сниженные образы и лица. Ночь, которая «качается в спиртовой банке», «открыв молочные глаза». «Сирена бледная за стойкой». Рыдающий толстопузый «Исусик» с глазами упавшими «точно гири». Покойник в «медных очках» и «перепончатых рамах». Вспотевший больной, замороченный видениями «тупых и плотных» чьих-то рыл. Воинственный герой, которому на долю оста-
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 2: Филология © Г. Г. Коптева, 201 1
лось только « брюхо с головою / Да рот большой , как рукоять , / Рулем веселым управлять ». Абсурдность жизни ( что в « Цирке » « трещала , как корыто , / Летая кни зу головой ») подчеркнута внешней состав ляющей неадекватности персонажей здоро вым нормам бытия .
Однако человек Заболоцкого меняется по мере происходящих внутренних изменений его собственной личности . Уже в « Смешан ных столбцах » точка зрения претерпевает определенную эволюцию . Переосмысляется окружающий мир , внешнее и внутреннее пространство . Возникают « образы света », с оттенком сакральности . Так , в « Поэме дож дя » читаем :
Природа в стройном сарафане,
Главою в солнце упершись,
Весь день играет на органе.
В стихотворении « Птицы » – « сдвигая те - лескопики / Своих потухших глаз , / Птица думала». В « Предостережении » людей пуга ет « тот самый бык , в котором / Заключено безмолвие миров ». А в « Школе жуков » сто наблюдателей жизни животных согласились отдать свой мозг , « чтобы сияло / Животных разумное царство ». Очевидной становится экспликация ценностной иерархии в худо жественной системе и интенция движения к идеалу ( поначалу , возможно , интуитивно го ). В поэзии зрелого периода этот идеал обнаружится , прежде всего , в произведени ях эпического характера , а также в лейтмо тивном образе лица , характерно возникаю щем во многих стихах поэта , оригинальных и переводных .
В поэзии 30-х гг. начинает формироваться новый человек Н. Заболоцкого. Зрение автора «Столбцов» осталось, но изменилась точка зрения. Любое человеческое существо должно обладать, по его представлениям, нравственным чувством по отношению ко всему живому в окружающем мире. Это нравственное чувство в поэтике зрелого Заболоцкого – доминирующее, начиная с самых первых стихотворений, где появляется одухотворенное «лицо». Первое стихотворение сборника «Смешанные столбцы» «Лицо коня». Это, по сути, своеобразная ода коню: «И конь стоит, как рыцарь на часах, / Играет ветер в легких волосах, / Глаза горят, как два огромных мира, / И грива стелется, как царская порфира». Лицо коня – прекрасное, умное и внимательное, и «если б человек увидел» (!) это волшебное лицо, он «вырвал бы язык бессильный свой и отдал бы коню». Сочетание «лицо коня» и сама тематика стихотворения определяют четко очерченный этико-эстетический кругозор автора: он сопоставляет мир свой, человеческий и мир природы, которая тоже имеет собственное лицо.
Лицо как весьма значимый образ - лейт мотив появляется во многих произведениях Заболоцкого . Характерно его пристальное , обостренное внимание к форме изображае мого объекта , к тому элементу , через кото рый может быть выражена внутренняя , ду ховная сущность .
И голос Пушкина был над листвою слышен,
И птицы Хлебникова пели у воды.
И встретил камень я. Был камень неподвижен,
И проступал в нем лик Сковороды.
Камень как архетипический знак границы двух миров – здешнего и потустороннего – не случайно принимает в стихотворении «Вчера, о смерти размышляя» внешнюю оформленность в виде дорогого сердцу поэта лика (а равно же и лики Пушкина, Хлебникова, метафорически представленные в звуковом аспекте). Он эстетически способствует снятию внутреннего напряжения на пороге воображаемого перехода в мир иной: «И все существованья, все народы нетленное хранили бытие…» [Заболоцкий, 1983. С. 181]. Общеизвестно первоначальное значение слова «лик» – лицо на иконе. Лик есть «проявленность именно онтологии», – утверждает Павел Флоренский. «Все случайное, обусловленное внешними этому существу причинами, вообще все то в лице, что не есть самое лицо, оттесняется здесь забившей ключом и пробившейся чрез толщу вещественной коры энергиею образа Божия: лицо стало ликом. Лик есть осуществленное в лице подобие Божие» [Флоренский, 2006. С. 340]. Поэтому употребление лексемы «лик» означает весьма определенное (не допускающее двусмысленных толкований) отношение автора к изображаемому; у Заболоцкого – «обновленный лик» земли, «милый лик» женщины, «речки страшный лик», «солнца лик пещерный», «неподвижный лик» луны и т. п. 1 Человеческие составляющие нередко выстраивают ценностную иерархию в природном мире поэта. А человек как таковой может быть явлен не через носителя речи, а через культуру (Пушкин, Хлебников, Сковорода).
Итак , человек в художественном мире Заболоцкого представлен , прежде всего , че рез внешность , с доминантой уже упомяну той парадигмы : « личина – лицо – лик » . Эту триаду П . Флоренский в работе « Иконо стас » трактует в философско - религиозном плане . Составляющие триады находятся в диалектическом единстве . В этой системе реализуется одновременно онтологическая противоположность понятий личина и лик, между которыми стоит лицо, предшествую щее лику. Одними из вариантных замеще ний образа лица являются некоторые его лексические коннотаты : голова , анфас , темя , затылок и т . п . « И новый мир , рожденный в муке , / Перед задумчивой толпой / Твердил вдали то Аз , то Буки , / Качая детской голо вой » [ Заболоцкий , 1983. С . 136]. « Деревья , длинными главами / Ныряя в туче грозовой , / Умчались в поле » [ Там же ]. В стихотворе нии « Север » вся природа , « брошенная вспять , / Горой отчаянья легла над берегами / И не посмела головы поднять ».
Однако лицо – самое частотное состав ляющее внешности человека у Н . Заболоц кого . На лингвистическом уровне « лицо » морфолого - семантически сочетается с поня тием « личность ». Личность всегда выступает со своей конкретной телесной организацией , в которой у Заболоцкого принципиальную роль играет лицо . Лицо – это явление пси хическое и физическое одновременно . Это – и суть , и внешность ; лицо в поэтике Забо лоцкого отражает внутренний мир лично сти , ее духовную ценность . Наиболее ярко об этом заявлено в стихотворении « О красо те человеческих лиц »:
Есть лица , подобные пышным порталам , Где всюду великое чудится в малом .
Есть лица – подобия жалких лачуг , Где варится печень и мокнет сычуг . Иные холодные , мертвые лица
Закрыты решетками , словно темница .
Другие – как башни , в которых давно Никто не живет и не смотрит в окно , Но малую хижинку знал я когда - то …
Размышление о многообразии лиц выво дит поэта в пространство антропологии и феноменологии . Лицо наделяется простран ственными и шире – бытийными характери стиками . Трансформационная логика пере хода лица в лик становится понятной в контексте проводимых параллелей в изо бражении человеческих лиц . Здесь лицо – это та натура , над которой поработал « порт ретист » ( в терминологии Флоренского ). При художественной проработке возникает « ху дожественный образ , портрет », как типич ное уже для поэта оформление восприятия , и реализуется одна из возможных схем , под которую подводится у Заболоцкого лицо вообще . Но в самом лице эта « схема » есть нечто внешнее по отношению к лицу , опре деляя собою не столько онтологию того , чье лицо изобразил художник , сколько « позна вательную организацию » самого поэта . Вновь обратимся к Флоренскому : « высокое духовное восхождение осиявает лицо свето носным ликом , изгоняя всякую тьму , все недовыраженное , недочеканенное в лице », и тогда « лицо делается художественным портретом себя самого , идеальным портре том , проработанным из живого материала , высочайшим из искусств , “ художеством ху дожеств ”» [ Флоренский , 2006. С . 342]. Та кое лицо – « идеальный портрет » видим здесь :
Но малую хижинку знал я когда - то ,
Была неказиста она , небогата , Зато из окошка ее на меня Струилось дыханье весеннего дня . Поистине мир и велик и чудесен !
Есть лица – подобья ликующих песен …
Телесность и духовность лица нерасторжимо связана с одной из самых значимых тем поэтики Н. Заболоцкого – темой красоты. Стихотворение «Некрасивая девочка» – своего рода итог поэтических размышлений. Лицо девочки изображается Заболоцким в негативном ракурсе: «рот длинен, зубки кривы», черты «нехороши», «остры и некрасивы». Но под личиной некрасивого ребенка, практически «гадкого утенка» обнаруживаются и здесь вечные, духовные начала; намечается связанное с будущим духовным строительством личности движение опять же к лику. Актуально прочитывается традиционная романтическая лексика «чистого пламени», «младенческой грации души»: «Чужая радость так же, как своя, / Томит ее и вон из сердца рвется, / И девочка ликует и смеется, / Охваченная счастьем бытия». Классический, на первый взгляд, тип дурнушки оказывается чрезвычайно пластичным для живописания автора вследствие заключенной в этом характере незаурядной внутренней красоты. Целый ряд подробностей и деталей «сегодняшней жизни» ребенка получает свой ценностный вес, осмысливается и формируется любящим сознанием автора, для которого будущая жизнь «некрасивой девочки» с прекрасной душой эксплицитно уже освещена трагическим светом: «будет день, когда она, рыдая, / Увидит с ужасом, что посреди подруг / Она всего лишь бедная дурнушка!». Душа – сосуд, согласно древним, мифопоэтическим представлениям. Сюжет стихотворения замыкается ключевым вопросом – «Сосуд она, в котором пустота, / Или огонь, мерцающий в сосуде?» – предполагающим в силу вышесказанного совершенно недвусмысленный ответ, настолько очевидный, что некоторые критики и исследователи сочли стихотворение примитивным.
Тема красоты развивается Заболоцким в стихотворении «Старая актриса» (1956 г.), написанном через год или менее после «Некрасивой девочки» (1955 г.) 2. В «Старой актрисе» память о былой красоте закреплена в портретах, альбомах, многочисленных фотографиях, которые сохраняют образ человека для новых поколений. Но высокий стиль описания знойной итальянской внешности молодой красавицы контрастирует с ироническим, сатирическим портретом сварливой старухи. Красивое лицо «старой актрисы» – маска, а искусно обнажаемая поэтом подлинная ее сущность уродлива и производит впечатление отталкивающее 3. Негодующие заключительные слова лирического субъекта (и «такие сердца» поднимает над миром «неразумная сила искусства»!) становятся выражением авторской точки зрения: человеческое бытие осмысляется им через контраст внешней красоты и внутреннего безобразия.
Итак , лицо у Заболоцкого манифестирует проявление внутреннего во внешнем . Свое образным « заместителем » лица является портрет. Необходимо заметить , что и в жи вописи , и в поэзии портрет имеет домини рующее значение в изображении человека , а для художника « тонкого чутья » сходное влияние обоих искусств очевидно . Портрет ная живопись была для Заболоцкого одним из наиболее важных и ярких впечатлений окружающего мира . Не случайно его стихо творение « Портрет » начинается с призыва - декларации : « Любите живопись , поэты !» Поясняющий аргумент позволяет развер нуть обобщение и перевести его в чувствен но - образную форму : только живописи под властны приметы изменчивой души . Душа всегда являлась предметом пристального внимания художников кисти и слова , – ду ша , зачастую находящая свое материальное воплощение в лице , а вместе с тем и в порт рете . Стихотворение « Портрет » как поэти ческое произведение философского склада развивает мысль - образ , картину , и одновре менно мысль - чувство , порождая в воспри ятии читателя широкую цепь эмоционально смысловых ассоциаций , связанных с мотив - ной ветвью « лицо – портрет ». Глаза герои ни – « два тумана », « два обмана », « соедине нье двух загадок » – сопрягаются с разнооб разными чувственными категориями ,
Флоренский пишет, что полную противоположность лику составляет слово личина: . «Первоначальное значение этого слова есть маска, ларва – larva, чем отмечается нечто подобное лицу, похожее на лицо, выдающее себя за лицо и принимаемое за таковое, но пустое внутри как в смысле физической вещественности, так и в смысле метафизической субстанциональности. Лицо есть явление некоторой реальности и оценивается нами именно как посредничающее между познающим и познаваемым, как раскрытие нашему взору и нашему умозрению сущности познаваемого. Вне этой своей функции, то есть вне откровения нам внешней реальности, лицо не имело бы смысла. Но смысл его делается отрицательным, когда оно, вместо того чтобы открывать нам образ Божий, не только ничего не дает в этом направлении, но и обманывает нас, лживо указывая на несуществующее. Тогда оно есть личина» [2006. С. 341].
оформляющими эстетическое восприятие : « полувосторг , полуиспуг », « предвосхище нье смертных мук » и « припадок » безумной нежности . Рокотовский портрет Струйской , о котором здесь идет речь , поразил поэта именно глазами , их выражением и красотой . « Поэзия живописует с помощью одной - единственной черты ; живопись должна при соединить к этой черте все остальные » [ Лессинг , 1980. С . 496]. Поэтому две стро фы – два сегмента стихотворения посвяще ны исключительно изображению женских глаз , и в пятом сегменте – итог , общее эсте тическое впечатление от восприятия Н . За болоцким данного портрета : « Когда потем ки наступают / И приближается гроза , / Со дна души моей мерцают / Ее прекрасные глаза ».
Мотивное соотношение « лицо » и « порт рет » ( как иконический знак лица ) само по себе интересно и связано , скорее всего , с общей авторской мифопоэтической тенден цией увидеть окружающий мир во всей его полноте , в связях частного и общего , инди видуального и типического , сиюминутного и вечного . Портрет , с одной стороны , созда ет устойчивый комплекс стабильных черт « внешнего человека », а с другой – запечат левает его динамическую суть – жесты , мимику , грацию . Портрет есть попытка за печатлеть наружность человека в ее нескон чаемой динамике , запечатлеть живое , пре ходящее , увековечить миг , мгновение .
Эстетическое восприятие Н. Заболоцким действительности окружающего мира, очевидно, неодинаково в разные творческие периоды. Для «раннего» Заболоцкого, периода «Столбцов», характерны попытки отстраненно-аналитического восприятия всего окружающего; в период же «поздний» его миросозерцание спокойно-философское, всеприемлющее. Отчетливо просвечивает мудрость возраста как результат развития собственной личности. Стихотворение «Детство» (1957 г.) может рассматриваться как своего рода ассоциативная пара к «позднему» «Портрету» – по семантике доминирующего элемента. Снова на первом плане образ-лицо, почти портрет, и в портретной характеристике появляются глаза: огромные, широко раскрытые «как у нарядной куклы». «Два тощих петуха дерутся на заборе, / Шершавый хмель ползет по столбику крыльца. / А девочка глядит» [Заболоцкий, 1983. С. 295]. Изображенное лицо мгновенно производит на реципиента эффект визуализации: «Под стрелами ресниц, / Доверчиво-ясны и правильно округлы, / Мерцают ободки младенческих зениц». Размышляя о зрительных образах, общих и различных для поэта и живописца, Лессинг отмечает, что каждая отдельная черта или сочетание нескольких черт, посредством которых поэт придает особенную «жизненность описываемому предмету», имеет результатом то, что он «представляется нам яснее, чем слова, употребляемые для его описания». Такое сочетание и есть «поэтическая картина», «живопись в поэзии», ибо этими именно чертами «поэт больше всего приближает нас к ощущению той иллюзии» [Лессинг, 1980. С. 432], которую способна создать по преимуществу живопись. Среди исследуемых лирических образов Заболоцкого доминирующее значение имеют глаза.
Глаза в произведениях поэта мы видим почти столь же часто, как лицо. Важно подчеркнуть, что глаза есть метонимические знаки проявления лица. Это и детские глазки, они же траурные, маленькие и кроткие (у животных и растений), это умные глазенки (собачки) и глаза-аметисты (лебеди в зоопарке), это спрятанные в кронах глаза (деревьев) и налитые кровью (у волков). Это круглый глаз (зловещей звезды) и злобноживой взгляд (ночного леса). Глаза у него принадлежат и природному, и человеческому миру, и несут разнообразную и разноплановую смысловую нагрузку: прекрасные и томные, нежные и удивленные, большие и пронзительные, стройные и косые, тревожные и страдальческие, старые и сонные, неугасимые и одервенелые... Эпитеты разнообразны и относятся не только к человеческим глазам. Не менее часто это глаза животных, птиц, насекомых. И даже природных объектов – рек, камней, планет, звезд. Они могут «висеть как сливы» и «упасть», точно гири. Это могут быть «опаленные веки» (героя) и «телескопики потухших глаз» (птицы). Подобного рода параллелизм вновь обозначает онтологическое тождество планов – природного и человеческого. Нередко глаза животных и растений в поэтическом мире Заболоцкого содержат в себе «начатки знанья», мыслей, эмоций. Они способны выражать озабоченность, так же как черты лица. Черты – еще одно из семантико-эстетических проявлений лица. Озабоченные и нездешние, предсмертные и смутные, сознательно-злобные и прекрасные, – они разнообразны в поэтике Заболоцкого, как лица, как глаза.
Инвариантом глаз в художественной сис теме Н . Заболоцкого являются взор и очи. Очи и глаза – главные соматические состав ляющие , которые являются границей между внешним и внутренним миром человека . Взор в поэтике Заболоцкого – « печальный и прекрасный », либо невеселый и « опущен ный в молчанье » ( взор « живой души »), взор « первородных » и духовно устремленный в прошлое и т . п . Очи же – тяжелые (« с тыся челетней тяжестью ») и вывернутые ( повер нутые ), черные и сияющие , очи музы и очи любимой женщины ; и , как вариант , око – одинокое , удивленное , беспредельно тос кующее … Это – эпически серьезный , воз вышенный семантический ряд , восходящий скорее к лику , нежели к лицу .
Феноменологически образ-лейтмотив лица у Заболоцкого выступает как способ разрешения связей лироэпического и этического, личного и общего, и одновременно – внешнего и внутреннего: «Множество человеческих лиц, каждое из которых – живое зеркало внутренней жизни, тончайший инструмент души, полной тайн…» [Заболоцкий, 1983. С. 592]. Творческий пафос поэта – изображение человека в универсальной форме – реализуется в изображении «лиц» и нередко «ликов» наиболее очевидным образом. Поэтическое искусство Николая Заболоцкого часто сближается, как уже отмечали исследователи, с искусством живописного изображения событий на полотне. Согласно Лессингу, подробно исследовавшему границы живописи и поэзии, именно «действия составляют предмет поэзии». Живопись изображает действия опосредованно, «при помощи тел» [1980. С. 434]. Поэзия также изображает тела, но не кистью художника, а при помощи «действий», выбирая свойства, вызывающие такое «чувственное представление о теле», какое необходимо в данном случае: «к лицу приблизив компас еле-еле, он проверял по стрелке свой маршрут»; «целый день она таращит умные глазенки»; «с опаленными веками припаду я, убитый, к земле». Или: «Опустись, моя муза, в глубокий тоннель! Опусти свои очи в сияющий кратер…»; «Милый взор, истомленно-внимательный, / Залил светом всю душу твою…» В многочисленных поэтических синтагмах Заболоц- кого, включающих лексемы «глаза, очи, взор, взгляд», употребленные глагольные формы реализуют как прямые, так и переносные значения по отношению к объектам. Они «упали», «глядят» либо «смотрят» (не смотрят), «читают, хлопают, ворочаются, вращаются по кругу, устремляются, мигают, опускаются, поднимаются». Они «пронзают, щурятся, всматриваются, открываются, вздымаются удивленно, заливают светом, таращатся, провожают, наполняются смехом и радостью, висят, сдвигаются, прячутся, горят» и т. д.
На исходе жизни становится очевиден приход лирического героя Николая Забо лоцкого к завершающему упомянутую триаду образу , возможно , как образцу хри стианского идеала . « Лик есть осуществлен ное в лице подобие Божие . Когда пред нами – подобие Божие , мы вправе сказать : вот образ Божий , а образ Божий – значит , и Изображаемый этим образом , Первообраз его » [ Флоренский , 2006. С . 340]. В стихо творении 1957 г . « Две встречи » этот онто логически прекрасный идеал осуществлен - проявлен через прием параллелизма в изо бражении лиц- обликов -ликов княжны Марьи и старика Болконского . Княжна Марья – несущая Христа в душе своей – приходит к отцу как к Господу , и лицо его , за мгнове ние перед тем злое и « неестественно рабо тающее над собой », не может не измениться в такой ситуации . В стихотворении 1957 г . « Вечер на Оке » [ Заболоцкий , 1983. С . 312] поэт ассоциативно - метонимически изобра зил через обобщенный образ природы вот это имплицитное движение в направленно сти от лица к лику:
С утра, обремененная работой,
Трудом лесов, заботами полей, Природа смотрит как бы с неохотой На нас, неочарованных людей.
Таково «утреннее», озабоченное, как бы отстраненно-отсутствующее «лицо» природы. Иное дело – вечер, мифопоэтическое время, когда спадает с окружающего мира «обыденности плотная завеса» и обнажается его подлинная красота. «Лицо» природы, отраженное в зеркале вечерних вод («как бы сквозь прозрачное стекло»), по нисхождении божественного огня горит «светло» и «нежно». И «необъятней делаются дали» – согласно закону перспективы. И внешний одухотворенный мир предстает как идеальный; это прекрасный лик природы, вызывающий живой отклик в душе лирического героя:
Горит весь мир, прозрачен и духовен, Теперь-то он поистине хорош…
Симптоматичны цвета изображаемого : цвет « белых башен облачного мира », цвет реки , « приникнувшей к небосводу », и само го небесного свода , золото вечернего огня и сквозные глубокие тени . Импрессионистич - ность коррелирует с особенной « прозрачно стью » картины , а настроение лирического героя , его «лик- ование » и гностический вос торг усиливают производимое впечатление . Поэзия – искусство словесное , но , вызывая в восприятии читателя ( слушателя ) образы - представления , чувства - эмоции , отвлечен ные мысли и оценки , она , в плане наглядно сти и образности , может иногда соперни чать с живописью и музыкой . Одним из способов реализации такой образности яв ляется в поэтике Заболоцкого лейтмотив ный образ лица ; прежде всего потому , что он выступает как один из организующих моментов « ценностной категории другого » ( в терминологии М . М . Бахтина ).
Поэта всегда влекло к « светоносным и гармоническим проявлениям духовной лич ности » ( в терминологии П . Флоренского ), и прежде всего , его внимание приковано к светлому , прекрасному лицу , красотою ко торого распространяется вовне ( словно че рез окно ) « внутренний свет » человека . Лицо как самая значимая часть человеческого ин дивидуального облика демонстрирует , под черкивает непреходящий интерес Заболоц кого к жизни во всех ее проявлениях . Лицо способствует обнаружению « идеального » смысла бытия , и читатель получает здесь дополнительную возможность « увидеть » прорывающийся сквозь хаос и тьму обы денной жизни свет высшей духовной ин станции .