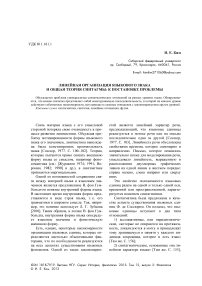Линейная организация языкового знака и общая теория синтагмы: к постановке проблемы
Автор: Ким Игорь Ефимович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Обсуждается проблема универсализма синтагматических отношений на разных уровнях языка. Обнаруживается, что всякая синтагма представляет собой многоуровневую последовательность, в которой на каждом уровне действуютсобственные закономерности, вступающие всложные отношения с закономерностями другихуровней.
Синтагматика, синтагма, линейные отношения, фузия
Короткий адрес: https://sciup.org/147218746
IDR: 147218746 | УДК: 811.161.1
Текст статьи Линейная организация языкового знака и общая теория синтагмы: к постановке проблемы
Связь материи языка с его смысловой стороной потеряла свою очевидность в процессе развития лингвистики. Обсуждая проблему мотивированности формы языкового знака его значением, лингвистика вынуждена была констатировать произвольность знака [Соссюр, 1977. С. 100–102]. Теории, которые пытаются прямо связать внешнюю форму языка со смыслом, например фоносемантика (см.: [Журавлев 1974; 1991; Воронин, 1982; 1990] и др.), в лингвистике признаются маргинальными.
Одной из возможностей сохранения связи между материей языка и языковым значением является предложенное В. фон Гумбольдтом понятие внутренней формы языка. В настоящее время внутренняя форма представляется в виде строя языка, т. е. его грамматики в широком смысле. Так, например, это понятие использует Л. Г. Зубкова [2010]. Таким образом, в логике В. фон Гумбольдта, внутренняя форма языка опосредует языковое значение и фонетическую внешнюю форму.
Есть, однако, некоторые закономерности организации языковых единиц, которые определяются настолько объективными факторами, что по необходимости реализуются на всех аспектах существования языковых феноменов. Одной из таких закономерно- стей является линейный характер речи, предполагающий, что языковые единицы реализуются в потоке речи или на письме последовательно одна за другой [Соссюр, 1977. С. 103]. Линейность речи обусловлена свойствами времени, которое одномерно и направленно. Письмо, которое появилось значительно позже для моделирования речи, унаследовало линейность, выраженную в расположении двухмерных графических знаков на одной линии в жестком порядке: справа налево, слева направо или сверху вниз.
Это свойство положенности языковых единиц рядом на одной и только одной оси, временной или пространственной, характеризуется понятием синтагматики.
Синтагматика была предложена в качестве аспекта существования языковых единиц Ф. де Соссюром. Он полагал, что языковые единицы вступают в два типа отношений:
-
1) ассоциативные, или парадигматические, «которые не опираются на протяженность, локализуются в мозгу и принадлежат тому хранящемуся в памяти у каждого индивида сокровища, которое и есть язык» [Там же. С. 156];
-
2) синтагматические, основанные «на линейном характере языка» [Там же. С. 155],
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 2: Филология © И. Е. Ким, 2013
«на двух или большем количестве членов отношения, в равной степени наличных в актуальной последовательности» [Соссюр, 1977. С. 156].
Эта дихотомия Ф. де Соссюра сыграла в дальнейшей истории лингвистики не меньшую роль, чем различение языка и речи, хотя и оказалась в тени этого фундаментального противопоставления.
В семиотике Ч. Пирса – Ч. Морриса есть понятие синтактики как раздела, описывающего формальную сторону семиотической системы, правила порождения правильных высказываний в рамках этой системы. Таким образом, синтактика сопоставима со всей грамматикой и поэтому представляет собой более широкое понятие, чем синтагматика, хотя этимологически восходит к тому же самому корню.
Роль синтагматики и парадигматики в организации человеческого мышления была продемонстрирована Р. О. Якобсоном [1990]. Рассматривая два вида афатических нарушений речи, Р. Якобсон обнаружил, что они прямо связаны с отношениями селекции (выбора из ряда однотипных единиц) и конкатенации (размещения языковых единиц в их последовательности и связи). В первом случае больной не может выделить обособленную языковую единицу, противопоставить ее сопоставимым с ней единицам, хотя владеет связной речью, где языковая единица сопряжена с другими единицами. Во втором случае человек способен выбрать языковую единицу для выражения понятия, но не способен связать ее с другими языковыми единицами в потоке речи. Таким образом, афазии разного рода демонстрируют важность парадигматических и синтагматических отношений в мышлении, организующем речь, и их относительную независимость друг от друга.
Несомненно, синтагматика берет начало в речи, в одномерности ее временной последовательности, в то время как парадигматика пользуется многомерностью и систематичностью человеческого мышления. В паре парадигматика / синтагматика парадигматика видится теснее связанной с языком, а синтагматика с речью.
Базовым представлением о существовании языковых единиц является идея их тождества и различия. Тождеством употребленных в разном месте и в разное время языковых единиц обусловливается воспро- изводимость – важное качество языковой единицы, позволяющее ей существовать на больших промежутках времени. Различием задается разнообразие языковых единиц. В аспекте различия парадигматическое существование языковой единицы – это оппозиция, противопоставление другим единицам, а синтагматическое существование – контраст, наличие границы, за пределами которой одна единица сменяется другой.
Последовательность языковых единиц называется синтагмой 1. Синтагма не есть случайная последовательность. Она характеризуется связностью и целостностью. Связность – наличие более-менее устойчивой связи и отношений между языковыми единицами в синтагме, а целостность – наличие в синтагме свойств, не сводимых к сумме свойств языковых единиц, образующих синтагму.
На каждом иерархическом уровне системы языка существует своя синтагматика. С синтагматикой как самостоятельным аспектом существования единиц языка тесно связаны просодия в фонетике, морфонология как раздел морфемики, описание лексической и синтаксической сочетаемости слов в лексикологии, некоторые разделы синтаксиса, а именно синтаксис связи и отношения, актуальное членение предложения, а также учение о связности текста.
Фонетика построила свою теорию синтагмы – просодию. В просодии – суперсегментной фонетике – есть непрямые аналоги каждого иерархического уровня. Слог во многом изоморфен, хотя и не аналогичен, морфеме, метрическая стопа, такт, фонетическое слово сопоставимы с лексическими единицами, синтагма коррелирует с предложением. Очевидно, что соответствия далеко не строги, однако закономерности, действующие в фонетических синтагмах, накладываются на специфические закономерности других уровней, создавая фонетико-морфемные, фонетико-лексические, фонетико-синтаксические комплексы.
Синтагма по определению дискретна. Средствами дискретизации являются контраст, пустота (пауза или пробел) и матери- альные знаки границы (например, пунктуационные знаки или нечленораздельные звуковые сигналы).
Контраст отделяет фонемы в составе слога и морфемы. В графике граница между графемами (буквами) представляет собой минимальный пробел (в печати) или снижение толщины строки в месте соединения букв (связное письмо).
Морфемы отделяются друг от друга ди-эремами (фонетическим сигналами конца морфемы), которые обладают высокой степенью абстракции [Панов, 1956. С. 167 и далее]. Так, диэремой является отсутствие или факультативность ассимиляции по мягкости префиксального зубного перед корневым зубным, которая обязательна внутри морфемы, например, подсидеть [пътс’ид’эт’]. Кроме того, знаками границы морфем являются морфонологические единицы языка: чередования фонем и интерфиксы.
Границы слов на письме образуются пробелами (графическое слово), в устной речи уже упоминавшимися диэремами. Однако гораздо более сильным, хотя и более абстрактным знаком границы изменяемого слова является флексия – системная морфема, потенциально сменяемая в других синтаксических и лексических условиях.
Графическая граница предложения – пунктуационный знак конца и «пунктуационная» прописная буква следующего предложения. Фонетическим аналогом предложения является синтагма-2 с границей, например, в виде паузы. Однако специальных знаков границы предикативной единицы – грамматической субстанции простого предложения – нет.
В текстовых структурах на письме используются разнообразные пробелы, объединяемые понятием абзаца. Наиболее распространенные текстовые пробелы – произвольный конец строки и абзацный отступ. Однако сложная и чрезвычайно свободная организация текста предполагает использование более дифференцированных средств обозначения границы и управления восприятием текста. А. Вежбицкая посвятила одну из своих работ метатексту – линейным знакам, лексико-синтаксическим и пунктуационным, организующим текст [1978].
Связности в синтагмах разных типов посвящено огромное количество исследова- ний. В фонологии существует целый раздел о комбинаторных изменениях фонем, морфонология позволяет описать взаимодействия морфем внутри слова, изучены механизмы синтаксической связи в словосочетании, простом и сложном предложении. Связности текста также посвящено очень много работ. Особенно популярна эта проблематика была в 70-е гг. ХХ в. (см., например: [Синтаксис текста, 1979; Ляпон, 1986] и др.).
В аспекте связности важно различение свободных и связанных синтагм. В связанных синтагмах место элемента жестко закреплено, состав синтагмы определен, а сама она является воспроизводимой единицей языка. Морфема и слово – связанные синтагмы, а единицы более высоких иерархических уровней (за исключением идиом) – свободные, т. е. такие, состав и порядок элементов в которых относительно произволен.
Целостность синтагмы обеспечивается сразу на нескольких уровнях. Поэтому чем более высокому иерархическому уровню принадлежит синтагма, тем больше механизмов целостности действует по отношению к ней.
Существуют просодические механизмы формирования целостности любой выделяемой в рамках фонетики суперсегментной последовательности. Для слога это звучность сонорной (гласной) фонемы, для русского такта – наличие ударения, для синтагмы – интонационный контур. Наличие этих маркеров целостности, имеющих объективную звуковую природу: звучность сонорного – дополнительная звучность, длительность или мелодия ударного слога – мелодия интонационного контура – приводит к параллельному существованию и, соответственно, взаимодействию знаковых (внутренних) и просодических (внешних) аспектов целостности.
Целостность слова на уровне морфем обеспечивается функциональной распределенностью морфем (максимально значимый корень – словообразовательные аффиксы – грамматические аффиксы) и их строгой позиционной последовательностью (префикс – корень – суффикс – флексия – постфикс). Таким образом, в слове выделяются, помимо центрального ударного и периферийных неударных слогов, центральная морфема (корень) и морфемная периферия.
Целостность простого предложения обеспечивается наличием трех параллельных синтаксических структур: формальной (предикативный центр и распространители); семантической (предикат и актанты / сирконстанты) и актуальной (максимально значимая рема и менее значимая тема). В центре сложного предложения находятся показатель связи и выражаемое им отношение.
Взаимодействие механизмов целостности представляет собой отдельный и чрезвычайно содержательный сюжет, который по отношению к синтагмам разных иерархических уровней начал рассматриваться в разное время, но в целом все-таки относительно недавно.
Важность соответствия слоговой и морфемной структуры слова показала Л. Г. Зубкова в своей фундаментальной монографии: «Будучи одновременно потенциальным минимумом произносимого высказывания и совокупностью морфем, слово характеризуется единством внешней и внутренней формы и, как следствие, сопряженностью слоговой структуры с морфемным строением» [2010. С. 242]. Она систематизировала соотношения длины морфемы и слога в языках разного морфологического типа (изолирующих, флективных и агглютинативных) и показала, что разные по функции морфемы (лексические и грамматические) по-разному соотносятся с устройством формирующих их слогов. Большое внимание Л. Г. Зубкова уделила соотношению границы морфем (морфемных стыков) и границы слогов в разноструктурных языках, обнаружив связь между функцией морфемы и вероятностью совпадения морфемного шва со слоговой границей.
Несовпадение морфемной и слоговой границы является главным фактором развития фузии во флективных языках – стяжения корня и аффикса в единый комплекс [Там же. С. 243] (см. также: [Реформатский, 1987]).
Таким образом, двухуровневость слова как синтагмы (сочетание слогов и сочетание морфем) и возможность несовпадения фонетического и морфемного членения слова приводят к формированию у него дополнительной целостности вследствие функциональной ненагруженности наиболее объективного слогового деления.
С другой стороны, и сам морфемный уровень располагает к формированию у слова как у сочетания морфем нового смысла, не сводимого к сумме смыслов морфем. Речь идет о так называемой идиоматичности многоморфемного слова, которую убедительно продемонстрировал М. В. Панов в статье «О слове как единице языка» [1956. С. 147]. Суть идиоматичности заключается в том, что многоморфемное слово, т. е. слово, включающее в себя кроме корня и грамматических аффиксов другие морфемы, содержит смысл, который не содержится ни в одной из образующих его морфем. Таким образом, русское многоморфемное слово содержит в себе еще один аспект целостности.
В синтаксисе устной речи было обнаружено сложное взаимодействие интонационного и конструктивного оформления синтаксических единиц.
Так, при описании фонетических особенностей устной научной монологической речи было обнаружено чрезвычайно сложное соотношение семантического, грамматического и интонационного членения высказываний. Отмечалось частое несовпадение интонационных и грамматико-синтаксических границ и центров [Современная русская устная научная речь, 1985]. Таким образом, можно отметить некоторый изоморфизм во взаимодействии фонетической (внешней) и внутриуровневой организации синтагм разных уровней: в самой природе языка заложена потенция асимметрии в действии разноуровневых механизмов членения, организации целостности и связности синтагм.
Другой аспект изоморфизма связан с поведением слова, мотиватором которого выступает словосочетание. Покажем это на примере чтения буквенных аббревиатур. Ранее нами было показано, что лингвистическое бессознательное рядовых (неискушенных) носителей языка соотносит границу элемента аббревиатуры (будь то буква или слог) с границей слов в мотивирующем словосочетании [Ким, 1998; Обыденное метаязыковое сознание, 2009. С. 121–130]. Поэтому носители языка отклоняются от алфавитного принципа чтения аббревиатур, следуя другому принципу: граница слога должна совпадать с границей фонетической репрезентации буквы в аббревиатуре: Сэ-Шэ-А, а не э-СШа[ша]-А, Фэ-эР-Гэ, а не э-ФэР-Гэ. Таким образом, буква в составе аббревиатуры мыслится не как часть слова, а как представитель слова в мотивирующем словосочетании. С учетом того, что в буквенных аббревиатурах ударение падет на последний слог (как в синтагме в обычных условиях логическое ударение падает на ударный слог последнего слова), можно говорить, что носители русского языка воспринимают аббревиатуру как свернутое словосочетание.
Взаимодействие уровней в синтагме можно представить как развитие принципа усложнения звуковых колебаний, образующих членораздельный звук. Последний образуется тем, что на основной тон накладываются обертоны, усиленные резонаторами - форманты. Таким образом, звук речи представляет собой фрактальную структуру, в которой на волну определенной частоты накладываются огибающие, представляющие волны большей частоты. Отступив на несколько иерархических уровней выше, мы обнаружим аналогичную фрактальность: синтагмы более высокого уровня формируются синтагмами более низких уровней: синтаксические единицы организуются единицами лексическими, которые, в свою очередь, формируются морфемами, которые образуются фонемами, ключевым элементом которых являются форманты, специфицирующие звуки и задающие их контраст.
Подъем от фонетики к другим уровням, однако, задает важное различие: если фонема организована как фрактальная единица, в которой все форманты свернуты в одной точке, то единицы более высоких иерархических уровней представляют линейную последовательность, в которой единицы более низких уровней следуют друг за другом.
Таким образом, синтагма представляет собой многоуровневое образование, в котором в одномерной последовательности располагаются фонемы, морфемы, лексемы, синтаксические единицы. Появление у синтагмы на каждом более высоком уровне нового качества, несовпадение границ единиц разных уровней в синтагме приводят к формированию у синтагмы целостности, превращению ее в новую языковую единицу.
Так, Е. В. Красильникова, обсуждая морфонологический статус интерфикса, описала многоуровневую (универсальную) модель универбатов типа промокашка ^ промокательная бумага, включающую в себя длину слова в слогах (наиболее частая - три сло га), место ударения (на второй от конца слог), тип мотиватора (адъективно-субстантивное словосочетание, обозначающее артефакт или пространственный объект), словообразовательный тип (универбация -устранение существительного и присоединение суффикса -к- к основе прилагательного), морфонологический тип (присоединение суффикса к консонантной основе) [1981].
Итак, всякая синтагма большой длины одновременно представляет собой:
-
1) ритмически организованную последовательность фонем с центром в виде зоны яркого звучания и зоной контраста, объединенных в такты, с центром в виде ударного слога и периферией из неударных слогов, в свою очередь объединенных в синтагмы с общим интонационным контуром и интонационным центром;
-
2) ритмически организованную последовательность значимых единиц: морфем с границами в виде диэрем и морфонологических единиц, объединенных в лексемы с центром в виде корня и правой границей в виде словоизменительного аффикса, в свою очередь объединенных в предикативные единицы с предикативным центром и в единицы актуального членения с центром в виде рематического фокуса;
-
3) последовательность сопряженных друг с другом смыслов, про которую понятно гораздо меньше, поскольку смысл в сравнении с внешней формой и знаковой (внутренней) формой языка наименее отчетливо членится, наиболее свободно комбинируется и в наибольшей степени индивидуален.
Симметрия и асимметрия внешней формы, внутренней формы и смысла в пределах синтагмы, т. е. потенциальная неравномерность распределения фонетических, структурных и смысловых центров и границ, создавая в синтагме неожиданные напряжения, резонансы и диссонансы, придает ей многомерность, а значит, наполняет ее жизнью.
LINEAR STRUCTURE OF THE LINGUISTIC SIGN
AND THE GENERAL THEORY OF SYNTAGM
Список литературы Линейная организация языкового знака и общая теория синтагмы: к постановке проблемы
- Белякова Л. И., Дьякова Е. А. Заикание: Учеб. пособие для студентов педагогических институтов по специальности «Логопедия». М.: В. Секачев, 1998.
- Вежбицкая А. Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1978. Вып. 8. С. 402-422.
- Воронин С. В. Основы фоносемантики. Обыденное метаязыковое сознание: тологические и гносеологические аспекты: Коллек. моногр. Томск, 2009. Ч. 2.
- Воронин С. В. Фоносемантические идеи в зарубежном языкознании (очерки и извлечения). Л.: Изд-во ЛГУ, 1990.
- Журавлев А. П. Звук и смысл. М.: Просвещение, 1991.
- Журавлев А. П. Фонетическое значение. Л.: Изд-во ЛГУ, 1974.
- Зубкова Л. Г. Принцип знака в системе языка. М.: Языки славянской культуры, 2010.
- Ким И. Е. «Лингвистическое бессознательное» в русской фонетике и графике // Фонетика - орфоэпия - письмо в теории и практике: Сб. науч. тр. / Краснояр. гос. ун-т. Красноярск, 1998. Вып. 2. С. 4-14.
- Красильникова Е. В. О формальной структуре слова // Проблемы структурной лингвистики, 1978. М.: Наука, 1981. С. 149-160.
- Ляпон М. В. Смысловая структура сложного предложения и текст (к типологии внутритекстовых отношений). М.: Наука, 1986.
- Панов М. В. О слове как единице языка // Учен. зап. МГПИ В. И. Ленина. М., 1956. Т. 51, вып. 5. С. 129-165.
- Реформатский А. А. Агглютинация и фузия как две тенденции грамматического строения слова // Реформатский А. А. Лингвистика и поэтика. М.: Наука, 1987. С. 52-76.
- Синтаксис текста. М.: Наука, 1979.
- Современная русская устная научная речь. Красноярск: Изд-во КрасГУ, 1985. Т. 1: Общие свойства и фонетические особенности.
- Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. С. 7-285.
- Якобсон Р. О. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 110-132.