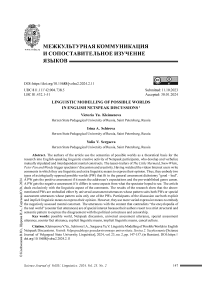Лингвистическое моделирование возможных миров в англоязычной интернет-дискуссии
Автор: Клейменова В.Ю., Щирова И.А., Сергаева Ю.В.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Идея возможных миров применяется в статье в качестве научно-теоретического основания для изучения результатов лингвокреативной деятельности участников англоязычной интернет-дискуссии, в ходе которой создаются и вербализуются взаимообусловленные и взаимосвязанные ментальные конструкты, противопоставленные по аксиологическому признаку. Установлено, что при обсуждении тизеров-трейлеров ремейков мультфильмов «Русалочка», «Белоснежка», «Питер Пен» авторы комментариев создают в рамках общеоценочной дихотомии «хорошо – плохо» два типа возможных миров: положительно оцениваемый возможный мир, который соответствует пресуппозиции адресата и оправдывает его жанровые ожидания, и негативно оцениваемый возможный мир, который не соответствует зрительской пресуппозиции. Выявлено, что в англоязычной интернет-дискуссии возможные миры моделируются с помощью универсальных оценочных высказываний, которые используются для объективации обоих типов возможных миров, и специальных оценочных высказываний, которые употребляются для объективации одного из типов возможных миров. Показано, что авторы комментариев применяют эксплицитные и имплицитные средства выражения мнения, что средства объективации негативно оцениваемого возможного мира отличаются разнообразием (контрфактические высказывания, риторические вопросы, сравнения), а также эмоциональностью и экспрессивностью. Охарактеризована структурно-семантическая модель контрфактических высказываний, которые формируют авторы комментариев, не согласные с пропагандируемой политикой политкорректности. В.Ю. Клейменовой разработана общая концепция исследования и проведена аналитическая обработка результатов; И.А. Щировой предложена методология и интерпретированы результаты проведенного коллективного исследования; Ю.В. Сергаевой выполнен отбор, систематизация, анализ эмпирического материала.
Возможный мир, интернет-дискуссия, универсальное оценочное высказывание, специальное оценочное высказывание, контрфактическое высказывание, эксплицитные языковые средства, имплицитные языковые средства, культура отмены
Короткий адрес: https://sciup.org/149145975
IDR: 149145975 | УДК: 811.111’42:004.738.5 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.2.11
Текст научной статьи Лингвистическое моделирование возможных миров в англоязычной интернет-дискуссии
DOI:
В XXI в. языковая личность осуществляет значительную часть коммуникации в ин-тернет-среде, сформированной блогами, социальными сетями и форумами. Так, проведенный в 2017 г. опрос жителей США и Великобритании выявил, что подавляющее большинство (70 %) респондентов, относящихся к поколению Z и миллениалам, отдают предпочтение не телефонным звонкам, а виртуальному общению посредством текстовых сообщений [Stockwell, 2016]. Следовательно, изучение языковой специфики высказываний, созданных в процессе виртуальной коммуникации, позволяет установить особенности лингвокогнитивной деятельности интернет-пользователя.
Описывая язык сетевого общения (Netspeak), Д. Кристал отмечает его неоднородность, обусловленную использованием в пяти разных типах коммуникативных ситуа- ций: электронных письмах, чатах, виртуальных игровых мирах и сетевых текстах [Crystal, 2006, p. 10–14]. В то же время исследователи выделяют ряд инвариантных характеристик виртуальной коммуникации, влияющих на выбор лингвистических средств: глобальность (нивелирование пространственно-временных границ, возможность синхронной и асинхронной коммуникации), интерактивность (непосредственное взаимодействие многих участников, возможность свободно присоединиться к любой ветке обсуждения), мультимедий-ность (наличие в тексте невербальных знаков, например эмодзи, мемов), анонимность (возможность сокрытия личных данных пользователя, его географической локализации), гипертекстуальность (наличие графически маркированной взаимосвязи между дополняющими друг друга структурными элементами, а пользователь имеет техническую возможность читать их в произвольном порядке) [Горшкова, 2012; Лутовинова, 2008; Сергаева, 2018; Сидорова, 2011; Crystal, 2006].
Одним из видов сетевого общения, в котором сохраняются инвариантные характеристики виртуальной коммуникации, является интернет-дискуссия по вопросам, вызывающим неоднозначную оценку социума. В процессе коллективной когнитивной лингвокреативной деятельности коммуниканты, придерживающиеся противоположных точек зрения, создают и вер-бализируют взаимообусловленные и взаимосвязанные возможные миры (далее – ВМ) – ментальные конструкты, противопоставленные по аксиологическому признаку.
ВМ трактуется в философии не как физически достижимый пространственный фрагмент реальности, а как мыслимое потенциальное состояние реального мира, как альтернативный настоящему возможный ход событий. Понятие ВМ активно разрабатывалось в теории логической семантики для установления истинности модальных высказываний [Руднев, 2017; Хинтикка, 1980; Hintikka, 2019] и даже декларировалось в качестве общей парадигмы гуманитарной рациональности [Фатиев, 1997].
Семантика ВМ приобретает особую актуальность в русле когнитивно-дискурсивной парадигмы, поскольку само полагание бытия иного характера есть акт реализации познавательной способности [Драгалина-Черная, 2011, с. 42]. ВМ имеет двойственную природу: с одной стороны, он представляет собой ментальный конструкт как совокупность концептов, с другой – материальный объект, имеющий языковую форму [Chrzanowska-Kluczewska, 2017, р. 38].
Концепция ВМ имеет многолетнюю и плодотворную традицию применения в лингвистике, поскольку «язык призван отражать этот действительный, реальный мир, но одновременно с ним в семантическом пространстве языка существуют миры, не являющиеся копиями того, что бытует в действительном мире» [Бабушкин, Стернин, 2018, с. 113]. Высказывания, объективирующие ВМ, соотносятся с разработанным Лейбницем понятием «возможно истинных высказываний», которые являются истинными в одном или нескольких возможных мирах, поскольку основаны на «истинах факта», познающихся посредством опыта или разума [Лейбниц, 1989, с. 76]. Традиционно, семантика ВМ служит когнитивным основанием для интерпретации художественного текста как амбивалентного конструкта, сочетающего представления о действительности и вымысел и не имеющего однозначной соотнесенности с действительностью; например, она помогает решению проблемы художественной истины [Щирова, 2011, с. 206], проблемы репрезентации реального и вымышленного в художественном тексте [Ильинова, 2008; Клейменова, 2023], проблемы референции в вымышленном мире [Крипке, 1986; Lewis, 1986; Ronen, 1994]. Понятие ВМ было использовано при изучении различных типов художественных текстов, например интериоризированных и экстериоризированных текстов психологической прозы [Щирова, 2003], лингвистического конструирования художественных миров фантастической литературы [Неронова, 2010; Pavkin, 2020], смысловой организации литературы нонсенса [Новикова, 2016], изображенных миров художественного нарратива [Ryan, 2019; 2021; Stockwell, 2016], цифровой художественной литературы [Bell, 2019].
В данной статье, посвященной проблеме объективации ментальных конструктов, противопоставленных по аксиологическому признаку, концепция ВМ впервые применяется для исследования текстов нового типа – комментариев интернет-дискуссии. Цель исследования заключается в выявлении лексико-стилистических средств формирования оценочных высказываний, объективирующих каждый из ВМ, сконструированных в процессе оценивания объекта обсуждения.
Материалы и методы
Материалом исследования являются тексты комментариев (2022–2023 гг.), созданных участниками интернет-дискуссии о тизерах-трейлерах игровых фильмов – ремейков классических мультфильмов студии У. Диснея: «Little Mermaid» / «Русалочка» (LM), «Peter Pan» / «Питер Пен» (PP) и «Snow White» / «Белоснежка» (SW). Новые кинотексты послужили стимулом для обсуждения острых социальных проблем современности: толерантности, межрасовых отношений, гендерного многообразия. Участники дискуссии обсуждают допустимость изменения внешних данных персонажей в соответствии с пропагандируемыми тенденциями. Например, несогласие вызвал выбор актрис на главные роли в фильмах «Русалочка» и «Белоснежка», а также внешний вид гномов («Белоснежка») и появление девочек в группе персонажей «потерянные мальчики» («Питер Пен»). Участников дискуссии можно разделить на две группы: хейтеры и сторонники. Причем данные сайтов свидетельствуют о количественном преобладании хейтеров, например: трейлер о Русалочке положительно оценили 346 тыс. чел., а отрицательно – 1,2 млн (LМ). Эти данные позволяют предположить более высокую степень вариативности и большее разнообразие языковых средств, используемых для выражения отрицательной оценки.
В ходе интернет-дискуссии активно используются как вербальные, так и невербальные средства коммуникации. В центре внимания авторов статьи находятся языковые средства объективации аксиологически противопоставленных ВМ. Комментарии-эмодзи и комментарии-мемы представляют собой объект отдельного исследования, посвященного проблематике поликодового текста, и поэтому не рассматриваются. При цитиро- вании эмпирического материала сохраняются орфография и пунктуация авторов комментариев; оформление перевода примеров, выполненного авторами статьи, приближено к оригиналу.
Выбор методов и приемов исследования обусловлен многоаспектностью рассматриваемой научной проблемы. Авторы использовали комплексную методику, включающую лингвостилистическую интерпретацию текстового материала с учетом широкого историкокультурного контекста, сравнительно-сопоставительный и описательный методы, а также методы компонентного, контекстуального и дефиниционного анализа.
Результаты и обсуждение
В рассматриваемых интернет-дискуссиях тизеры-трейлеры являются объектами оценки и стимулом лингвокогнитивной деятельности субъектов оценки (участников обсуждения), которые осмысляют новое знание о мире, соотносят его с основанием оценки (мультфильмами «Русалочка», «Питер Пен», «Белоснежка», снятыми на студии У. Диснея), создают ментальный конструкт (ВМ) и объективируют его в языковой форме.
Представленные в сети результаты этой деятельности могут быть разделены на две группы в рамках общеоценочной дихотомии «хорошо – плохо». ВМ+ конструируется автором комментария в том случае, если новый кинотекст соответствует его пресуппозиции. Следовательно, оправданные жанровые ожидания позволяют зрителю положительно оценить представленный ментальный конструкт как желаемый и потому лучший вариант изображенной реальности. ВМ– создается участником интернет-дискуссии в том случае, если политкорректный кинотекст, соответствующий концепции культуры отмены, не совпадает с его пресуппозицией и вследствие этого оценивается отрицательно как порицаемый вариант того же фрагмента изображенной реальности. Используя принцип достаточного основания, на котором базируется утверждение Лейбница о том, что разумное основание имеется «не меньше в истинах случайных, чем в необходимых» [Лейбниц, 1984, с. 496], можно утверждать, что ВМ+ и ВМ– онтологически и эпис- темологически равноправны. Стремление авторов комментариев обосновать именно свою точку зрения как истинную есть подтверждение идеи Д. Льюиса о том, что для находящегося внутри ВМ он является объективной реальностью [Lewis, 1986].
Оценочные ВМ интернет-дискуссии связаны с иными произведениями искусства, художественными текстами или их экранизациями, так как их статус ( ВМ+ или ВМ– ) определяется соответствием этим первоисточникам. Таким образом, ВМ интернет-дискуссии можно обозначить как семиотические дискурсивные миры (в терминологии Э. Кржановской-Ключевской), потому что они не только существуют в семиотическом пространстве культуры, но и создаются с опорой на широкий спектр текстов. Эти миры сочетают в себе противоположные начала: они характеризуются изменчивостью (выбор автором комментария культурного объекта для выражения своей точки зрения определяется его индивидуальными предпочтениями и личным культурным опытом) и стабильностью (комментарии сохраняются в Сети в неизменной форме в течение длительного времени).
Авторы комментариев интернет-дис-куссии создают оценочные высказывания двух типов: универсальные оценочные высказывания, которые объективируют как ВМ+, так и ВМ–, и специальные оценочные выс- казывания, которые объективируют один из ВМ (ВМ+ или ВМ–).
В универсальных оценочных высказываниях коммуниканты используют эксплицитные и имплицитные средства выражения оценки.
Эксплицитные средства выражения оценки – это те лексические единицы и их функциональные эквиваленты, у которых оценочная сема входит в интенсионал, благодаря чему «оценочные смыслы однозначно интерпретируются адресатом, при этом результаты оценочной интерпретации находят подтверждение в вербальных знаках» [Марь-янчик, 2013, с. 62]. В таблице 1 приведены примеры оценочных высказываний, в которых для объективации ВМ+ и ВМ– использованы глаголы, прилагательные и существительные, называющие положительные или отрицательные эмоции.
Имплицитные средства выражения оценки – это те лексические единицы и их функциональные эквиваленты, у которых оценочный компонент входит в импликационал или возникает в результате контекстуального приращения смысла. Это оценка «скрытая, не имеющая однозначно интерпретируемых сигналов в слове, высказывании», в которой оценочный компонент локализован на уровне ассоциативных сем и, следовательно, оценочность трактуется благодаря контексту и пресуппозициям, а реализуется на уровне подтекста [Ма-рьянчик, 2013, с. 62]. В таблице 2 приведены
Таблица 1. Эксплицитные средства формирования универсальных оценочных высказываний при объективации ВМ интернет-дискуссии
Table 1. Explicit means in universal assessment utterances that embody possible worlds of Internet discussion
|
ВМ+ 1 |
ВМ– |
|
Глаголы |
|
|
Personally I liked the trailer when I didn’t expect to like it (LМ) / Лично мне трейлер понравился, хотя я этого не ожидал |
I love the part where this trailer ends (LM) / Мне очень понравилось, что трейлер закончился |
|
Имена прилагательные |
|
|
Ok but this is actually a great trailer (SW) / ОК, это реально шикарный трейлер |
Looks dull both visually and artistically (РР) / Все уныло, и зрительный ряд и актерская игра |
|
Имена существительные |
|
|
This is one of those movies where the racists will point to how badly it was received and complain about woke disney, completely ignoring that it’s a soulless cash-grab going straight to D+ (РР) / Это один из тех фильмов, о которых расисты говорят, что публика их не принимает, жалуются, что дисней стал повесточным, совершенно забывая, какую кассу он делает |
another flop like little mermaid (PP) / еще один провал, как и русалочка |
Таблица 2. Имплицитные средства формирования универсальных оценочных высказываний при объективации ВМ интернет-дискуссии
Table 2. Implicit means in universal assessment utterances that embody possible worlds of Internet discussion
Специальные оценочные высказывания , репрезентирующие ВМ– , характеризуются бóльшим разнообразием языковых средств, чем средства создания ВМ+ . Для выражения негативного мнения авторы комментариев используют: 1) контрфактические высказывания; 2) риторические вопросы; 3) сравнения.
-
1 . Контрфактические высказывания, которые репрезентируют ВМ– , появились в комментариях в 2022 г. при обсуждении тизера-трейлера к игровому фильму «Русалочка». Поскольку подавляющему большинству зрителей не понравился выбор темнокожей актрисы на главную роль и выразили в сообщениях свое неодобрение, администрация канала YouTube, следуя принципам культуры отмены, удалила негативные отзывы. После этого недовольные зрители разместили множество комментариев, созданных по единой структурно-семантической модели: говорящий восторгается тизером, приписывая персонажам «Русалочки» узнаваемые реплики или действия, типичные для семантических пространств прецедентных текстов англоязычной культуры (например, кинотекстов или мемов). Сами пользователи назвали эту модель «“I love the part” comments» (LМ).
Речемыслительная деятельность участника интернет-дискуссии при обработке контрфактического высказывания проходит следующие этапы:
-
– прочтение предшествующих комментариев;
-
– декодирование эксплицитной информации;
-
– идентификация цитируемого прецедентного (кино)текста англоязычной культуры;
-
– декодирование имплицитной информации;
-
– соотнесение высказывания с ВМ– ;
-
– создание нового комментария по заданной модели – приписывание персонажу текста иной узнаваемой цитаты из другого прецедентного текста.
Например:
-
(1) I love the part where Flounder said “May the force be with you” to Ariel. So powerful (LМ) / Мне очень нравится фрагмент, в котором Флаундер говорит Ариэль «Да пребудет с тобой сила». Мощно. Автор контрфактического комментария приписывает персонажу по имени Флаундер (Камбала) знаменитую фразу из фильма «Звездные войны». Несоответствие цитаты из прецедентного текста фикциональному миру «Русалочки» обусловливает восприятие комментария, в котором эксплицитно выражается положительная оценка ролика, как ложного. Прилагательное powerful , узуальное значение которого содержит положительную имплицитную оценку, обретает противоположное по своей оценочной направленности контекстуальное значение и ироничный комментарий становится маркером ВМ– .
Аналогичным образом создаются и декодируются многочисленные контрфактичес- кие комментарии в обсуждениях иных видеороликов.
-
(2) I like the part where snow white said “I now have to glue you back together, IN HELL” (SW) / Мне нравится фрагмент, в котором белоснежка говорит «Мне сейчас снова придется вас соединить, К ЧЕРТУ»;
-
(3) Love the part when Gandalf shows up and said: You shall not be white and changes wendy skin color (PP) / Люблю фрагмент, в котором появляется Гендальф и говорит: Ты не должна быть белой и меняет цвет кожи венди.
2. Риторические вопросы – это эмоционально окрашенные высказывания, синтаксическая структура которых соответствует вопросительному предложению, а смысловая – повествовательному. Они передают иронию, насмешку и возмущение коммуниканта, придавая комментарию дополнительную выразительность. Приведем примеры, в которых невозможность заявленных событий базируется на известных англоязычному сообществу данных культурной се-миосферы, а реализация отрицательного оценочного потенциала высказываний обусловлена эк-стралингвистическим контекстом. Так, в ситуации пропагандируемой концепции культуры отмены исполнение роли индианки Покахонтас белой актрисой не представляется возможным:
Использование этой модели построения высказывания, востребованной среди коммуникантов, не согласных с пропагандируемой политикой политкорректности, обеспечивает комментариям эмоциональную окрашенность и экспрессивность. Такое языковое оформление ВМ– способствует увеличению количества сторонников этой точки зрения и, следовательно, дальнейшему расширению спектра языковых средств, объективирующих данный ментальный конструкт.
-
(4) Are you going to use a white actress for Pocahontas for a live action movie? (SW) / Вы собираетесь пригласить белую актрису на роль Покахонтас в игровом фильме?
Авторы ремейков не создают новые истории, а используют культовые образы принцесс, например, Белоснежки, Русалочки, поскольку это обеспечивает успех фильма.
-
(5) If you wanna give more visibility to different ethinicities, why not creat new stories, new princesses
-
3. Сравнения являются эффективным средством объективации ВМ– ; для выражения негативной оценки используются как эксплицитные (6), так и имплицитные (7) узуальные языковые средства:
-
(6) This almost looks as bad as the little mermaid (РР) / Выглядит почти также плохо , как и русалочка;
-
(7) ...This looks like junk , and the cast when being interviewed could not possibly be more off-putting, UGH! (SW) / ...похоже на мусор , а актеры, у которых брали интервью, просто отвратительны, ФУУ!
and characters for us to fall in love with? (SW) / Если вы хотите представить расовое разнообразие, почему бы не придумать новые истории, новых принцесс и персонажей, которых мы все полюбим?
Вопросительная форма высказывания, объективирующего ВМ– , стимулирует когнитивную активность читателей комментариев, вовлекает их в интернет-дискуссию в качестве участников и создает у них иллюзию самостоятельного принятия решения об отрицательной оценке ВМ.
Особо следует отметить, что узуальная аксиологическая направленность номинативных единиц может меняться в контексте обсуждения видеоролика.
-
(8) Looks like jungle book character replacing Peter pan (PP) / Похоже, вместо Питера Пэна снимался герой из книги джунглей.
Комментарий (8) касается внешнего облика смуглого актера в роли Питера Пэна, скорее напоминающего зрителю мальчика-индуса из сказок Киплинга. Такая расстановка акцентов не соответствует данным семиотического пространства культуры, в котором имплицитно заложена национальная принадлежность Питера Пэна. Персонаж Киплинга ( jungle book character ) традиционно оценивается положительно, но в анализируемом предложении происходит контекстуальное приращение смысла, и данная номинативная единица обретает отрицательную оценочную сему ‘неуместность, неправильность’.
Языковая репрезентация ВМ+ в специальных оценочных высказываниях менее разнообразна и более «прямолинейна». Обычно автор комментария прибегает к развернутому логическому обоснованию своего мнения.
-
(9) Ariel being black doesn’t change anything about anything Ariel’s a mermaid which is a mythical creature with the ability to sing angelic Halle does that very well her voice is exactly like Ariel’s from the movie btw this is based of DISNEYS version of the little mermaid not some Viking or whatever story you just made up (LM) / То, что Ариэль чернокожая ничего не меняет, ведь русалочка Ариэль – это мифологическое существо, умеющее петь. Холли поет как ангел, у нее голос точно как у Ариэль в фильме, он основан на ДИСНЕЕВСКОЙ версии русалочки, а не на телесериале Викинг или другой придуманной вами истории.
Говорящий не только имитирует логическое изложение материала, но и, используя отсылки к «энциклопедии реального мира», создает иллюзию объективности, непредвзятости своего мнения и подводит собеседника к выводу о том, что новый вариант кинотекста следует оценить положительно.
Заключение
Онтологически и эпистемологически равноправные ВМ, конструируемые зрителями в процессе обсуждения рекламных роликов ремейков мультфильмов студии У. Диснея («Русалочка», «Питер Пен», «Белоснежка»), аксиологически противопоставлены друг другу. Статус ментального конструкта как ВМ+ или ВМ– определяется высказанной коммуникантами положительной или отрицательной оценкой нового кинотекста. Оценка комментаторов, в свою очередь, зависит от соответствия увиденного на экране пресуппозиции адресата и семиотическому пространству культуры. ВМ интернет-дискуссии объективируются универсальными и специальными оценочными высказываниями, в которых используются эксплицитные и имплицитные языковые средства. Объективация ВМ+ и ВМ– характеризуется квантитативно-структурной асимметрией. Лингвистические средства, отобранные авторами комментариев в ходе интернет-дискуссии для объективации ВМ– , значительно более разнообразны, чем средства объективации ВМ+ .
Список литературы Лингвистическое моделирование возможных миров в англоязычной интернет-дискуссии
- Бабушкин А. П., Стернин И. А., 2018. Когнитивная лингвистика и семасиология. Воронеж: Ритм. 229 с.
- Горшкова Е. И., 2012. Коммуникативные тактики согласия в интернет-коммуникации (на примере блогов) // Вопросы когнитивной лингвистики. № 3 (032). С. 107–112.
- Драгалина-Черная Е. Г., 2011. Дедукция существования. Путешествуя по возможным и невозможным мирам // Возможные миры. Семантика, онтология, метафизика. М.: Канон+ ; Реабилитация. С. 40–66.
- Ильинова Е. Ю., 2008. Вымысел в языковом сознании и тексте. Волгоград: Волгогр. науч. изд-во. 513 с.
- Клейменова В. Ю., 2023. Фикциональный мир как итог и стимул интерпретации результатов когниции // Понять другого: проблемы интерпретации текста в современной науке. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена. С. 122–145.
- Крипке С., 1986. Загадка контекстов мнения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18. С. 194–241.
- Лейбниц Г. В., 1984. Об универсальной науке, или философском исчислении // Сочинения. В 4 т. Т. 3. М.: Мысль. С. 494–500.
- Лейбниц Г. В., 1989. Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла // Сочинения. В 4 т. Т. 4. М.: Мысль. С. 49–554.
- Лутовинова О. В., 2008. Интернет как новая «устно-письменная» система коммуникации // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. № 11 (71). С. 58–65.
- Марьянчик В. А., 2013. Аксиологичность и оценочность медиа-политического текста. М.: URSS. 266 с.
- Неронова И. В., 2010. Детализация и лакунарность как принципы конструирования художественных миров в творчестве братьев Стругацких 1980-х гг. // Ярославский педагогический вестник. № 4. Т. 1: Гуманитарные науки. С. 281–285.
- Новикова А. В., 2016. Анализ наносмыслов в актуализации художественного мира как разновидности возможных миров // Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. № 3. С. 52–59. DOI: 10.15593/2224-9389/2016.3.5
- Руднев В. П., 2017. Энциклопедический словарь культуры XX века. СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус. 859 с.
- Сергаева Ю. В., 2018. Творчество виртуальной языковой личности как основа антропоцентрической неографии // Язык и текст в антропомерной науке: коллектив. моногр. СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена. С. 166–187.
- Сидорова И. Г., 2011. Коммуникативно-прагматические характеристики персональных и интерперсональных жанров Интернет-дискурса // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. № 2 (14). C. 154–159.
- Фатиев Н. И., 1997. Философское значение семантики возможных миров: автореф. дис. ... д-ра филос. наук. СПб. 45 с.
- Хинтикка Я., 1980. Логико-эпистемологические исследования. М.: Прогресс. 447 с.
- Щирова И. А., 2003. Психологический текст: деталь и образ. СПб.: Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та. 120 с.
- Щирова И. А., 2011. Текстовый мир, фикциональный мир, возможный мир и теория разума: о плодотворности междисциплинарных исследований текста // STUDIA LINGUISTICA XX. Язык в логике времени: наследие, традиции, перспективы. СПб.: Политехника-сервис. С. 203–211.
- Bell A., 2019. Digital Fictionality: Possible Worlds Theory, Ontology, and Hyperlinks // Possible Worlds Theory and Contemporary Narratology / ed. by A. Bell, M.-L. Ryan. Linkoln: University of Nebraska Press. Р. 249–271.
- Chrzanowska-Kluczewska E., 2017. Possible Worlds – Text Worlds – Discourse Worlds and the Semiosphere // State University Herald. Humanities Research. Humanitates. Vol. 3, № 3. Р. 35–57.
- Crystal D., 2006. Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press. 304 p.
- Hintikka J., 2019. Perspectives on the Logical Study of Language // Logica Universalis. № 13 (2). Р. 151–163.
- Lewis D. K., 1986. On the Plurality of Worlds. Oxford: Blackwell. 276 p.
- Pavkin D., 2020. A Cognitive Linguistic Approach to the Analysis of Fantasy Text Characters // Cognition, Communication, Discourse. № 20. Р. 41–61.
- Ronen R., 1994. Possible Worlds in Literary Theory. Cambridge ; N. Y.: Cambridge University Press. 244 p.
- Ryan M.-L., 2019. From Possible Worlds to Storyworlds. On the Worldness of Narrative Representation // Possible Worlds Theory and Contemporary Narratology. Linkoln: University of Nebraska Press, 2019. Р. 62–87.
- Ryan M.-L., 2021. Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory. Bloomington: Indiana University Press. viii, 291 p.
- Stockwell P., 2016. Cognitive Stylistics // The Routledge Handbook of Language and Creativity. L.: Routledge. Р. 240–252. URL: https://www.liveperson.com/blog/digital-lives-of-millennialsand-gen-z