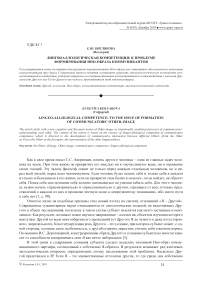Лингвоаллологическая компетенция: к проблеме формирования ино-образа коммуникантов
Автор: Кислякова Евгения Юрьевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Лингвистика и коммуникация
Статья в выпуске: 6 (59), 2018 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается новое когнитивно-дискурсивное терминопонятие Ино-образа как ситуативно обусловленного понимания коммуникантами друг друга. Содержание данного понятия составляет сущность лингвоаллологического компонента ком- муникативной компетенции, который направлен на совершенствование коммуникативного взаимодействия с разными Дру- гими (от Другого как Ты до Другого как чужого, представителя иной лингвокультуры).
Другой, аллология, ино-образ, коммуникативная компетенция, лингвоаллологический компонент
Короткий адрес: https://sciup.org/148310402
IDR: 148310402 | УДК: 81’1
Текст научной статьи Лингвоаллологическая компетенция: к проблеме формирования ино-образа коммуникантов
Как в свое время писал С.С. Аверинцев, понять другого человека – одна из главных задач человека на земле. При этом важно не превратить его мыслью ни в «исчислимую» вещь, ни в отражение своих эмоций. Эту задачу философ ставит не только перед каждым отдельным человеком, но и перед всей эпохой, перед всем человечеством. Если человек будет искать себя и только себя в каждом из своих собеседников в его жизни, если он превратит свое бытие в монолог, он не найдет, не обретет себя. Поиск себя или познание себя должно основываться на умении забыть себя. Для этого человеку нужно начать «присматриваться» и «прислушиваться» к другим, отрешаясь от всех готовых представлений о каждом из них и проявляя честную волю к непредвзятому пониманию, ибо иного пути к себе нет [1, с. 99].
Ответом эпохи на подобные призывы стал новый взгляд на систему отношений «Я – Другой». Современные гуманитарные науки отказываются от онтологических моделей, не включающих Другого в объект исследования, поскольку в таком случае субъект мыслится как нечто застывшее и неизменное. Как результат, возникло новое научное направление – аллология, объектом изучения которого выступает Другой во всем многообразии его проявлений (от Другого Я до чужого и даже потустороннего, запредельного). Конституирующая роль Другого – это условие, при котором субъект может, с одной стороны, осознать свою особенность и, с другой стороны, перестать считать себя эталоном нормы. По-мнению И.С. Дорогавцевой, конструирование образа Другого в сознании субъекта во многом зависит от способности воспринимать свое Я как нечто нейтральное [3].
В этой связи в содержании сознания субъекта следует выделять значимый Ино-образ коммуникативного партнера, соотносимый с собственно Я-образом. В результате возникает ряд ключевых методологических вопросов, определяющих логику исследования этой проблемы: Насколько Другой представлен в Я? Если Я – это множественные отголоски других, то где среди них собственно
Я? Как разграничивать Я-образ и Ино-образ человека и как эти сферы личности оязыковляются? Последняя формулировка подводит нас к осознанию необходимости рассмотрения проблемы Другого с позиции лингвоаллологии, в рамках которой посредством языковой репрезентации возможно изучение структур коммуникативного сознания, влияющих на эффективное/неэффективное, экологичное/ неэкологичное коммуникативное взаимодействие Я и Другого. Определение содержания таких структур коммуникативного сознания, например, коммуникативных категорий, способствует более глубокому пониманию содержания коммуникативной компетенции, которая реализуется, в первую очередь, в речевом взаимодействии одного коммуниканта с другими, а значит включает в себя лингвоаллологи-ческий компетентностный компонент.
При рассмотрении вышеобозначенных вопросов необходимо учитывать многогранное понимание Другого. Изучение Я и Другого в качестве обособленных друг от друга объектов окружающей действительности представляется не совсем верным, т. к. каждое отдельное Я отображает в вербальном и/или акциональном планах то количество n Других, с которыми субъект встречается в процессе коммуникации.
Данная проблема вписывается в круг научных вопросов, изучаемых теорией коммуникации, психолингвистикой и этнопсихолингвистикой. Проблема актуализации адекватного Ино-образа в коммуникативном сознании также может стать объектом исследования в предлагаемой нами области научного знания – лингвоаллологии.
Как и любой другой объект научного познания, Ино-образ должен описываться на основе определенных методологических принципов и с помощью соответствующего метода. Кроме этого, необходимо анализировать и определять вводимое нами в научный дискурс понятие Ино-образа в сопоставлении со смежными понятиями, функционирующими в современной лингвистике: Я-образ, мое другое Я, образ Другого.
В современной лингвистике проблема самости, Я-концепции, Я-образа получила достаточно подробное описание (У. Джемс, И.С. Кон, Н.А. Корепина и др.). Одним из центральных выступает понятие человека говорящего, субъекта, репрезентируемого концептом Я, наряду со словами ты, здесь, сейчас.
Развитие сознания человека обусловлено субъектно-субъектными и субъектно-объектными отношениями с окружающим миром, отношением на уровне Я – Ты, познанием себя через Ты. К человеку осознание себя приходит через его окружение, он вырабатывает устойчивое внутреннее представление о самом себе в результате коммуникации с Другими. На основе этого осуществляется социализация, происходит конструирование Я и собственной коммуникативной компетенции. При этом важно учитывать фактор множественности Я субъекта: вместо одного, единого Я в структуре личности сосуществует целое множество Я (не одна личность, но множество личностей, как настоящее Я, мое второе Я, искреннее Я и т. п.), каждое из которых является продуктом прошлого опыта коммуникативного взаимодействия с другими людьми [4].
Ино-образ – это компонент коммуникативного сознания субъекта со своим собственным содержанием. Под Ино-образом мы имеем в виду ситуативно обусловленное понимание Другого как коммуникативного партнера, определенная дедуктивная суммативность всех параметров Другого в преломлении к конкретной коммуникативной ситуации. Ино-образу отводится статус, который можно охарактеризовать как значимый Другой во мне, Другой-в-Я. Иными словами, это – результат понимания Другого субъектом здесь-и-сейчас, что является мотивирующей основой для создания общего коммуникативного центра партнеров. Как нам представляется, требуется апробация такого понимания Ино-образа на конкретном языковом материале с помощью определенных методов его анализа. Остановимся на языковых примерах в форме диалогов, внутренней речи героев, прямой речи, а также художественных нарративах, в которых эксплицитно выражено взаимодействие коммуникантов. В ходе исследования материала мы используем метод контекстуального анализа, с помощью которого определяем фрагменты, доминантные смыслом «воздействие одного человека на другого», а также дискурс-анализ при интерпретации языкового материала.
Например, в следующем художественном отрывке речевые партнеры практически сразу понимают друг друга, конструируют адекватные ситуации общения Ино-образы, что отражается в их кооперативном общении: Долго и ошеломленно стоял он перед шкафом, склонив голову набок, с голодным и изумленным лицом ребенка, увидевшего блюдо пирожных <…> Он обернулся к ней, поцеловал неожиданно ее худую руку и голосом низким и богатым мерцаниями, как свет синей лампы из простуженного детства, сказал:
– Чудо какие… Какая роскошь… Монтень… Паскаль… – И, все еще не отпуская ее руки, со вздохом добавил: – И даже в эльзевировских изданиях…
– Здесь девять Эльзевиров, – с гордостью кивнула растроганная Сонечка, отлично усвоившая книговедение, и он посмотрел на нее странным взглядом <…> он понял, что перед ним – его жена [7, с. 15–16] .
В повести Л. Улицкой «Сонечка» главная героиня доверяет совершенно незнакомому человеку дорогие книжные издания, т. к. полностью разделяет его пристрастие к чтению: Мы сделаем так: я возьму на свой формуляр, а вы перед отъездом принесете мне книги, – извиняющимся голосом сказала Сонечка.
Ино-образ, адекватный ситуации общения, создает основание для «коммуникативного единения» субъектов, для создания их общего эмоционально-смыслового центра, который выступает залогом более успешного общения. Это, на наш взгляд, соотносится с уровнями самосознания, выделенными Г. Гегелем. Особенно важным среди них является третий уровень, который определяется философом как всеобщее самосознание, узнающее себя в других самосознаниях и признающее себя равным им, как и они признают себя равными ему самому. На данном уровне самосознание признает как свою самость, так и другие самосознания в себе [2]. Думается, что если такое самосознание не развито в структуре личности, и она не способна формировать Ино-образы партнеров по коммуникации, то все эти Другие Я так и остаются отстраненными и непознанными. Именно в результате такой отстраненности общение с Другим может принимать конфликтный характер. Например, в романе «Терапия» современного британского писателя Д. Лоджа главный герой увлекается в кризисный момент своей жизни трудами философа С. Кьеркегора и настолько проникается ими, что начинает подражать его стилю жизни, самовыражения, а также разделять его суждения. Тем самым он формирует в себе новую ипостась личности, обусловленную образом Другого, новый альтер (чуждое и непонятное для окружающих новое Я). Например, супруга главного героя теперь не понимает, как выстраивать с ним отношения:
The last straw was when I told him Jane had rung up to tell us she was pregnant – Jane’s our daughter – and that she and her partner were going to get married, and he just grunted, “Oh yes? Good,” and went on reading bloody Kierkegaard <…> Oh, I’m afraid I can’t take this Kierkegaard thing seriously. I told you, Tubby’s not an intellectual [10, с. 193].
Трансформация главного героя в новую личность приводит к коммуникативным неудачам в общении с близкими – его семейная жизнь завершается разводом, поскольку его супруга не готова конструировать Ино-образ, адекватный собственному видению себя героем, что на языковом уровне запечатлено как сниженная эффективность (кооперативность и экологичность) их общения: reading bloody Kierkegaard, I can’t take this Kierkegaard thing seriously. Следовательно, Ино-образ выступает связующим компонентом между различными Я личности: мое другое Я осознается как результат воздействия кого-либо или чего-либо иного.
По Э. Левинасу, у субъекта нет выделенной позиции: один для другого – это то же, что и другой для него. Познание Другого осуществляется через сопереживание ему как моему другому Я, как alter ego. Однако, если такое общение доведено до абсурда, то оно становится невозможным [5].
В обыденном функционировании языка заложена предпосылка неидентичности говорящего и слушающего как исходной данности, поэтому уравнивание Я-образа и Ино-образа невозможно и коммуникативно нерелевантно. Это, в частности, можно проиллюстрировать примером из романа М. Бланшо «Аминадаб», в котором повествуется о странном доме, жители которого становятся взаи- мозаменяемыми (языковыми средствами в тексте произведения являются слова penetrate, permeate one another/each other), а их общение – неконструктивным, бессмысленным. Диалог персонажей позволяет расслышать эхо одной и той же речи, не имеющей ни центра, ни субъекта. Диалог как будто возникает между собеседниками, в промежутке между ними, в не-месте, в пространстве блуждания и заблуждения [6].
Процесс формирования Ино-образа можно, на наш взгляд, сопоставить с поэтапной рефлексией отношения партнеров друг к другу, что отражено в одном их трудов У.Д. Брукса и Ф. Эммерта [9]. В своих рассуждениях о первом знакомстве с кем-либо, авторы в качестве ориентира задают ряд вопросов, которые помогают коммуникативным партнерам согласовать их идентичности и сконструировать адекватные Ино-образы друг друга:
-
1) что именно повлияло на ваше мнение о собеседнике;
-
2) что заставило вас проникнуться симпатией или антипатией к другому;
-
3) что позволило вам решить, можете ли вы доверять этому человеку или нет;
-
4) как вы осознали, что человек образованный или нет, эмоциональный или неэмоциональный и пр. [9].
Сложности построения Ино-образа коммуникативного партнера могут быть связаны с тем, что наши суждения о Другом, по большей мере, оказываются результатом проектирования на него наших собственных характеристик, поскольку часто наши представление о Другом напоминают представления как о подобном, схожем (подробнее см.: [8]). Помимо этого, наше видение Другого обусловлено нашими собственными настроениями и мотивами в какой-либо момент жизни [8], которые также могут искажать восприятие коммуникативного партнера.
Умение успешно общаться предполагает адекватное ситуации общения конструирование Ино-образа Другой личности, иными словами, сформированной лингвоаллологической компетенции, благодаря которой человек говорящий сможет сделать адекватный ситуации общения и пониманию собеседника выбор языковых средств общения, коммуникативных стратегий и тактик, определяющих экологичный/неэкологичный характер общения.
Список литературы Лингвоаллологическая компетенция: к проблеме формирования ино-образа коммуникантов
- Аверинцев С.С. Похвальное слово // Юность. 1969. № 1. С. 98-102.
- Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. Философия духа. М.: Мысль, 1977.
- Дорогавцева И.С. Проблема Другого в западной культуре: дис... канд. культурологии. Чита, 2006.
- Корепина Н.А. Языковая реализация функционально-семантической категории самости: автореф. дис.... канд. филол. наук. Иркутск, 2009.
- Левинас Э. Диахрония и репрезентация (Diachronie et representation): доклад, прочитанный Э. Левинасом 20.10.1983 в университете г. Оттавы (Канада) в рамках конференции «В поисках смысла», посвященной творчеству Рикера [Электронный ресурс]. URL: http://cult-lib.ru/doc/philosophy/encyclopedia-post-modern/120.htm (дата обращения: 06.06.2018).
- Никишина Т.Ю. Проблематизация коммуникативной функции языка и столкновение модальностей текста // Новое литературное обозрение. 2011. № 2(108). С. 288-298.
- Улицкая Л. Сонечка: повесть. М.: Эксмо, 2007.
- Argyle Michael. Social Interaction. Chicago: Aldine-Atherton, Inc., 1969. P. 158-164.
- Brooks W.B., Emmert P. Interpersonal Communication. Dubuque: Wm.C. Brown Company Publishers, 1980.
- Lodge D. Therapy. London: Penguin Books, 1995.