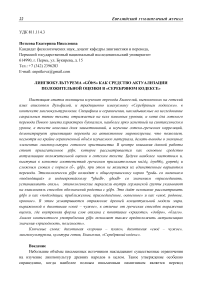Лингвокультурема "goths" как средство актуализации положительной оценки в "серебряном кодексе"
Автор: Петкова Екатерина Николовна
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Общее языкознание
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья посвящена изучению перевода Евангелий, выполненных на готский язык епископом Вульфилой, и традиционно именуемому «Серебряным кодексом», в контексте лингвокультурологии. Специфика и ограничения, накладываемые на исследование сакральным типом текста, отражается на всех языковых уровнях, и хотя для готского перевода Нового завета характерен буквализм, наиболее ярко заметный на синтаксическом уровне, в тексте невелика доля заимствований, а изучение готско-греческих корреляций, демонстрирует ориентацию перевода на автохтонное мировоззрение, что позволяет, несмотря на крайне ограниченный объём изучаемого материала, делать выводы о значимых элементах лингвокультуры готского христианства. В центре внимания данной работы стоит прилагательное gōþs, которое рассматривается как основное средство актуализации положительной оценки в готском тексте. Будучи наиболее частотным и, выступая в качестве соответствий греческим прилагательным καλός, ἀγαΘός, χρηστός и сложным словам с корнем εὖ-, gōþs, при этом не является их единственным вариантом перевода. Этимологически gōþs возводят к общегерманскому корню *goda- со значением «подходящий» и индоевропейскому *ghedh-, ghodh- со значением «присоединять, устанавливать связь», этимологические параллели внутри германской группы указывают на взаимосвязь способов обозначений родства с gōþs. Это даёт основание рассматривать gōþs и как «подходящее, приближенное, присоединённое, освоенное» и как «своё, родовое, кровное». В этом усматривается отражение древней концептуальной модели мира, выраженной в дихотомии «своё - чужое», в отличие от греческих способов выражения оценки, где внутренняя форма слов связана с понятиями «красота», «добро», «благо». Анализ контекстного употребления gōþs позволяет также предположить актуализацию значения «пригодность, полезность».
Дихотомия «хорошо - плохо», дихотомия «своё - чужое», лингвокультурема, культура готов, Евангелия, «Серебряный кодекс»
Короткий адрес: https://sciup.org/147229882
IDR: 147229882 | УДК: 811.114.3
Текст научной статьи Лингвокультурема "goths" как средство актуализации положительной оценки в "серебряном кодексе"
Небольшие объёмы письменных источников накладывают существенные ограничения на изучение лингвокультур древних народов в целом. Такое утверждение особенно справедливо, когда наиболее полным письменным памятником является перевод библейского текста, так как в этом случае при переводе транслируется христианская культура, христианский образ мира, христианские смыслы, и восстановление исходной лингвокультуры становится возможным лишь как призмы, через которую воспринималось христианство в изучаемую эпоху. В данной статье предпринимается попытка проследить взаимодействие языка и культуры германского племени вестготов с христианской культурой. Лингвокультура вестготов дошла до нас в форме немногочисленных рунических надписей и обрывков переводов библейских текстов, наиболее полно сохранившимся из которых является «Серебряный кодекс», в котором христианские представления соприкасаются с языческими представлениями готов.
Средневековые переводы Библии ставили своей целью полностью заменять оригинал, быть его абсолютным аналогом, и потому на всех языковых уровнях им был свойственен буквализм. Однако опора на постулат лингвокультурологии об изоморфизме языка и культуры, позволяет рассматривать любой перевод как средство межкультурного взаимодействия, а значит и источника знаний о культуре языка перевода.
Основная часть
«Серебряный кодекс» по настоящее время остаётся одним из главных источников наших сведений о готах. По мнению Л. Мункхаммара, текст готской Библии демонстрирует, как один человек (епископ Вульфила) предпринял попытку донести библейский текст и его культурные смыслы и феномены до народа, говорящего на готском языке, стараясь при этом не отступать от греческого текста Священного писания [Munkhammar, 2017]. Однако, несмотря на то, что в исследованиях готского языка и культуры, подчёркивается буквализм, характерный для перевода Нового завета, наиболее ярко заметный на синтаксическом уровне, в нём отмечается малая доля заимствований и скрупулёзный подход к подбору слов [Мецгер, 2004, Ганина, 2001]. В статье, посвящённой переводам Библии на древнегерманские языки и их отношение к первоисточникам, Е. Б. Яковенко отмечает, что концептуальные расхождения между переводом и источником, которые проявляются в отсутствии семантического тождества ключевых слов в тождественных структурносемантических контекстах, являются следствием «неравномерного картинирования мира представителями разных культур» [Яковенко, 2017]. Иными словами, готский перевод, как и любой другой, не мог тождественно отразить переводимый текст; переводчик был вынужден опираться на собственную лингвокультуру, отражающую уникальное мировосприятие, уникальную ментальность, уникальный образ мыслей.
О связи мышления и языка писал ещё А. А. Потебня, развивая идеи В. фон Гумбольдта, он определял внутреннюю форму слова не только как ближайшее этимологическое значение, понятное носителям языка, но и как «отношение содержания мысли к сознанию; она показывает, как представляется человеку его собственная мысль». Рассуждая далее о внутренней форме слова, он писал: «Внутренняя форма, кроме фактического единства образа, даёт ещё знание этого единства; она есть не образ предмета, а образ образа, то есть представление» [Потебня, 2012]. Интерпретируя взгляды А. А. Потебни, Ю. С. Степанов в труде «Константы: Словарь русской культуры» рассматривает внутреннюю форму слова в качестве одного из слоёв содержания культурного концепта, который выражается в слове, подчёркивая при этом, что для пользующихся данным языком этот слой существует «опосредованно, как основа, на которой возникли и держатся остальные слои значений» [Степанов, 2004]. Описывая культурный концепт, Ю. С. Степанов пишет о неслучайности именования явлений, которые одновременно принадлежат языку и культуре: «Язык принуждает, точнее мягко и благотворно направляет людей в именованиях, присоединяя поименованное к самым глубинным пластам культуры» [Степанов, 2004]. К сожалению, в случае племени вестготов практически невозможно говорить о реконструкции культурных или лингвокультурных концептов, которые требуют глубокого анализа обширного материала: объём исторических сведений и письменных памятников слишком невелик. Однако терминосистема лингвокультурологии в настоящее время располагает понятием лингвокультуремы, определяемой как единица языка с эталонным, образнометафорическим значением в культуре, которая обобщает результат деятельности человеческого сознания [Опарина, 1999]. В качестве знаковой стороны лингвокультуремы может выступать как отдельная лексема, так и целый текст, её языковое содержание легко вычленяется лингвистическими методами. При этом, по словам В. В. Воробьёва лингвокультурема более «глубокая» по своей сути единица, чем слово» [Воробьёв, 2008], что возвращает нас к внутренней форме слова, которая, на наш взгляд, как раз и является отражением того глубокого, образно-метафорического содержания языковой единицы, которое превращает слово в лингвокультурему.
В данной статье предпринимается попытка «реконструировать» один из важных элементов готской лингвокультуры германского племени вестготов, опираясь на взаимодействие их языка и культуры с культурой христианской. Изучение готско-греческих корреляций демонстрирует в большей мере ориентир перевода на древнегерманские мировоззренческие категории и автохтонные концепции, и в малой доле – опору на греческие семантические модели [Ганина, 2001]. Потому видится возможным получить представление если не о готской лингвокультуре, то о лингвокультурных особенностях готского христианства. Также, Н. В. Ганина отмечает, что ориентация готского переводчика на категории древнегерманского мировоззрения выражается в регулярном употреблении исконных слов, а выполняемые трансформации преследуют цель не просто подменить исходные понятия и категории, но вытеснить образы чужой традиции. В готской мировоззренческой и сакральной терминологии отчётливо видна опора на общегерманские и индоевропейские основы [Ганина, 2001]. Примером тому служит готское прилагательное gōþs «хороший», которое находится в фокусе внимания автора данной статьи.
Прилагательное gōþs «хороший» имеет довольно прозрачную этимологию и строгие параллели, как в германских, так и в других индоевропейских языках, особенно языках славянской группы. Восстанавливают общегерманскую основу * goda - «подходящий, хороший», образованную в результате чередований по аблауту (продлённая о- ступень) от утерянного сильного глагола * gadan - «подходить» (ср. д.и. gōðr , д.а. gōd , д.в.н. guot ) и производны слабым глаголом * gadōjan «подходить друг к другу» [Kroonen, 2013]. В свою очередь о.г. * goda - и * gadan - возводятся к индоевропейскому корню *ghedh-, ghodh- «соединять, быть крепко соединённым, устанавливать связь». В словаре Ю. Покорного находим следующие германские параллели: д.фр. gadia «объединять», gaderia «сливаться, объединяться» д.в.н. bigatōn «собирать таким образом, что подходит» и тут же д.а. (ge)gada «товарищ, супруг», gædeling «товарищ, соратник», гот. gadiliggs «двоюродный», д.шв.
gaduling «родственник», д.в.н. gatulinc, gatilinc «родственник, двоюродный, спутник», д.а. geador, tō gædere «вместе», д.фр. gadur , д.а. gadrian, gæd(e)rian “собирать”. Среди индоевропейских параллелей находим: д.инд. gádhya-ḥ «крепко склеивать»; ǘ-gadhita-ḥ «сцепленный»; ст.-слав. ГОДЪ «время, пора», ГОДЬНЪ «услужливый, угодливый», рус. годный “, чеш. hodný «пригодный, достойный, способный» и др. [Pokorny, 2007]. В самом наличии в лингвокультуре германских племён единицы с подобной этимологией усматривается отражение древней концептуальной модели мира «свой – чужой».
Бинарное противопоставление «свой – чужой», наряду с «жизнь – смерть», «верх – низ», «космос – хаос», «добро – зло», реализовывалось в мифологических и ритуальных текстах древних; два элемента диады определяли дискретность единого целого – мира, в котором существовал человек, пространства, в котором проживала этническая общность [Байбурин, 1990; Верховский, 2014; Маковский, 1996]. Всё пространство делилось на «метафизически освоенное (познанное) – неведомое, враждебное». Как отмечает Ю. С. Степанов, «мир» в древнейших культурах индоевропейцев – это место, где живут люди «моего племени», «моего рода», «мы», место хорошо обжитое, хорошо устроенное, где господствует «порядок», «согласие между людьми», «закон»; оно отделяется от того, что вне его, от других мест, вообще от другого пространства, где живут «чужие», неизвестные, где наши законы не признаются и где, может быть, законов нет вообще, где нам страшно». [Степанов, 2004]. На основании этого gōþs будет рассматриваться в данной статье как один из базовых элементов готской лингвокультуры.
На сохранившихся страницах «Серебряного кодекса» прилагательное gōþs встречается наиболее часто в сравнении с другими способами выражения положительной оценки, насчитывает 27 случаев употребления и используется при описании следующих существительных: akran «плод», airþa «земля», bagms «дерево», hairdies «пастырь, пастух», hairtō «сердце», mitaþs «мера», skalks «слуга», waurstw «деяние, поступок», wilja «воля». В большинстве случаев соответствия этим единицам в греческом тексте описываются прилагательным καλός (19 случаев). Из прочих оценочных прилагательных, встречающихся в древнегреческом тексте и имеющих соответствия готскому gōþs , встречаются ἀγαΘός (4 случая) , χρηστός (1 случай) , сложное существительное εὐδοκία (1 случай перевода широко распространенного в греческом тексте корня εὖ- ) и один случай полного отсутствия оценки в греческом тексте, своеобразный «семантический ноль» .
Греческие синонимы καλός и ἀγαΘός способны указывать как на внутренние, так и на внешние качества: καλός – 1) красивый, прекрасный, прелестный; 2) добрый, хороший, благополучный, благоприятный, благодетельный; 3) добрый, благой, добродетельный; ἀγαΘός – 1) добрый, благой, щедрый; 2) хороший, полезный. Прилагательное καλός возводится к индоевропейскому корню *kal-², kali-, kalu- со значением «красивый, здоровый» [Pokorny, 2007] и подчеркивает гармоничную полноту и законченность, стройность, пропорциональность и соразмерность. Прилагательное ἀγαΘός в ср.р. ед.ч. употребляется в значении существительного «добро, благо», а во мн.ч. – «имущество», его этимология остаётся неясной и чаще относится к догреческому субстрату [Beekes, 2010]. Прилагательное χρηστός «хороший, подходящий, полезный» образовано от χρη «необходимо» от индоевропейского *ĝher-6 (ĝherǝ- : ĝhrē-) [Pokorny, 2007]. Корень εὖ-, традиционно переводимый как «благо-», непротиворечиво возводится к индоевропейскому *esu-s со значением «хороший, благородный, знатный» [Pokorny, 2007; Beekes, 2010] (примечательно, что прилагательное используется либо в среднем, либо в мужском роде, где εὖς (муж.р.) «хороший, смелый, сильный (в военных делах)» [Beekes, 2010]), при этом в готско-греческих парах сложные слова на εὖ- не имеют строгих корреляций.
Перейдём к непосредственному анализу фактов готского языка и попытаемся выявить специфически готские культурные смыслы, опираясь на контексты и ситуации употребления.
Отражения упомянутого ранее древнего и универсального представления «свой – чужой» реализованного в готском gōþs в находим в Евангелии от Матфея (5:45), в строках Нагорной проповеди Христа, посвящённых пояснению закона Моисеева:
ei wairþaiþ sunjus attins izwaris þis in himinam, unte sunnon seina urranneiþ ana ubilans jah godans, jah rigneiþ ana garaihtans jah ana inwindans. – ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. – да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
Здесь собирательное godans «добрые : свои» противопоставлено ubilans «злым : чужим», для которого Г. Кроонен реконструирует общегерманское * ubila - «злой, плохой» (ср. д.а. yfel «злой, больной», д.шв. ubil «злой», д.в.н. ubil «злой, плохой, неправильный» ) [Kroonen, 2013], а в словаре Ю. Покорного эта основа возводится к индоевропейскому корню *upo, up, eup, (e)up-s со значением «под, из под, нечто находящееся под». Древнее противопоставление «свой – чужой» сливается здесь с другим противопоставлением – «верх – низ».
Ярким примером несовпадения объёмов значения готских и греческих единиц служит отрывок из Евангелия от Матфея (7:17-19), в котором метафорически описываются пророки, лжепророки и их деяния:
swa all bagme godaize akrana goda gataujiþ, iþ sa ubila bagms akrana ubila gataujiþ. ni mag bagms þiuþeigs akrana ubila gataujan, nih bagms ubils akrana þiuþeiga gataujan. all bagme ni taujandane akran god usmaitada jah in fon atlagjada. – οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ: οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν. πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. – Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.
В греческом тексте наблюдается последовательное описание дерева, метафоры человека, источника плодов-деяний, при помощи ἀγαΘός «хороший : добрый, благой, щедрый», что связано с описанием качеств, которыми человек обладает, а описание плодов-деяний при помощи καλός «хороший : добрый, благополучный, красивый», и соответствует способу оценки неметафорических деяний (Мф 5:16, Иоан 10:32-33, ). В готском тексте в стихе 17 и дерево, и плоды описываются прилагательным goþs, а в стихе 18 – прилагательным þiuþeigs. Это единственный случай использования þiuþeigs для передачи καλός и редкий случай использования прилагательных gōþs и þiuþeigs в качестве непосредственных синонимов .
В Евангелии от Луки (8:8), встречаем сходную по механизму образования метафору, описывающую распространение слова Божия и его восприятие последователями Христа:
jah anþar gadraus ana airþai godai jah uskeinoda jah tawida akran taihuntaihundfalþ. – καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. – а иное [семя] упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный.
При этом в стихе 15 той же главы в греческом тексте используется синоним (ср. ἐν τῇ καλῇ γῇ ), а готский переводчик остаётся верен первоначальному способу описания ( ana þizai godon airþai ). В Евангелии от Марка (4:8, 4:20) при описании того же эпизода в греческом встречаем εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν и ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν , а в готском in airþa goda и ana airþai þizai godon соответственно . И метафора «дерево», и метафора «земля» в готском более последовательно описывались, а значит, и воспринимались в архаическом ключе, когда этическое противопоставление было ограничено преимущественно представлениями о пользе или вредоносности для коллектива тех или иных явлений [Метелинский, 1991]. Земля хороша, только если она пригодна для взращивания, дерево хорошо, только если оно плодоносит (о том, что готы жили осёдло и занимались плужным земледелием и скотоводством свидетельствуют как археологические данные о вестготах в IV в. [Корсунский, 1984], так и довольно обширный пласт засвидетельствованной земледельческой лексики [Скардильи, 2012]).
Особый интерес представляет случай готской интерпретации полного отсутствия оценки в греческом тексте. В Евангелии от Иоанна (15:2) переводчик окрашивает греческое безоценочное суждение положительно, приравнивая «плод» к «хорошему, пригодному плоду»:
all taine in mis unbairandane akran goþ, usnimiþ ita: jah all akran bairandane, gahraineiþ ita, ei managizo akran bairaina. – πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον καθαίρει αὐτὸ ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ. – Всякую у меня ветвь не приносящую плода, он отсекает; и всякую приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода.
Подобная интерпретация-уточнение может свидетельствовать о попытке проникновения в сакральные смыслы, отнюдь не противоречащие духу христиансва. При этом снова на первый план выходит утилитарный взгляд: плохие плоды так же бесполезны, как и отсутствие плодов.
Актуализацию значения пригодности также можно наблюдать в описании людей, выполняющих свою работу, служащих своему делу: в Евангелии от Иоанна (10:11, 10:14) Иисус проповедует и описывает себя как «доброго пастыря», хорошего пастуха, который следит за своими овцами hairdeis gods, hairdeis sa goda (в греч. καλός ), и в Евангелии от Луки (19:17) в притче слуга (в синод. «раб»), приумноживший богатсво господина, именуется «хороший слуга» goda skalk (в греч. ἀγαΘός ). Если в первом случае можно говорить о последовательном переводе с греческого, то второй случай явно представляет собой переводческую интерпретацию, в которой душевные качества слуги отходят на второй план, а на первый выходит его способность соответствовать заданной роли.
В случаях описания качеств человеческой души, доброты сердца gōþs встречается лишь однажды (in hairtin godamma jah seljamma) и скорее является ходом переводчика, который строго следовал сакральному первоисточнику, где сердце описывалось при помощи двух слов: ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ (Лк 8:15). При этом gōþs соответствует καλός, а ἀγαΘός передается прилагаетльным sēls «хороший, добрый». В остальных случаях используется þiuþeigs «добрый, благой», производное от þiuþ «добро, благо», возводимое к общегерманской основе *þeudja- «благоприятный, благоволящий» [Kroonen, 2013].
Выбиваются из общей тенденции два случая употребления. В Евангелии от Луки (6:35) Христос, в отрывке из Нагорной проповеди о добром отношении к людям неблагодарным, злым, врагам, описывает Бога-отца:
unte is gods ist þaim unfagram jah unseljam. – ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. –ибо Он благ и к неблагодарным и злым.
И хотя традиционный перевод χρηστός – «благ, милостив», первичный взгляд на этимологию греческой единицы даёт больше оснований говорить о пользе, полезности, необходимости того, что с его помощью описывается.
Также только однажды готское gōþs соответствует греческому корню εὖ- в εὐδοκία (Лк 2:14) . Сложные слова с этим корнем часто встречаются в тексте Писания на греческом и имеют самые разнообразные готские корреляты. В данном контексте, ангел является пастухам возвестить о рождении Христа и к нему присоединяется небесное воинство, славящее Господа словами:
wulþus in hauhistjam guda jah ana airþai gawairþi in mannam godis wiljins. – δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας. – слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!
В готском встречаем форму родительного падежа godis wiljins , явно относящуюся к mannam ; то есть в готском тексте речь идёт о «людях доброй воли», или, если отталкиваться от греческого текста, о «людях благой воли», в чьих руках «мир на земле». Если эта догадка верна, то gōþs также реализует в данном контексте представление о «своём». Однако оба примера требуют более подробного концептуального анализа греческих контекстов и прочих соответствий в готском.
Заключение
В результате исследования этимологии и употребления в контексте gōþs можно рассматривать как основное средство актуализации положительной оценки в готском тексте. Будучи наиболее частотным, gōþs в большинстве случаев выступает в качестве соответствий греческим прилагательным καλός и ἀγαΘός, единичны случаи соответствий χρηστός и сложным словам с корнем εὖ-. Этимология, внутренняя форма и этимологические параллели gōþs раскрывают глубинные слои значения исследуемой единицы: «хороший» значит «близкий, находящийся в своём круге обитания, связанный с нами родством». В этом усматривается отражение древней концептуальной модели мира, выраженной в дихотомии «своё – чужое». Готское «хороший» – это также «подходящий, пригодный, полезный», о чем ярко свидетельствует контекстное употребление gōþs. Отсутствие очевидной расчленённости представлений о «хорошем» и «добром» при переводе καλός и ἀγαΘός вновь и вновь наводят на мысль об ахраичности представлений готов. Для более полной реконструкции семантической и культурной наполненности gōþs необходимо провести дальнейший этимологический и контекстный анализ его синонимических и антонимических полей, где будут подробно рассматриваться и вписываться в лингвокультурологический контекст пары gōþs – ubils, sels – unsels, оценочные прилагательные и наречия.
Список литературы Лингвокультурема "goths" как средство актуализации положительной оценки в "серебряном кодексе"
- Байбурин А. К. Ритуал: свое и чужое // Фольклор и этнография: Проблемы реконструкции фактов традиционной культуры / ред. Путилов Б. Н. Ленинград: Наука, 1990 // URL: https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/001/012/baybur.htm (дата обращения: 02.05.2020).
- Воробьев В. В. Лингвокультурология. Москва: Изд-во «Российский университет дружбы народов», 2008. 340 с.
- Верховский И. А. Мифологема «свое-чужое» в архаической мирорефлексии (опыт философской интерпретации) // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2014. Том 14. Вып. 3. С. 58-69
- Ганина Н. А. Готская языческая лексика. Москва: Изд-во «Московский университет», 2001. 176 с.
- Корсунский А. Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской Империи и возникновение германских королевств (до середины VI в.). Москва: Изд-во «Московский университет», 1984. URL http://annales.info/evrope/korsunsk/index.htm (дата обращения: 02.05.2020).
- Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1996. 416 с.
- Метелинский Е. М. Мифологический Словарь. Москва: Советская Энциклопедия, 1991. URL http://www.bibliotekar.ru/mif/index.htm (дата обращения: 02.05.2020).
- Мецгер Б. Ранние переводы Нового Завета. Их источники, передача, ограничения. Москва: Изд-во «Библейско-богословский институт», 2004. 552 с.
- Опарина Е. О. Лингвокультурология: методологические основания и базовые понятия // Язык и культура: Сб. обзоров. Москва: ИНИОН РАН. 1999. 109 с.
- Потебня А. А. Мысль и язык. Москва: Нобель Пресс, 2012. 234 с.
- Синодальный перевод Библии. URL: https://allbible.info/bible/sinodal (дата обращения: 04.05.2020).
- Скардильи П. Готы: язык и культура. Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ; Нестор-История, 2012. 388 с.
- Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. Изд. 3-е, испр. и доп. Москва: Академический проект, 2004. 992 с.
- Яковенко Е. Б. Переводы Библии на древнегерманские языки и их отношение к первоисточникам // LINGUA GOTICA: новые исследования. Вып. 3. / Отв. ред. Е. Б. Яковенко. Москва: БукиВеди, 2017. С. 223-231
- Beekes R. Etymologycal Dictionary of Greek // Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series. Ed. by A. Lubotsky. Vol. 1. URL: https://www.bulgari-istoria-2010.com/Rechnici/ Etymolog_Greek.pdf (дата обращения: 04.05.2020).
- Codex Argenteus. The Gothic Bible // Project Wulfila. 2004. URL : http://www.wulfila.be/gothic (дата обращения 14.10.2019).
- Kroonen G. Etymological Dictionary of Proto-Germanic. Brill. Leaiden-Boston 2013 // Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series. Ed.by A.Lubotsky. Vol.2 URL : https://www.bulgari-istoria-2010.com/Rechnici/A_Lyubotski_Proto_Germanik_dict.pdf (дата обращения: 04.05.2020).
- Munkhammar L. Codex Argentus in Print// LINGUA GOTICA: новые исследования. Вып.3. / Отв. ред. Е. Б. Яковенко. Москва: БукиВеди, 2017. С. 33-45
- Pokorny Proto-Indo-European Etymological Dictionary. A Revised Edition of Julius Pokorny's Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch // Ed.by A. Lubotsky. Indo-European Language Revival Association. 2007. 3441p. URL: https://marciorenato.files.wordpress.com/2012/01/pokorny-julius-proto-indo-european-etymological-dictionary.pdf (дата обращения 04.05.2020).