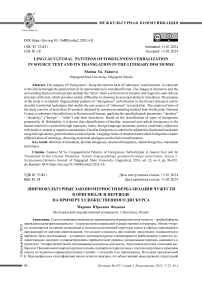Лингвокультурные закономерности вербализации чужести в оригинале и переводе на примере художественного дискурса
Автор: Фадеева Марина Юрьевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 4 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена выявлению закономерностей репрезентации чужести - крайней формы проявления категории инаковости - в пространстве переводной художественной литературы. Мотив «чужого» воплощается на уровне содержания и лингвостилистической структуры текста в образах персонажей и окружающей их картине повествования, что создает сложность при подборе лексических эквивалентов в переводе. Цель исследования - установить лингвокультурные закономерности вербализации чужести в художественном дискурсе и охарактеризовать переводческие приемы, позволяющие передать инаковость в трансляте. Эмпирической базой исследования послужили контексты, полученные методом сплошной выборки из Национального корпуса русского языка, подкорпуса параллельных текстов на русском и немецком языках по заданным параметрам поиска «чужой» / «чуждый» и их производных. На основе предложенной Б. Вальденфельсом классификации видов чужести показано, что объективация повседневной, структурной и радикальной чужести в фактическом материале осуществляется за счет топонимов, реалий, иноязычных вкраплений, прецизионной лексики, прилагательных с положительной, нейтральной или негативной коннотацией. Установлено, что повседневная чужесть подлежит функциональному переводу за счет полных соответствий, генерализации, описания. Языковые формы структурной и радикальной чужести требуют дифференциации значений, подбора контекстуальных аналогов и целостного преобразования.
Инаковость в переводе, повседневная чужесть, структурная чужесть, радикальная чужесть, приемы перевода
Короткий адрес: https://sciup.org/149146854
IDR: 149146854 | УДК: 81’25:821 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.4.8
Текст научной статьи Лингвокультурные закономерности вербализации чужести в оригинале и переводе на примере художественного дискурса
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ л ®
DOI:
Инаковость, актуализирующая в человеческом сознании дихотомию «свой – чужой», представляется лингвистами в виде градуальной оппозиции «свой : : иной – другой – чужой» с учетом коммуникативной ситуации и степени проявления аксиологического признака в таких областях, как принадлежность / пространство / вид / образ действия [Свинкина, 2016]. Инаковость преимущественно имплицитна, однако в некоторых контекстах она может стать эксплицитной, благодаря определенным языковым, в том числе и стилистическим средствам [Кислякова и др., 2023].
Язык позволяет исследователям выявить сходные и отличительные признаки феномена инаковости в разных лингвокультурах на основе критериев абстрактности / конкретности, наличия / отсутствия эмоциональной окраски, специфики семантического наполнения понятия, являющегося членом оппозиции. Инаковость определяется через смыслопола-гание и является лингвокультурной категорией, отражающей содержательные различия, проявляющиеся в образе жизни того или иного этноса, приверженности определенным традициям и обычаям. Именно это обусловливает научный интерес к способам объективации инаковости в художественном переводном дискурсе, в котором языковая и культурная картины мира этноса находят наиболее яркое выражение.
Изучением и типологизацией этнических образов, представленных как в национальной, так и зарубежной художественной традиции, занимается имагология. На основе анализа литературных сюжетов ставится вопрос о механизме формирования инаковости и про- тотипировании гетерообразов, что объясняется прямой связью между национальной идентичностью и противопоставляемой ей самостью другого.
Способы передачи инаковости изучаются в трудах российских и зарубежных лингвистов, опубликованных в последние десятилетия. Так, С.Д. Камалова исследует на материале англоязычной художественной литературы о палестино-израильском конфликте образ «чужих» в мультикультурной литературе с позиции лингвистической имагологии – сравнительно недавно сформировавшегося научного направления [Камалова, 2019], Э.Т. Кос-тоусова характеризует способы кодирования иноязычных вкраплений в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» и его переводах на немецкий язык [Костоусова, 2023]. Стратегии перевода, направленные на передачу инаково-сти или ее нивелирование, стали предметом исследования, проведенного О. Салливаном, который сопоставил переводы «Алисы в Стране чудес» Л. Кэрролла на немецкий язык, выполненные Робертом Гайем Лионелом Барретом в 1922 г. и Францем Сестером в 1949 году. В переводе Баррета наблюдается вольное переложение сюжета произведения: английское Mad Tea Party (безумное чаепитие) превращается в немецкое Kaffee kränzchen (кофейная вечеринка), Mad Hatter (Безумный Шляпник) – в немецкого сапожника Meister Pechfaden, а March Hare (Мартовский заяц) – в Osterhase (Пасхальный кролик). Перевод Ф. Сестера отражает принципы политики денацификации. Поэтому неудивительно, что текст перевода на 30 % превосходит оригинал по объему, что объясняется сохранением всех английских реалий с добавлением переводческих комментариев: например, о правилах игры в крокет, или о том, почему персонаж сказки носит имя Mock Turtle (Черепаха Квази) [O’Sullivan, 2016]. Переводчики по-разному подошли к передаче чужой для немецкого читателя «английскости», а немецкие переводы «Алисы в Стране чудес», выполненные в разные исторические периоды, являются отражением базовых стратегий перевода: доместикации и форенизации.
И. Полан обращается к рассмотрению перевода в социогуманитарных науках в сопоставительном аспекте российских и немецких научных школ и выделяет две тенденции в переводе: универсализацию и культурализацию. Автор подчеркивает, что текст перевода характеризуется понятиями «идентичность» (Identität) и «другость» (Alterität), поэтому перевод следует расценивать не как продукт различия, а скорее, как деятельность по подбору сходных единиц и выражаемых ими смыслов. Культурное и языковое многообразие приводят к множественной дифференциации, в то время как перевод выступает формой «сцепления» альтеритарных сущностей; имея тенденцию к присвоению или отторжению, ассимиляции или отчуждению, различию или сходству [Pohlan, 2019]. Выявлению культурных различий посвящена работа А. Ташинского «Literarische Übersetzung als Universum der Differenz», в которой сопоставлен оригинальный текст романа И.А. Гончарова «Обломов» и трех версий его переводов на немецкий язык. На основе интерпретативного подхода и с позиции дескриптивной лингвистики автор приходит к выводу о невозможности достижения полной эквивалентности между транслятом и «священным» оригиналом [Tashinskiy, 2018].
«Образ» героя художественного произведения, который складывается у реципиента после ознакомления с текстом перевода, частично обусловлен действиями переводчика [Прунч, 2015; Soenen, 1985]. По мнению Т. Лященко, при переводе культуроемких смыслов единица перевода может быть представлена как трехслойный мегаконцепт художественного произведения, состоящий из концептуального, образного и оценочного компонентов. Переводчик проецирует отличительные черты культуры на картину мира целевого лингвокультурного сообщества, а также осуществляет выбор глобальной и/или локальной стратегии перевода. Языковая и культурная эквивалентность приводят к созданию идеального мегаконцепта целевого текста [Liashenko, 2021]. Справедливым следует признать утверждение А. Лефевра о том, что перевод – это самая значимая из всех форм пересоздания, поскольку он способен проецировать образ автора и его произведения в иную культурную среду, расширяя границы восприятия этого автора и произведений за пределы породившей их культуры [Lefevere, 1995, p. 9].
Чужое в художественном нарративе может предстать в одном из трех проявлений: как потустороннее, принципиально недоступное; как неизвестное внешнее, которое противопоставляется привычному пространству; и, наконец, как вторжение во внутреннее пространство, определяемое как собственное [Hrnjez, 2017]. Передавать сообщение с одного языка на другой значит способствовать изменению укоренившихся представлений о чужом : существующие стереотипы, ожидания, страхи могут быть изменены (исправлены, усилены, увековечены и т. д.) в процессе перевода и посредством перевода [Witte, 2017, p. 73].
Несмотря на то, что изучение способов, приемов, стратегий передачи чужести в переводном художественном тексте уже имеет свою традицию, мало изученной остается проблема трансляции инаковости с сохранением различных видов чужести, заложенных автором литературного произведения. Цель исследования заключается в выявлении лингвокультурных закономерностей вербализации чуже-сти в художественном дискурсе и описании переводческих приемов, позволяющих сохранить заданную инаковость в трансляте.
Материал и методы
Исследование выполнено в русле лингвистической имагологии, в фокусе которой находятся вопросы репрезентации национальных образов в текстах культуры средствами языка [Камалова, 2018].
В качестве методологической основы принята классификация инаковости Б. Валь-денфельса [Waldenfels, 2006].
Чужое воплощается на уровне содержания и лингвостилистической структуры текста в образах персонажей и окружающей их картине повествования, что создает определенную сложность при подборе лексических эквивалентов в переводе. Согласно положениям феноменологии инаковости Б. Вальден-фельса выделяют повседневную, структурную и радикальную чужесть.
Структурная чужесть означает непостижимость форм восприятия и ситуаций действия, с которыми «горизонт знаний» реципиента не может справиться, что создает неопределенность и затрудняет коммуникацию. По мнению Б. Вальденфельса, неопределенность в интеракции со структурной чужестью порождается «когнитивным дистанцированием», поскольку «мы называем инаковостью то, что разочаровывает ожидания от привычного хода событий» [Waldenfels, 2006, S. 91]. На этом уровне чужое не может быть «снято» дополнительной информацией; оно требует от реципиента глубокого «ознакомления» со смыслом другой культуры, обращения к соответствующей культурной памяти, которая также включает в себя подавленное и забытое, к соответствующему своду правил, к каталогам норм и ценностей, которые даже не отражены сознательно в самой соответствующей культуре, что делает их еще более труднодоступными. Поэтому обращение к другому / чужому коду может быть успешным лишь отчасти.
Радикальная чужесть вербализуется в художественных текстах по-разному. Она может выступать как тема или мотив текста, как так называемый пограничный феномен, который сталкивает героев с радикально чуждым, или как неосязаемое, не поддающееся интерпретации. Она проявляет себя как «слепое пятно культуры», как нечто забытое, патологическое, о чем официально не говорят.
Материалом исследования послужили 55 контекстов, извлеченных методом сплошной выборки из Национального корпуса русского языка, подкорпуса параллельных текстов на русском и немецком языках, датируемых 1995–2015 гг., по заданным параметрам поиска чужой / чуждый и их производных.
В соответствии с поставленной целью исследования применялись методы лексикосемантического и контекстуального анализа художественного текста, исследовательского нарратива, сравнительно-сопоставительный и лингвостилистический методы.
Результаты и обсуждение
Охарактеризуем оригинальные и переводные контексты с выраженным феноменом чу-жести. Повседневная чужесть имеет место в случае, если субъект представляется незнакомым, непривычным. При этом лексема чужой употребляется с нейтральной коннотацией и передается на русский язык эквивалентно:
Немецкий:
Schrecklich war nicht, dass er bei unseren Treffen in der Vergangenheit nicht der Großvater war, den ich gekannt hatte, sondern eine Art unfertige Version von ihm, schrecklich war es deshalb, weil ich für ihn eine völlig fremde Person war.
Русский:
Ужасным было не то, что при наших встречах он был не тем дедушкой, которого я знала, а его незрелой версией, ужасным было то, что я для него была совершенно чужой (Kerstin Gier. Smaragdgrün, 2010 | Керстин Гир. Изумрудная книга, С. Вольш-тейн, 2013).
Повседневная чужесть может иметь также положительную оценку, вызывая удивление, интерес и желание поближе узнать Другого. На уровне текста это могут выражать прилагательные с положительной коннотацией, метафорическое сравнение, подчеркивающее красоту чужого, иностранного языка.
Немецкий:
Dem Zopf verdankte sie ihren Namen: Wespe. Einen anderen wollte sie nicht. »Ich glaube, wir haben alles«, sagte sie mit ihrer leisen rauen Stimme, die Prosper sofort gemocht hatte, selbst als er noch kein Wort von der fremden Sprache verstanden hatte, die ihr so schnell und leicht über die Lippen kam .
Русский:
Этой косице она и обязана была своим прозвищем – Оса. И ни на какие другие имена отзываться не желала. – По-моему, всё взяли, – сказала она наконец своим тихим, с хрипотцой голосом, который сразу так понравился Просперу, даже когда он еще ни слова не мог разобрать на этом чужом, непонятном языке, что так легко и быстро лился с ее уст (Cornelia Funke. Herr der Diebe, 2002 | Корнелия Функе. Король воров, М.Л. Рудницкий, 2004).
Чужой может быть противопоставлен своему по признаку пространственной принадлежности, то есть чужой представляется далеким, нездешним, что совпадает со значением fremd – einer anderen Gegend angehörend, aus einem anderen Land, Volk, Ort, einer anderen Gegend stammend (DWDS) (принадлежащий другой территории, происходящий из другой страны, относящийся к другому народу, месту, местности (перевод наш. – М. Ф. )).
Русский:
Именно на Черное море, а не на далекие острова чужих теплых океанов, люблю, когда вокруг родная речь...
Немецкий:
Irgendwohin ans Schwarze Meer, bloß nicht auf eine dieser fernen Inseln in fremden warmen Ozeanen – ich mag es nun mal, wenn man um mich herum Russisch spricht (Сергей Лукьяненко. Ночной дозор, 1998 | Sergej Lukianenko. Wächter der Nacht, Christiane Pöhlmann, 2005).
Еще одной интерпретацией чужести может быть чужой в значении «не соответствующий норме, странный». На лексическом уровне данное толкование объективируется посредством топонимов, инокультурных имен собственных, описательных словосочетаний с глаголами и прилагательными с семантикой «страха», «неприязни».
Немецкий:
Veronika hat früh geheiratet und lebt nun schon lange mit ihrem Mann in Kalifornien. Die drei Enkel sprechen kein Deutsch. Es war einmal die Rede davon, daß sie in Heidelberg studieren sollten, aber daraus wurde nichts. Hugo bestaunt die amerikanischen Sportskanonen, die auch mir sehr fremd sind. Als ich noch jünger war, flog ich ein paarmal nach L. A. Mein Schwiegersohn arbeitet als Konstrukteur in der Flugzeugindustrie, er heißt Walter M. Tyler, und sie haben drei Söhne: Mike, John und Benjamin. Ich geniere mich ein wenig, weil sie ganz kleine kurzgeschorene Köpfe und gewaltige Brustkästen haben.
Русский:
Вероника рано вышла замуж и уже давно живет с мужем в Калифорнии. Трое ее отпрысков не говорят ни слова по-немецки. Они подумывали было приехать учиться в Гейдельберг, но ничего из этого не вышло. Хуго с удивлением разглядывает трех юных спортивного вида американцев, которые мне кажутся почти чужими. Когда я была помоложе, то пару раз летала в Лос-Анджелес. Мой зять инженер-конструктор, работает в гражданской авиации, зовут его Уолтер М. Тайлер. У них три сына: Майк, Джон и Бенджамин. Я их как-то даже побаиваюсь, у них маленькие коротко остриженные головки, посаженные на широченные плечищи (Ingrid Noll. Kalt ist der Abendhauch, 1996 | Ингрид Нолль. Прохладой дышит вечер, Анна Кукес, 2003).
Репрезентация структурной чужести осуществляется за счет включения в текст реалий, фразеологизмов, имен собственных. Лексема чужие передается на немецкий язык при помощи функциональных аналогов Fremdkörper (инородное тело) и Ausländer (иностранцы), что можно расценивать как удачное переводческое решение, обусловленное неполным совпадением семантики слов чужой / fremd в русском и немецком языках в анализируемом контексте.
Русский:
Узел путаный. Сколько раз Государь разрубить его замахивался, да все свои мешали, руку удерживали. И не токмо свои, но и свои. И чужие. Да и просто – чужие ... – Имел я полчаса тому разговор с Чжоу Шень-Мином. Друг мой, властитель Поднебесной, обеспокоен положением китайцев в Западной Сибири.
Немецкий:
Gordischer Knoten. Wie oft hat der Gossudar sich schon angeschickt, ihn zu zerhauen, und immer waren es die eigenen Leute, die ihm in den Arm fielen.
Aber so ganz die eigenen eben doch nicht. Fremdkörper. Wenn nicht überhaupt Ausländer ... Vor einer halben Stunde hatte ich eine Unterredung mit Zhou Shen Ming. Mein Freund und Herrscher im Reich der Mitte zeigt sich beunruhigt über die Situation der Chinesen in Westsibirien (Владимир Сорокин. День опричника, 2006 | Vladimir Sorokin. Der Tag des Opritschniks, Andreas Tretner, 2008).
Одним из маркеров структурной чуже-сти являются иноязычные вкрапления в форме беспереводных лексических единиц или словосочетаний одного языка в другом. Примечательно, что в примере ниже иноязычные вкрапления сохраняются в тексте перевода в оригинальном виде, сигнализируя об иностранном происхождении героя романа. Реалии британской культуры передаются при помощи транслитерации, функциональных аналогов и описательного перевода. При описании учителя на замену ( Aushilfslehrer ) в тексте перевода используется контекстуальный аналог чужой учитель , имеющий скорее отрицательную эмоционально-оценочную коннотацию.
Немецкий:
Daß er uns auf Englisch einen guten Morgen wünschte, erfreute wohl alle von uns, und ich dankte ihm still dafür, daß er gleich zu Anfang das traurige Mißgeschick von Frau Petersen erwähnte– »her sad misfortune« – und ihr baldige Genesung wünschte. <...> Mister Fitzgibbon dankte dir ausdrücklich für deine Wahl; ich mußte glauben, daß er uns beglückwünschte, dich als Lehrerin zu haben. Erstaunt war ich, als er von uns heraushören wollte, was wir über England wußten, Stella hatte uns darauf hingewiesen, daß besonders den Deutschen daran gelegen war, zu erfahren, was man über ihr Land dachte, während man vergeblich auf die Frage eines Engländers warten mußte: How do you like mycountry? Der Aushilfslehrer hatte jedenfalls diese Frage gestellt – wie er unseren Wissensstand beurteilte, haben wir nie erfahren; was er erfuhr, wird ihm aber bestimmt zu denken gegeben haben. Seine Verblüffung weiß ich noch, sein sparsames Lächeln, seine Zustimmung: Was wißt ihr über England? Ein altes Königreich, Manchester United, Lord Nelson und der Sieg bei Trafalgar, Mutter der Demokratie, Wettleidenschaft, die Whigs und die Torys, Kopfbedeckung der Richter, Gärten, zählte Peter Paustian dann weiter auf, englische Gärten – er war mit seinen Eltern einmal auf der Insel gewesen–, ferner Fairneß und aufgegebene Kolonien.
Русский:
То, что он поздоровался с нами по-английски, всех нас, пожалуй, порадовало, и в душе я был благодарен ему, что он с самого начала упомянул о печальной судьбе фрау Петерсен – «her sad misfortune» – и пожелал ей скорейшего выздоровления. <...> Мистер Фицгиббон искренне благодарил тебя за твой выбор; мне казалось, он поздравил нас с такой учительницей, как ты. Я удивился, когда он захотел услышать от нас, что мы знаем об Англии. Стелла обращала наше внимание на то, что для немцев особенно характерно желание знать, что думают другие об их стране, тогда как от англичанина еще придется подождать вопроса: «How do you like my country?» Чужой учитель , однако, сразу задал этот вопрос – как он расценил степень наших познаний, мы так и не узнали; но то, что узнал он, определенно заставило его задуматься. Я хорошо помню его удивление, его сдержанную улыбку, его одобрение. Что вы знаете об Англии? Старинное королевство, «Манчестер Юнайтед», лорд Нельсон и его победа в Трафальгарской битве, матерь демократии, страсть к спортивным соревнованиям, виги и тори, парики «аллонжи» у английских судей, скверы, старательно перечислял Петер Паустиан, английские парки – он бывал со своими родителями на острове, – безупречное благородное поведение и бывшие английские колонии (Siegfried Lenz. Schweigeminute, 2008 | Зигфрид Ленц. Минута молчания, Г.М. Косарик, 2011).
Радикальная чужесть отражает крайнюю степень несоответствия норме, расхождения с канонами, традицией. Радикально чужой не поддается сравнению, воспринимается странным, непостижимым. Так, например, в волшебном мире, созданном К. Майером, главная героиня Деа чувствует себя Посторонней, аутсайдером ( Außenseiter ). В тексте перевода происходит сужение сферы референции номинативной единицы и в качестве контекстуального аналога используется лексема чужой , сохраняющая аксиологическую маркированность, но в более мягкой форме. Сравним примеры ниже:
Немецкий:
Dea war bei den anderen niemals besonders beliebt gewesen, trotz ihres hübschen Aussehens. Die Abneigungder Dörfler war eines der wenigen Dinge, die sie mit ihrer Mutter gemeinsam hatte. Gewiss, der eine oder andere Junge schaute ihr manchmal hinterher, wenn ihr langes rotes Haar an ihm vorüberwehte, doch das war auch schon alles. Sie fühlte sich als Außenseiter, heute Nacht noch mehr als je zuvor. Der Pferdewagen des
Hexenjägers stand nicht mehr vor dem Wirtshaus. Der Knecht musste das Ross in den Stall gebracht haben. Dea ließ ihren Blick über die Fensterhäute des Gasthofs schweifen, aber nirgends flackerte Kerzenschein.
Русский:
Деа никогда не пользовалась особой любовью у односельчан, несмотря на то что была очень хороша собой. Так же неприязненно деревенские жители относились и к ее маме; пожалуй, только в этом они и были похожи друг на друга. Правда, тот или иной парень глядел иногда вслед девчонке, когда она проходила мимо и ее длинные рыжие волосы развевались на ветру у него перед носом, но этим все и кончалось. Она чувствовала себя чужой, а сегодня ночью больше, чем когда-либо. Перед трактиром уже не было повозки охотника за ведьмами. Наверное, работник отвел коня на конюшню. Деа обошла трактир, заглядывая в окна, но нигде не увидела света зажженной свечи (Kai Meyer. Jenseits des Jahrtausends, 1999 | Кай Майер. По ту сторону тысячелетия, Д.Г. Гугин, 2004).
Обратим внимание, что немецкая словарная единица Außenseiter имеет следующее толкование: die außerhalb oder am Rande der Gesellschaft bzw. einer Gruppe lebende Person; eine Person, die nicht Teil einer Gruppe ist und eigene Wege geht, eigene Ziele verfolgt (DWDS) (лицо, ведущее жизнь вне или за крайними пределами общества, общественной группы; лицо, не являющееся частью группы, идущее своей дорогой и преследующее собственные цели (перевод наш. – М. Ф. )). В основе номинации лежит признак экзогенности, непринадлежности к определенной социальной группе без потенциала к сближению.
Нормативность выступает ключевой характеристикой семантического поля радикальной чужести. Русское понятие чужой в его крайней форме градации может передаваться немецким контекстуальным соответствием Außerirdischer / инопланетянин , то есть человекообразный пришелец.
Русский:
Ничего, кроме планеты, на которой он находился. Мартин подхватил с пола рюкзак и пошёл к дверям. За его спиной компьютерная консоль плавно исчезала в полу, уступая место совсем уж архаичной конструкции – сотням цветных рычажков на трёх наборных барабанах из чёрного лакового эбонита. Это значило, что к Вратам шёл чужой. И Мартин, совершенно случайно, даже знал, какой имен- но. С геддаром он столкнулся в коридоре, за второй шлюзовой дверью. Высокая и на человеческий взгляд – нескладная фигура. Лицо почти человеческое, только глаза посажены слишком широко и ушные раковины геометрически правильной формы, полукружия, как на рисунках маленьких детей.
Немецкий:
Nichts, bis auf den Planeten, auf dem er sich befand. Martin nahm seinen Rucksack vom Boden auf und ging zur Tür. Hinter ihm versank das Computerpult langsam im Boden, um einer reichlich archaischen Konstruktion Platz zu machen, die aus Hunderten von bunten Hebeln an drei kleinen Trommeln aus schwarz lackiertem Ebenholz bestand. Folglich musste sich dem Tor ein Außerirdischer nähern . Und rein zufällig wusste Martin, was für einer. Im Gang, hinter der zweiten automatischen Tür, stieß er denn auch auf einen Geddar, ein Wesen von hohem Wuchs und mit nach menschlichem Maßstab unförmiger Figur. Das Gesicht wirkte beinah wie das eines Menschen, nur die Augen standen zu weit auseinander und die Ohrmuscheln zeigten eine gleichmäßig geometrische Form, einen Halbkreis, wie man ihn aus den Zeichnungen kleiner Kinder kennt (Сергей Лукьяненко. Спектр, 2002 | Sergej Lukianenko. Spektrum, Christiane Pöhlmann, 2007).
Чужесть включает в себя не только антропологические, но и социальные аспекты: чужой как бездомный, больной, беспомощный, криминальный. Радикально чужим для состоятельной семьи может представляться человек низкого социального статуса. «Нищий чужак» в тексте перевода передается словосочетанием ein armer Schlucker (бедный пьяница), имеющим пренебрежительную фамильярно-разговорную окраску.
Русский:
Например, отца Элены. – А он что? Тоже Турбина не любит? – Этого я не знаю, но зато его самого не любит Катя Голованова. Она обоих родителей Элены характеризует одинаково: снобы, которые ни за что не допустят проникновения в их клан нищего чужака.
Немецкий:
Zum Beispiel Elenas Vater. – Was ist mit ihm? Mag er Turbin auch nicht? – Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß Katja Golowanowa ihn nicht mag. Sie bezeichnet Elenas Eltern beide als Snobs, die es niemals zulassen würden, daß ein armer Schlucker in ihren Clan eindringt (Александра Маринина. Смерть и немного любви, 1995 | Aleksandra Marinina. Tod und ein bißchen Liebe, Natascha Wodin, 2003).
Таким образом, чужесть является относительной категорией, требующей указания на объект или субъект противопоставления. Лексемы чужой / fremd и их производные выполняют различные композиционные функции, выступая атрибутивными и предикативными прилагательными, существительными, составными сказуемыми. Вербализация повседневной, структурной и радикальной чужести осуществляется за счет топонимов, реалий, иноязычных вкраплений, прецизионной лексики, прилагательных с положительной, нейтральной или негативной коннотацией. Рассмотрение видов чужести с опорой на классификацию Б. Вальденфельса позволяет определить аксиологический признак, лежащий в основе феномена инаковости, и обосновать выбор наиболее точного переводческого эквивалента.
Заключение
Имагология, имеющая предметом изучения образы «чужих» наций, стран, культур, субъектов, исследует чужесть в разных измерениях и множественных формах литературного языка. Художественный дискурс характеризуется динамикой, интерпретируемостью и социологичностью, реализуя потребность читателя в ориентации в обществе, расширении знаний, развитии эмоционального интеллекта. В основе лингвокультурной категории чу-жести могут лежать как индивидуальные, так и коллективные социально-психологические образцы и стандарты поведения. Феномен ина-ковости в виде повседневной, структурной или радикальной чужести наиболее отчетливо прослеживается в художественном нарративе текста оригинала и его переводной версии.
Произведения художественной литературы способны дополнять или корректировать односторонние представления о культурной чужести и выступать инструментом межкультурного посредничества. В литературных текстах инаковость тематизируется и становится адресной, получая отражение своей многомерности в различных видах чу-жести. Она может проявляться не только содержательно, но и находить свое выражение на языковом уровне в топонимах, кулинаро-нимах, во фразеологизированных словосоче- таниях, в указаниях мер и весов, говорящих именах, аллюзиях на национальных лидеров или персонажей литературных произведений, регионалектах и диалектах.
Результаты анализа оригинальных и переводных контекстов в компаративном аспекте позволил определить следующие закономерности вербализации чужести: повседневная чужесть маркируется лексемами чужой / fremd со значением пространственной принадлежности, происхождения, соответствия поведенческим нормам; структурная и радикальная чужесть выражается посредством широкого синонимического поля с доминантой чужой / fremd ( иностранец / Ausländer , инородное тело / Fremdkörper , посторонний / Außenseiter , инопланетянин / Außerirdischer и др.) в значении непринадлежности к определенной социальной группе. Повседневная чужесть, как правило, подлежит функциональному переводу за счет полных соответствий, генерализации, описания. Языковые формы структурной и радикальной чужести требуют дифференциации значений, подбора контекстуальных аналогов и целостного преобразования.
Перспектива исследования видится в расширении эмпирической базы в диахроническом аспекте с привлечением к анализу дополнительной языковой пары (русский – английский).
Список литературы Лингвокультурные закономерности вербализации чужести в оригинале и переводе на примере художественного дискурса
- Камалова С. Д., 2018. Специфика понятийного аппарата имагологии // Филологические науки. Вопросы теории и практики. N° 10-1 (88). DOI: 10.30853/filnauki.2018-10-1.5
- Камалова С. Д., 2019. Лингвоимагологический подход к мультикулкгурной литературе (на примере романов "Habibi" Наоми Шихаб Най, "Where the Streets Had a Name" Ранды Абдель-Фаттах и "Tasting the Sky: A Palestinian Childhood" Ибти-сам Баракат) // Научный диалог. № 3. С. 69-85. DOI: 10.24224/2227-1295-2019-3-69-85
- Кислякова Е. Ю., Гринев-Гриневич С., Сорокина Э. А., Маджаева С. И., 2023. Коммуникативная категория инакости: лингвокультурные и лингвоэкологические характеристики // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 22, № 1. С. 151-161. DOI: https://doi.org/10.15688/ jvolsu2.2023.1.12
- Костоусова Э. Т., 2023. Способы кодирования иноязычных вкраплений в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» и его переводах на немецкий язык // Вестник Марийского государственного университета. Т. 17, № 4. С. 517-522. DOI: 10.30914/2072-6783-2023-17-4-517-522
- Прунч Э., 2015. Пути развития западного переводо-ведения. От языковой асимметрии к политической : пер. с нем. М. : Р. Валент. 512 с.
- Свинкина М. Ю., 2016. Градуальная оппозиция «свой -иной, другой, чужой» в русском и немецком языках // Научный диалог. N° 6 (54). С. 94-105.
- Hrnjez S., 2017. Wie viel Fremdes in einer Übersetzung? Über zwei übersetzungsbezogene Paradigmen der Fremdheit // Fremdheit. Xenologische Ansätze und ihre Relevanz für die Bildungsfrage. [S. l.] : [s. n.]. S. 79-92.
- Lefevere A., 1992. Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. L. ; N. Y. : Routledge. 176 p.
- Liashenko T., 2021. Zur Erschließung von Kultur in literarischen Texten aus translationsrelevanter Sicht (am Beispiel der deutschen Übersetzung der Erzählung ,Таку вже Бог долюсудив' von Mychajlyna Roschkewytsch) // Linguistische Treffen in Wrociaw. Vol. 20-2. S. 121-131. DOI: 10.23817/lingtreff.20-7
- O'Sullivan E., 2016. Englishness in German Translations of Alice in Wonderland // Interconnecting Translation Studies and Imagology. P. 87-107. DOI: 10.1075/btl. 119.06sul
- Pohlan I., 2019. Translation in den Geistes- und Sozialwissenschaften zwischen Russland und Deutschland. Berlin : Frank & Timme. 285 S.
- Soenen J., 1985. Das »Image des anderen Landes« spielt beim Übersetzen fremder literarischer Werke eine wichtige Rolle // Babel. Vol. 31, № 1. S. 27-40.
- Tashinskiy A., 2018. Literarische Übersetzung als Universum der Differenz. Mit einer analytischen Studie zu deutschen Übersetzungen des Romans Oblomov von I.A.Goncarov. Berlin : Frank & Timme. 326 S.
- Waldenfels B., 2006. Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden. Frankfurt am Main : Suhrkamp. 134 S.
- Witte H., 2017. Blickwechsel. Interkulturelle Wahrnehmung im translatorischen Handeln. Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens, Berlin, Frank & Timme. Bd. 86. 274 S.