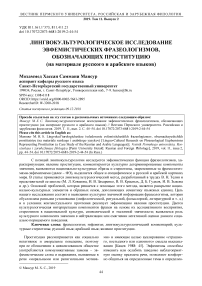Лингвокультурологическое исследование эвфемистических фразеологизмов, обозначающих проституцию (на материале русского и арабского языков)
Автор: Мансур Мохаммед Хассан Саммани
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 2 т.11, 2019 года.
Бесплатный доступ
С позиций лингвокультурологии исследуется эвфемистическая функция фразеологизмов, характеризующих явление проституции, комментируются культурно детерминированные компоненты значения, выявляются национально-культурные образы и стереотипы, закрепленные за фразеологизмами-эвфемизмами (далее - ФЭ), выделяется общее и специфическое в русской и арабской картинах мира. В статье применяется лингвокультурологический метод, разработанный в трудах В. Н. Телия и представителей ее школы (М. Л. Ковшова, И. В. Захаренко, В. В. Красных, Д. Б. Гудков, И. В. Зыкова и др.). Основной проблемой, которая решается с помощью этого метода, является раскрытие национально-культурных элементов и образных основ, дополняющих семантику языковых единиц. Цель нашего исследования состоит в выявлении культурно значимой информации фразеологизма, которая обусловлена разными установками (мифологической, ритуальной, фольклорной, литературной и т. д.) и в условиях контекстуального прочтения реализует эвфемизацию явления проституции. Дается культурологическая интерпретация компонентов фразем на основе их ассоциативного восприятия, стереотипов в национальной культуре, символической и эталонной значимости; выявляется роль культурного компонента значения в нейтрализации или смягчении негативной оценки данного социально порицаемого поведения.
Фразеологизм, эвфемизм, лингвокультурологический комментарий, культурные стереотипы, русский язык, арабский язык, явление проституции
Короткий адрес: https://sciup.org/147226962
IDR: 147226962 | УДК: 811.161.1’373, | DOI: 10.17072/2073-6681-2019-2-44-54
Текст научной статьи Лингвокультурологическое исследование эвфемистических фразеологизмов, обозначающих проституцию (на материале русского и арабского языков)
ных коммуникативных ситуациях. Фразеологизмы, благодаря своей более размытой семантике и культурной коннотации, устойчивости и воспроизводимости в речи, являются органичным средством эвфемизации, способным производить облагораживающий эффект, отсылая коммуникантов к широкому контексту культуры.
В данной статье мы анализируем русские и арабские фразеологизмы-эвфемизмы, связанные с темой проституции, и даем их развернутый лингвокультурологический комментарий в социальном, историческом, мифологическом, религиозном, литературном аспектах. При этом в центре внимания находятся фразеологизмы русского языка, арабский же материал рассматривается на фоне русского и только при наличии соответствующих примеров.
В сфере проституции ключевым является понятие ‘проститутка’. При обозначении этого понятия функцию эвфемизации регулярно выполняет книжный фразеологизм жрица любви . В основе фразеологизма лежит экспрессивнооценочная метафора, которая прикрывает негативные стороны данного действия, ассоциируясь с положительными свойствами обозначаемого – женственность , красота , наслаждение и др. Ср.: «Кроме того, пользование услугами “жриц любви” рассматривалось как удар по политике эмансипации и равенства полов» (журн. «Родина», 1995, № 9); «В Швеции, если покупаете секс-услуги, то автоматически становитесь уголовным преступником, а “жрица любви” – вашей жертвой» (газ. Труд-7, 18.01.2006). Образ фразеологизма пробуждает в сознании общекультурное стереотипное представление об одной реалии Древнего мира – Индии и Греции, – где проституция прикрывалась некоторой религиозно-культовой «дымкой». В состав фразеологизма иногда входят компоненты определения, которые ориентируют сознание именно на девушек известной профессии: жрица < наемной , свободной , продажной , придорожной > любви. В арабском языке со схожей образно-ассоциативной референцией употребляется экспрессивнооценочная метафора: بائعات الھوى (букв. ‘продавщицы любви’); بنات الھوى (букв. ‘девушки любви’) – ‘о проститутках’; بیوت الھوى (букв. ‘дома любви’) – о публичных домах. Ср.: «Не пора ли Ава-тифу Зухди бросить укоренившиеся привычки , приобретенные ей в доме любви , из которого она выскочила в мир кино?!» (Н. Махфуз «Мир божий», 1962); «Он открыл свой кошелек и, как будто загипнотизирован, протянул его продавщице любви . А та элегантно улыбнулась и двумя пальцами бодренько вынула несколько купюр из кошелька» (М. Раззаз «Медовая ночь», 2000).
В обоих языках метафорический перенос способствует восприятию деятельности проституток как оказания услуг, относящихся к сфере сакрального.
Культурно-историческому контексту принадлежит и фразеологизм честная куртизанка – ‘об элитной проститутке, живущей на содержании одного или нескольких мужчин’ (происхождение: венецианские куртизанки в эпоху Возрождения). Фразеологизм вызывает в сознании образ женщины, сочетающей в себе чувственность и невинность, «низкое» и «возвышенное», поэтому служит безобидной заменой грубых наименований содержанок. Ср.: «Меня сразу перевели в ранг честных куртизанок . Самые важные клиенты соревновались за право стать моим содержателем» (М. Гарзийо «Веницианские каникулы», 2017); «А что же слежку внутри не продолжил? – не удержалась Джер. – Я с честными куртизанками не связываюсь, предпочитаю кокетливых распутниц» (Д. Юрин «Имперские истории», 2005).
Проституция свойственна самым разнообразным обществам, в том числе и обществам консервативного типа. В современном арабском языке явление проституции также может обсуждаться при помощи ФЭ, исследуя которые можно воссоздать культурный и исторический фон жизни арабского народа. С этим древним «промыслом» ассоциируются, например, фразеологизмы الرایات الحمر (букв. ‘красные флаги’); بیوت الرایات الحمر (букв. ‘дома с красными флагами’) в знач. ‘публичные дома’; ذوات الرایات الحمر (букв. ‘женщины с красными флагами’) – ‘проститутки’ и др. Ср.: « Женщины с красными флагами вновь стали врываться в дома, в спальные и распространять прелюбодеяние через эти спутниковые телеканалы, а вернее сказать, телескандалы» (журн. «Таухид», 2007, № 421). Данные ФЭ отражают реалии арабского общества доисламского средневековья, где проституция была институционализированным социальным феноменом, а публичные дома называли домами с красными флагами , так как на их входных дверях вывешивали красные флаги, чтобы они четко отличались и легко опознавались клиентами. С красными флагами ассоциируется и современный фразеологизм سھرة <لیلة> حمراء (букв. ‘красная вечеринка’) – ‘ночь, проводимая с проституткой’. Ср.: «А могу ли я свободно говорить? – Конечно. Скажи, что хочешь! – Вижу, они выглядят как девушки для красных вечеринок . – А что? Разве красные вечеринки и борьба противоположны? – Конечно. Борьба и сопротивление нуждаются в серьезности, а ночные утехи не подобают настоящему революционеру» (А. Баззун
«Тело без будущего», 1998). В сознании носителей арабского языка красный цвет обладает разнообразным символическим и ассоциативным потенциалом: может символизировать огонь (ассоциируется с соблазнением и сексуальным влечением ), кровь (ассоциируется с войной, яростью и тяжестью ), красоту (ассоциируется с золотом , рубином , розами ) и др. [Омар 1997: 211– 212]. В приведенных ФЭ актуализируются ассоциативные элементы, связанные с женщиной, – красота , соблазнение , сексуальное влечение и т. п. Интересно отметить, что в современном русском языке в знач. ‘потребный дом’ используются эвфемистические выражения со сходным образом красный фонарь ; дом под красным фонарем и др. Ср.: «Не надо враждовать, девочки , – опять заворковала Василиса....Мы тебе не девочки , – враждебно оборвала ее Оксана, – а здесь не красный фонарь » (Ф. Гладков «Вольница», 1959); «Надо было пробрать не только Хаима, но и всю его родню, ...его дядю, который содержит в городе дом под красным фонарем , его брата – ассенизатора» (А. Абчук «Страницы прошлого», 1965). Образ заимствован из европейской социальной жизни, где в больших городах давно существовали особые улицы и районы, где девочки в витринах с тускло-красным освещением предлагают секс-услуги. С данной реалией ассоциируется другой ФЭ – дама из Амстердама в знач. ‘проститутка’. Ср.: «В их холопских глазах, что честная девица, что женщина, увлекаемая любовною страстию, что какая-нибудь дама из Амстердама – это все равно» (Н. Лесков «Обман», 1883). Оборот образован «шутливой рифмовкой» с тонким намеком на социокультурные реалии города Амстердама – известные пансионы для публичных девиц [Мокиенко, Никитина 2007: 173].
Культурно-исторический аспект номинации видится и во фразеологизме с древним образом تأكل بثدییھا (букв. ‘кормиться за счет своей груди’) в знач. ‘заниматься проституцией’. Ср.: «Она кормится за счет своей груди, потому что, прежде всего, она малообразованная и бедная, ничем и никем не обеспеченная, и это вынудило ее попасть в ловушку распутства, единственного, на ее взгляд, выхода из нищеты» (Х. Байдун «Бадр Шакер Ас-Саяб», 1991). В древнем арабском обществе так говорили о женщине, кормящей грудью чужого ребенка за плату. Профессия кормилицы негативно оценивалась и считалась унизительным промыслом, так как им занимались рабыни, а в редких случаях – свободные, но обедневшие арабки, потому и равнодушные к репутации своего племени. Негативную оценку этой профессии, которая ассоциировалась с торговлей телом, в арабской культуре отражает по- говорка تجوع الحرة ولا تأكل بثدییھا (букв. ‘свободная женщина голодает, но не кормится за счет своей груди’), т. е. гордая арабка предпочитает смерть от голода продаже собственного тела. В текстах, описывающих проституцию, смысл фразеологизма воспринимается на фоне «системы национально-культурных ценностей и стереотипов» [Телия 1988: 40], а точнее говоря, ассоциируется в сознании носителя арабского языка со стереотипным представлением о некоем «женском», причем неодобряемом в обществе, поступке. Обращает на себя внимание и соматический компонент грудь, который в составе ФЭ замещает все женское тело, направляет внимание коммуникантов на интимную сторону деятельности женщины.
Для обозначения проститутки в русском языке употребляется также стереотипное выражение легкая кавалерия . Ср.: «Та, что ближе к нам, очень недурна. Легкая кавалерия , но это ничего… И между такими бывают хорошие женщины» (А. Чехов «Живой товар», 1882); «Но были среди ленинцев и гуманисты – они-то и пытались социализировать “легкую кавалерию” как “жертв капиталистического строя”. Жертвы стараний не оценили, и с началом НЭПа торговля телом вновь поднимает голову» (Моя планета.ру, 21.09.2016). Этот шутливый фразеологизм вызывает целый комплекс образно-ассоциативных и стереотипных представлений, закрепленных в коллективном национально-культурном сознании, – таких как: легкость, наемный труд , гибкость , легкомысленность и т. п. Лежащий в основе фразеологизма военный термин легкая кавалерия обозначает род войск, оснащенных облегченным вооружением и способных совершать быстрые переходы. Образность фразеологизма вторично осмыслена в русской национальной культуре, а точнее, в советскую эпоху: легкой кавалерией называлась молодежная общественная организация, созданная в 1920–1930 гг., которая состояла из молодых рабочих и студентов. Легкая кавалерия в свое время считалась «образцом гибкости, оперативности и действенности общественного контроля» [Мокиенко, Никитина, 1998: 236]. Слово легкий здесь является стержневым компонентом, на основе которого и возникло эвфемистическое употребление оборота при описании проституции.
В качестве эвфемизма употребляется и метафорическое сочетание странствующие подмастерья в знач. ‘дорожные проститутки’ (связано с представлениями о немецких ремесленниках, странствующих ради повышения своего мастерства): «Где же вербуются эти странствующие подмастерья, откуда берутся вольные коробейницы, месяцами таскающие свои нетяжелые ко- роба, задешево распродающие не произведенный, не купленный, не на базе полученный товар?» (Л. Жуховицкий «Странности любви», 1991). Эвфемистичность образа реализуется, создается метафорическим переносом: подобно странствующему ремесленнику, дорожная проститутка рекламирует себя и оказывает услуги в процессе странствия (общий признак – находиться в пути, работать в процессе странствий). Метафора в таких случаях «упускает из виду многие стороны реальности», дает понимание «одного аспекта» обозначаемого, не вызывая в сознании негативных его свойств [Лакофф, Джонсон 2004: 239]. В языке арабов, обитателей пустыни, отражены элементы материальной и духовной культуры, которые формируют коллективные стереотипы человеческой деятельности. Так, в знач. ‘женщина легкого поведения’ употребляется арабская метафора خضراء الدمن (букв. ‘зелень навозная’): «Женщины такого типа – это худые и опасные образцы, и ничего больше. ...Ведь обстоятельства сороковых и сопровождающее их намеренное падение привели к прорастанию зеленей навозных» (журн. «Аклям» [Перья], 1984, № 7). Зелень в арабской культуре символизирует «молодость», «благо» и «плодородие» [Омар 1997: 79]. В соответствии с положением о том, что «из предметов, явлений и признаков объективного мира нарекается только то, что осознано, а осознается только то, что имеет значение для коллектива» [Абаев 1970: 249], образ фразеологизма навозная зелень взят из окружающего мира пустыни, где в местах содержания животных – в стойлах или на устьях колодцев – естественная влага приводит к тому, что солома и обмолотые стебли зерновых культур смешиваются с глиной и отходами животных, а семенные растения в такой сильно удобренной почве становятся сочно-зелеными, но, увы, непригодными для пищи, так как растут в грязной и отвратительной среде. Возможность уподобить одну сущность другой реализуется в соответствии со стереотипами, знаниями и образноассоциативным мышлением языкового коллектива. Зелень, произрастающая из навоза, приятно выглядит, но обитает в грязной почве. То же самое можно сказать о продажной женщине: она привлекательная и молодая, но живет в дурной среде. Эвфемистичность фразеологизма обусловлена не только стереотипной метафорой, но и его культурно-религиозным источником. Пророк Ислама Мухаммад (мир ему), предупреждая своих сподвижников об опасности непотребных женщин, образно и лаконично сказал: «Остерегайтесь зелени навозной» [Аль-Майдани 1955: 32]. Наличие в коллективном сознании такой ас- социативной связи лежит в основе смягчения негативной оценки явления в речи.
Для обозначения осуждаемой социальной характеристики женщины в русском языке функционируют образные сочетания с религиозной референцией типа уклониться от пути < истинного >; вступить на грешный путь в знач. ‘заниматься проституцией’; блудная дева ; винная баба ; непутевая женщина; Вавилонская блудница – ‘о продажной женщине’; приют для грешниц – ‘публичный дом’, а также фразеологизированные имена собственные типа Мария Магдалина ; Евдокия Илиопольская и др.: «Как тебя зовут? – Мари... Я ж говорила... Мари... – Да, да, прости меня. Мари. Мария Магдалина . Вы все грешницы, маленькие Мари, нет?» (Ю. Семенов «Семнадцать мгновений весны», 1970); «Позже он стал водить в дом вавилонских блудниц , Варвару же выставлял за порог и говорил: “Иди куда хочешь”. Естественно, она шла к бабушке смотреть излюбленный диафильм» (В. Терешен-ко «Поцелуй в кукольном домике», 2015). Так, соотнесенность образа фразеологизма с религиозным пластом культуры осуществляется в коннотациях, где взаимодействуют «образно-ассоциативный комплекс ФЕ» и «система эталонов, стереотипов, символов» [Ковшова 1996: 12].
Священный Коран является не только самым известным памятником арабской письменности, но и важнейшим источником эвфемистических фразеологизмов, отражающих социально-культурную жизнь арабов того времени и прочно вошедших в употребление благодаря своей символической энергии и экспрессивным возможностям. Интересно отметить, что в самом центре Корана (Сура 18 «Пещера»: аят 19) мы читаем слово ولیتلطف, которое имеет следующее толкование: пусть он мягко обращается [Глоссарий слов Священного Корана 1989: 1008]. Суры Корана содержат варианты слов высокого стиля, обозначающие табуированные явления и деликатные темы, в том числе прелюбодеяние: باطن الإثم (букв. ‘тайный грех’); متخذات أخدان (букв. ‘женщины, имеющие тайных приятелей’); یأتین الفاحشة (букв. ‘заниматься непристойностями’) и др. Ср.: «Он чуть не ослеп, когда дошли до него верные слухи о том, что его доченька, цветок его жизни, занимается непристойностями» (М. Хассан «Ужасные преступления», 2001). Эвфемистичность таких оборотов в текстах, описывающих проституцию, обусловлена их широкой семантикой: тайным грехом, например, может быть не только прелюбодеяние или проституция, а заниматься непристойностями не обязательно означает ‘заниматься проституцией’. Выражения Корана имеют высокий, сакральный статус в речевой культуре, потому и не ограничены временными рамками, т. е. регулярно участвуют в эвфемизации и не переходят со временем в разряд вульгарных, грубых наименований. Исламское культурное пространство снабдило арабский язык рядом приличных выражений, репрезентирующих явление проституции и позволяющих соотнести его с системой духовнонравственных ценностей. Для наименования проститутки используются выражения حادت عن الطریق <المستقیم> (букв. ‘уклонилась от пути праведного’); مشیھا بطال(букв. ‘вести себя греховно’) и др. Речевая ситуация, связанная с проституцией, может смягчаться и арабским клише с религиозным оттенком ربنا یسترھا على ولایانا (букв. ‘пусть Аллах покроет наших женщин’). Оно используется как намек на то, что речь идет о непорядочной, ведущей распутную жизнь женщине: «Здесь днем мужчины трезвы и доблестны, берегут жительниц нашего квартала, а когда наступает ночь, то, спаси Аллах, ситуация совсем другая. Даже девушки, сынок, ...Пусть Аллах покроет наших женщин» (журн. «Египетские дела», 2003, № 20). Данное клише выступает как вежливая форма, которая позволяет говорящему избежать дискомфорта в речи и уклониться от употребления непристойных слов, и произносится в форме обращения к богу, чтобы Он берег родственниц говорящего от такого позорного для женщины удела.
Из религиозного контекста взят также метафорический образ تبیع سبح فى شارع الأزھر (букв. – ирон. – ‘продавать четки на улице Аль-Азхара’). Ср.: «В своей передаче на телеканале Rotana masriya Тамер добавил: “То есть то, что она представляет, – это художественная проституция, а Вы продаете четки на ул. аль-Азхара ”» (Almogaz.com, 27.05.2015). Метафора уподобляет малолетнюю проститутку продавцу, который торгует чем-то свято чтимым перед исламским университетом (аль-Азхар – улица в Каире, где располагается исламский университет «аль-Азхар»). Четки и улица аль-Азхар – элементы религиозного культа – ассоциируются в сознании с наивными стереотипными представлениями о чем-то положительном и достойном. Эвфемистичность здесь контекстуально обусловлена и сопровождается благодаря использованию антифразиса эффектом неожиданности: употребляется «положительный ассоциат в значении отрицательного денотата» [Сеничкина, Никитина 2007: 200]. Через указание на действие противоположного свойства неблаговидное поведение воспринимается в юмористическом ключе, так как не соответствует стереотипному представлению о ситуации, описываемой фразеологическим выражением.
На основе ассоциативных символов и стереотипов социально-культурной жизни дореволюционной России в текстах, описывающих проституцию, употребляются следующие выражения: жить [ пойти; работать ] по желтому билету; получить желтый билет; желтобилетная [билетная] девица; бланковая девушка; разрядные женщины и т. д. Названные сочетания, характеризующие публичных женщин по формам их официальной отчетности (билетные, бланковые и т. п.), возникли в связи с таким явлением социальной жизни, как легализация проституции в России (1843 г.) и открытие публичных домов. Взамен паспорта проституткам выдавали билет желтого цвета, который прикреплял их к одному из публичных домов и служил для учета медицинского обследования. Ср.: «Когда единородная дочь моя в первый раз по желтому билету пошла, и я тоже тогда пошел... (ибо дочь моя по желтому билету живет-с...) – прибавил он в скобках, с некоторым беспокойством смотря на молодого человека» (Ф. Достоевский «Преступление и наказание», 1866); «– То есть как попалась? – А получила желтый билет . У нас полиция нравов до тех пор смотрит сквозь пальцы, пока девица, гуляя, имеет определенную службу» (О. Фарш «Под куполом», 1929); «– Вон и билетная девица Кислицына тоже обряжалась в Камелию, преследуя вполне понятные цели» (Л. Соболева «Ночи с Камелией», 2016).
Фразеологический фонд каждого языка отражает его систему образов, которая, по выражению В. Телия, служит «своего рода “нишей” для кумуляции мировидения», свидетельствует о «культурно-национальном опыте и традициях» языковой общности [Телия 1996: 215]. Некоторые арабские выражения как средство освоения и оценивания явления проституции соотносятся с системой «образов-эталонов», которые имеют прямое отношение к условиям жизни и культуре носителей арабского языка. В качестве эвфемизма употребляется фразеологизм تمشي على حل شعرھا (букв. ‘ходить на развязывание своих волос’) – о женщинах, которые ведут распутную жизнь. Ср.: «Признаюсь тебе, что она в прошлом была “игривой” девочкой, иначе выражаясь, “ходила на развязывание своих волос” , но, слава Аллаху, она вернулась на правильный путь, вышла замуж за идеального человека, врача по профессии, и ему сохранила верность, но, кажется, ее прошлое начало ее преследовать» (М. Абдулкуд-дус «Запутанные вопросы на Прямом пути», 2005). Фразеологизм отражает социокультурный стереотип женщина с распущенными волосами , который нарушает нормы ожидания, характерные для арабского социума ( женщины в платке ).
В исламском обществе хиджаб (платок) символизирует целомудрие и непорочность женщины. До конца ХIХ – начала ХХ в. почти все мусульманки носили, по крайней мере, хиджаб. В данном образе распускание женщиной волос ассоциативно воспринимается как освобождение от культурных традиций, ценностей и всяких комплексов. Метафора имеет свои корни в доисламском арабском обществе, где арабка в знак верности своему надолго уезжающему мужу месяцами не развязывала своих волос. Развязывание волос согласно традиционному стереотипу ассоциируется с присутствием мужа и, соответственно, намекает на оказание постельных услуг. Следовательно, фразеологизм не только служит эвфемизмом (поскольку имеет более широкий смысл), но и вызывает в сознании некоторое стереотипное представление, отражает национальную картину мира и социокультурное устройство арабского общества.
Ряд фразеологизмов-эвфемизмов восходит к текстам художественной литературы и публицистики, к выступлениям общественных деятелей или, по крайней мере, актуализируется в этих текстах. Так, в значении ‘женщина легкого поведения’ употребляются устойчивые сочетания типа погибшее, но милое созданье (А. Пушкин); дурные женщины (Ф. Достоевский); дама с камелиями; дама полусвета (А. Дюма-сын); девушки с пониженной социальной ответственностью (В. В. Путин) и др. Устойчивое выражение погибшее, но милое созданье взято из пушкинской маленькой трагедии «Пир во время чумы» (1832), а также является названием одного из рассказов А. Левитова (1862). Ср.: «“Погибшее, но милое созданье!” – думал Калинович, глядя на соседку, и в душу его запало… доброе желание: тронуть в ней, может быть, давно уже замолкнувшие, но все еще чуткие струны, которые, он верил, живут в сердце женщины, чем бы она ни была…» (А. Писемский «Тысяча душ», 1858). Из современных литературных текстов заимствовано шутливое устойчивое выражение любовь, которая нас разоряет – ‘платная любовь, проституция’ (по одноименной книге Ю. Улы-биной, 2008). Эвфемистическое сочетание девушки с пониженной социальной ответственностью употребил в своей речи президент России В. Путин, комментируя секс-компромат на Дональда Трампа (о якобы проведенной бизнесменом ночи с проститутками в Москве в 2013 г.): «Я с трудом могу представить, что он побежал в отель общаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя и они у нас самые лучшие в мире» (КП, 17.01.2017). Подобные ФЭ способны снимать серьезность смысла, характеризовать тему проституции с некоторой долей иронии, что ослабляет негативную оценку предмета речи.
В состав ряда фразеологизмов входят имена собственные – персонажей русской и мировой литературы, а также героинь кинофильмов, которые по сюжету ассоциируются с дамами легкого поведения, например: Катюша Маслова (персонаж романа Л. Толстого «Воскресенье», 1889–1899); Соня Мармеладова (героиня романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание»); Маргарита Готье (героиня драмы А. Дюма-сына «Дама с камелиями», 1848); Мама Роза (советский фильм, 1991) и др. Имя собственное включает «национально детерминированный набор признаков в минимизированном, редуцированном виде» [Захаренко 1997: 84], потому и подвергается апеллятивации [Москвин 2010: 172], т. е. переходит в состав нарицательных, признаком чего является его употребление во множественном числе, а в некоторых случаях пишется со строчной буквы вместо прописной: «Как впечатления? Радуют глаз дивизии катюш масловых вдоль дорог и проспектов? И, заметьте, сегодня их никто не осуждает!» (журн. «Другие люди», 2011, № 6); «Одна из таких “ мам Роз ”, которая назвалась Гулей, говорит, что иногда сами правоохранительные органы и родители подталкивают девушек к проституции» (газ. «Центр Азии», 04.12.2014).
ФЭ как единицы с культурно значимой информацией отражают «специфику наивного сознания носителей определенной культуры в сравнении с наивным сознанием носителей другой культуры» [Баранов, Добровольский 2008: 267]. В арабском языке для эвфемизации темы проституции употребляется ряд образных выражений, связанных с арабской художественной литературой или получивших популярность после экранизации литературных текстов. С темой проституции ассоциируется выражение بیت سیئ السمعة (букв. ‘дом с дурной славой’) в знач. ‘дом, где обитают и принимают проститутки’ (ассоциируется с одноименным произведением египетского романиста Н. Махфуза). Стереотипными в арабской культуре являются и следующие ФЭ, ассоциирующиеся с названиями арабских фильмов: لحم رخیص (букв. ‘дешевое мясо’) – ‘о проститутках’; سوق المتعة (букв. ‘рынок наслаждения’) – ‘мир проституток и куртизанок’; شقة مفروشة (букв. ‘меблированная квартира’) – ‘непотребный дом’ и др. В контексте проституции шутливо воспринимается сленговая метафора из
شبكة ولا سنارة؟ одного комедийного кинофильма
(букв. ‘сетка или удочка?’) вместо прямого вопроса девушке о том, работает она в салоне или в одиночку. Ср. также: «Женщины нашего народа, – жены, матери, сестры и дочери, – от бедности и нужды спускаются на дно, продают свои тела тому из социальных волков, кто ищет дешевое мясо...» (А. Амин «Суд над египетскими коммунистами», 1946); «Как только узнала о том, чем занимается наш друг в одной из меблированных квартир, его бывшая жена и мать его детей туда отправилась и устроила ему скандал» (журн. «al-Watan al-'Arabi», 2003, № 1348). Своей стереотипной образностью и известностью такие ФЭ служат заменителями одиозных слов, связанных с темой проституции.
Для эвфемистического обозначения публичного дома употребляется ряд метафорических сочетаний типа веселое заведение; дом увеселения; дом терпимости; пансион для девиц без древних языков; китайский монастырь и мн. др. Ср.: «Погоревала-погоревала бедная вдова, посоветовалась с добрыми людьми – и вдруг нашлась. Открыла пансион для девиц, но, разумеется, без древних языков....Каждый вечер до поздних петухов стоял в ее квартире, как говорится, дым коромыслом... Молодые люди танцевали, курили папиросы, угощались пивом, водкой...» (М. Салтыков-Щедрин «Современная идиллия», 1883); «Девушка была обманным образом вовлечена в это… в как его… ну, словом, в дом терпимости, выражаясь высоким слогом» (А. Куприн «Яма», 1909–1915); «Прости меня... Когда мы сюда шли, я думал, это хороший план. Но тебе и правда не место здесь... Это... это дом увеселения...» (Н. Синельникова «Легенды Ама-стриды», 2017). Культурную информацию несет в себе и ФЭ китайский монастырь, появление, которого обусловлено тем, что в Китае, стране с жесткой моралью, давно существовало такое мощное исключение – казенные публичные дома, а «буддийские монастыри, в особенности в южном Китае, представляют, по словам Хук и Габет, убежища проституции» (И. Блох «История проституции», 1912).
Ряд образно-ассоциативных выражений отражает новые реалии русской жизни, ср.: плечевая дальнобойщица; дальнобойщица с большой дороги; локтевая подруга; верная подруга дальнобойщика и другие, обозначающие ‘определенную категорию проституток, обслуживающую водителей дальнорейсовых автомашин в период поездки’, а «локтевыми» и «плечевыми» их называют, наверное, потому, что в кабине они всегда рядом с водителем, локтем (плечом) касаются. Плечом может называться и участок дороги, где обычно стоят эти девушки. Ср.: «Но зачем она вырядилась в какой-то подрясник с декольте “по самое не могу”, да еще, как боевая подруга дальнобойщиков, в чулки кружевные» (О. Мартова «Ледяной кубик, или прощание с севером», 2012); «Плечевые девушки регулярно расстаются со своими временными “поклонниками”, и никто обычно трагедии из этого не делает» (М. Серегин «Контрольная молитва», 2001). Помимо эвфемистической функции такие фразеологизмы отображают «зафиксированную в языке обыденную, наивную картину мира» [Добровольский, Караулов 1993: 6]. Фразеологизмы нового времени выражают потребительский характер современного общества, где все имеет свою цену. Социальные и экономические черты современной жизни отражает ряд устойчивых сочетаний типа жена на час, девушка <супруга> по вызову, девушка без комплексов, валютная девочка, обслуживающая иностранцев – в знач. ‘женщина легкого поведения’, платная любовь, любовь за деньги – ‘услуги проституток’, горячие бабки (жарг.) – ‘деньги, заработанные проституцией’. Ср.: «Следует особо отметить, что тогда не было объявлений в стиле “Отдых 24 часа” или “Жена на час”, – потому что не было и самого “сервиса”» (О. Буяльский «И Африка нам не нужна», 2017); «Кстати, еще лет десять назад, на волне сексуальной революции, мужчины искренне восхищались “девушками без комплексов”» (журн. «Лиза», 2005, № 16); «Может валютная девица? В моем тощем бюджете расходы на такие удовольствия не предусмотрены. – Нет, она этим не промышляет» (В. Жуков «Белокурая бестия», 2018).
Социально-культурная жизнь современного арабского, в частности египетского, общества отражена в таких устойчивых сочетаниях, как فتاة ریكلام (букв. ‘девушка рекламы’) – ‘валютная проститутка, подрабатывающая в ночных клубах’: «Почему так обиделась? Ты же работала медсестрой, бесплатно давала кому что хотел. А я всего лишь сделал тебя девушкой реклам , зато тебе платят» (Ш. Осман «Пиполис», 2015). Сленговое выражение девушки рекламы пришло из лексикона ночных клубов и выступает в качестве эвфемистической словесной формулы с редуцированной семантикой. Как эвфемизмы функционируют и такие выражения, как <بتروح شقق مفروشة <سیاحیة (букв. ‘ходить по меблированным < туристическим> квартирам) – о проститутке, обслуживающей туристов и состоятельных клиентов; بتاعة طلبة (букв. ‘обслуживающая студентов’) – о бюджетной, доступной студентам проститутке и нек. др. Ср.: «Это правда, многие люди в нашем квартале думают, что я распутно себя веду, что я продажная и хожу по квартирам , но отцом покойным клянусь тебе, Рияд, что ни один дворовой кобель меня не тронул» (В. Нассар «Мурашки», 2016).
Для характеристики представительниц древнейшей профессии употребляются некоторые устойчивые сочетания с компонентом панель. Например: девушка [дамочка] с панели; труженица панели; панельная женщина [девица]; нарушительница порядка с панели – ‘женщина легкого поведения’; пойти [выйти] на панель; ходить по панели; работать [зарабатывать] на панели – ‘заниматься проституцией’; взять с панели – ‘пользоваться услугами проститутки’ и др. Ср.: «Две труженицы панели уже стояли с утра на вахте. Утром они выглядели куда менее соблазнительно и романтично, чем в ночном полумраке» (Б. Носик «Любовные повести старых добрых времен», 1999); «Вызывающе одевшись, она снова вышла на панель и начала охотиться за мужиками» (П. Люленов «Семейная трагедия», 2017). Эвфемизация здесь основана на метонимическом переносе значения. Эвфемистическую метонимизацию В. П. Москвин понимает как «перенос названия с одного объекта на другой по принципу их реальной или ассоциативной смежности, соединенности, взаимосвязанности» [Москвин 2010: 174]. Метонимия лежит и в основе таких выражений, как девушка из салона; вокзальная фея; постельная девушка; платный постельный фронт; дорожная девушка и др. В арабском языке по таким же метонимическим основаниям употребляются ФЭ с компонентами الشارع (букв. ‘улица’), السریر (букв. ‘постель’), الرصیف (букв. ‘панель’) и др. Ср.: فتاة من الشارع (букв. ‘девушка с улицы’); علاقات السریر (букв. ‘постельные встречи’); فتاة من على الرصیف (букв. ‘девушка с панели’) и др. Эти выражения как знаки с семантической неопределенностью могут употребляться и вне сферы обозначения проституции. Так, в Санкт-Петербурге «выходить на панель» могут и художники, которые рисуют портреты прямо на Невском проспекте и готовы «“отдаваться” за милость невзыскательных заказчиков» и туристов, тоже ходящих, кстати, по панели [Синдаловский 2011: 215]. Из-за двусмысленности слова панель стали употреблять эвфемистические словосочетания с компонентом Невский: брать / взять с Невского; ходить по Невскому; пойти на Невский; Невская дама и др. Ср.: «Днем она работала на фабрике, а вечером ходила по Невскому, но изредка, боясь попасться и получить желтый билет» (И. Ясинский «Наташка», 1881); «Затем он взял с Невского румяную – городским едким румянцем – девушку, прокатился с ней на извозчике и, пролежав с ней в кровати отпущенные ему природой минуты, заказал яичницу с молоком» (Вс. Иванов «Тайное тайных», 2012). К петербургскому го- родскому фольклору относится и жаргонный фразеологизм служить [работать] у графа Панельного – ‘о занятии проституцией, нищенством’ [Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона 1992: 253]: «Ты думаешь, моим детям очень это интересно, где я работаю...? Им подай жрать, а об чем другом – пропади все пропадом. Ведь верно? – Как я полгода у «графа Панельного» служила – где был он, этот профсоюз?» (М. Чу-мандрин «Фабрика Рабле», 1928). ФЭ образован по созвучной ассоциации компонентов граф Панельный и панель.
Из спортивного лексикона взята метафора эстафетная палочка , которая с шутливо-ироническим оттенком используется в знач. ‘проститутка’. Общий признак между значениями ‘проститутка’ и ‘эстафетная палочка’ – ‘передача, переход от одного к другому’: «Прости, тебе будет неприятно услышать, но он в Швеции. Там же и Наташа... Видимо, пришло время, и они, возможно, узаконят свои отношения. – Вот как? Значит, он передал меня тебе, как эстафетную палочку ? Отпусти меня. Я не хочу знать ни его, ни тебя» (М. Лаврик «Женщина хочет», 2016); « Эстафетная палочка , твою мать! Прости, вырвалось. Ты вообще представляешь, чтобы бабу передавали из рук в руки?» (Т. Туринская «Бог наказывает иначе», 2017). В последнем примере контекст содержит нелитературное выражение твою мать! , также являющееся эвфемизмом (за счет компрессии – удаления обсценного слова), и слово прости , что отражают общую речевую стратегию говорящего оставаться в рамках вежливости. Фразеологизм-эвфемизм эстафетная палочка , помимо значения ‘проститутка’, имеет также коннотацию ‘возможность заразиться половой инфекцией’, отчетливо выраженную в близком по происхождению и содержанию фразеологизме передавать эстафету – ‘заражать кого-л. венерическим заболеванием’ (см.: [Мок-иенко, Никитина 2007: 763]).
Общекультурным для обоих народов – русского и арабского – является ряд образнометафорических ФЭ типа ходить налево (араб. экв. تمشي شمال) – в знач. ‘завести любовника, блудить’, в которых пространственная оппозиция направо / налево воспринимается на основании общекультурного стереотипа о моделях правильного/негативного поведения. Эквивалентными в обоих языках являются универсальные метафоры и калькированные устойчивые сочетания типа самая древняя профессия (экв. أقدم مھنة فى التاریخ); платная любовь (экв. الحب المدفوع); интимные услуги (экв. خدمات حمیمیة) – ‘о проституции’; продавать себя (экв. تبیع نفسھا);
торговать своим телом (экв. تتاجر بجسدھا) – в знач. ‘заниматься проституцией’; живой товар (экв. البضاعة الحیة); девушка по вызову – калька из англ. Call girl – (экв. فتاة تحت الطلب) – ‘о проститутках’ и другие примеры общекультурного восприятия.
В образных основаниях фразеологизмов запечатлены ценностные смыслы и культурно значимые компоненты, способные ослаблять стигматичность денотата, обеспечивать комфортную атмосферу коммуникации. Иронический и шутливый оттенок ФЭ позволяет облечь негативное отношение и осуждение в более мягкую форму, что характерно как для русской, так и для арабской культуры. Эвфемистичность фразеологизма обнаруживается в контексте даже без формальных сигналов смягчения (обороты «мягко говоря», «в некотором смысле», пауза и т. п.); главное, чтобы в данном контексте отсутствовали прямолинейно грубые выражения, нарушающие стратегию эвфемизации речи. Фразеологизм порой может иметь противоположные значения или оценочные коннотации – в зависимости от речевой ситуации и характера предмета речи, поэтому ФЭ целесообразно изучать, исходя из контекста, а не из словарных статьей и стилистических помет. Картины мира у русских и арабов, в том числе отраженные во фразеологии, во многом различаются, поскольку у обоих народов различные культурные стереотипы, системы ценностей и области референции, но их сближают общекультурные стереотипы, связанные с глобализацией и новыми реалиями социальной жизни.
LINGUO-CULTURAL RESEARCH
ON PHRASEOLOGICAL EUPHEMISMS REPRESENTING PROSTITUTION
(a Case Study of the Russian and Arabic Languages)
Mohammed H. S. Mansour
Postgraduate Student in the Department of Russian Language
Saint Petersburg State University
ResearcherID: W-3200-2018
Submitted 09.12.2018
Список литературы Лингвокультурологическое исследование эвфемистических фразеологизмов, обозначающих проституцию (на материале русского и арабского языков)
- Абаев В. И. Отражение работы сознания в лексико-семантической системе языка // Ленинизм и теоретические проблемы языкознания. М., 1970. С. 232-262.
- Аль-Майдани А. Сборник пословиц, т. I. Каир: изд. Ассунна Алмухаммадия, 1955. 462 с. (Al-Maidani A. Madjma’ul Amthal, vol. 1. Cairo: Alsunna AlMuhammadeya, 1955. 462 p.)
- Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Аспекты теории фразеологии. М.: Знак, 2008. 656 с.
- БТСРЯ - Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. CПб.: Норинт, 2000. 1536 с.
- Глоссарий слов Священного Корана. Т. I. Каир, 1989. 1228 с. (Mu’jam Alfadh Alquran Al-kareem. Cairo, 1989. 1228 p.)
- Добровольский Д. О., Караулов Ю. Н. Идиоматика в тезаурусе языковой личности // Вопросы языкознания. 1993. № 2. С. 5-16.
- Захаренко И. В., Красных В. В., Гудков Д. Б., Багаева Д. В. Прецедентное высказывание и прецедентное имя как символы прецедентных феноменов // Язык, сознание, коммуникация. М.: Филология, 1997. Вып. 1. С. 82-103.
- Кацев А. М. Языковое табу и эвфемия: учеб. пособие к спецкурсу. Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. 80 с.
- Ковшова М. Л. Культурно-национальная специфика фразеологических единиц (Когнитивные аспекты): автореф. дис. … канд. филол. наук. М.: Ин-т языкознания РАН, 1996. 22 с.
- Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / пер. с англ. А. Н. Баранова и А. В. Морозовой; под ред. и предисл. А. Н. Баранова. М.: Едиториал УРСС, 2004. 256 с.
- Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русских поговорок. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2007. 784 с.
- Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Толковый словарь языка Совдепии. Харьков: Фоло-Пресс, 1998. 701 с.
- Москвин В. П. Эвфемизмы в лексической системе современного русского языка. Изд. 4-е. М., 2010. 264 с.
- Омар А. М. Язык и цвет. 2-е изд. Каир: Изд. Аламул Ма’рефа, 1997. 269 с. (Omar A. M. Al-lughatu w Allawn. Cairo: Alamul Ma’refa, 1997. 269 p.)
- Сеничкина Е. П., Никитина И. Н. Иронические эвфемизмы как примета времени // Грамота. 2007. № 3(3): в 3 ч. Ч. III. C. 199-201.
- Синдаловский Н. А. Острая словарная необходимость: Место и роль городского фольклора в системе межчеловеческого общения // Нева. 2011. № 12. С. 187-216.
- Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона: Речевой и графический портрет советской тюрьмы / авт.-сост. Д. С. Балдаев и др. М.: Края Москвы, 1992. 526 с.
- Телия В. Н. Метафора как модель словопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция // Метафора в языке и в тексте. М.: Наука, 1988. С. 26-51.
- Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 288 с.