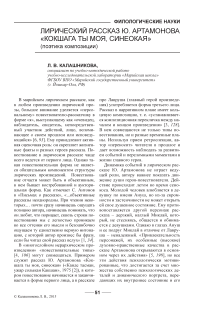Лирический рассказ Ю. Артамонова «Кокшага ты моя, синеокая» (поэтика композиции)
Автор: Калашникова Лариса Вячеславовна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 1, 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается композиция лирического рассказа Ю. Артамонова «Кокшага ты моя, синеокая». Предметом конкретного изучения в ней стали субъектная организация текста, типы повествования, пространственно-временные его составляющие, система образов, описания.
Марийская литература, лирический рассказ, ю. артамонов, поэтика, композиция
Короткий адрес: https://sciup.org/14723164
IDR: 14723164
Текст научной статьи Лирический рассказ Ю. Артамонова «Кокшага ты моя, синеокая» (поэтика композиции)
В «многослойном иерархическом произведении» «повествовательные типы» [4, 106] могут совмещаться. Примером служит рассказ Ю. Артамонова «Кок-шага ты моя, синеокая» («Канде тасман, ужар солыкан Какшан», 1975 [2]), в котором повествование начинается и заканчивается в форме первого лица, а в рассказе про Лавруша (главный герой произведения) употребляется форма третьего лица. Рассказ в нарративном плане имеет кольцевую композицию, т. е. «устанавливается композиционная перекличка между началом и концом произведения» [3, 128]. В нем совмещаются не только типы повествования, но и разные временные планы. Используя прием ретроспекции, автор «переносит» читателя в прошлое и дает возможность наблюдать за развитием событий и переломными моментами в жизни главного героя.
Динамика событий в лирическом рассказе Ю. Артамонова не играет ведущей роли, автору важнее показать движение души героя-повествователя. Действие происходит летом во время сенокоса. Молодой человек влюбляется в девушку по имени Ануш, но из-за скромности и застенчивости не может открыть ей свое душевное состояние. Ему противопоставляется другой персонаж рассказа – дерзкий, наглый Миклай, который, не стесняясь, общается и обнимается с девушками. Однако в глазах Ануш и ее подруг Миклай в отличие от Лавруша – ненадежный. «Привлекательность персонажей, их особенные (высокие) духовно-нравственные качества в рассказе Артамонова открываются в основном через их действия» [5, 198 ], но все эти действия психологически мотивированные, что достигается за счет множества собственно психологических деталей и динамического портрета, передающих их внутреннее состояние и его
изменение. Первый шаг навстречу любимому делает сама Ануш. Постепенно герой меняется, начинает чувствовать себя более раскованно, он готов все сделать ради девушки: Машиным мо? Кÿлеш гын, Йошкар-Ола гыч поез-дым конда, кудал толашыже шкак рель-сым опта. Рвезын кöргыштыжö тугай вий ылыжын, тугай патыр, чолга, лÿддымö лийын, пуйто ик йÿд жапыште лу ийлык ушым поген. Куанымыже, лы-выргыше чонжо дене ала-момат сайым ыштымыже, кава марте тöршталтен колтымыжо шуэш [2, 40 ]. «Только машину? Если нужно, из Йошкар-Олы поезд пригонит, сам сложит рельсы, чтобы проехал. Такая сила проснулась в юноше, таким сильным, бойким, бесстрашным стал, будто за одну ночь набрался ума за десять лет. От радости, умиления ему хочется сделать что-то хорошее, до неба прыгнуть».
Повествование в лирическом рассказе чаще всего ведется от первого лица. Однако такая повествовательная форма не является обязательным компонентом структуры лирических произведений. Повествование отчасти может быть и объективным, в нем бывает востребованной и аукториальная форма.
В изменении героя кроме Ануш большую роль играет и другой персонаж – Карп Афанасьевич (в народе дед Карп), который учит прислушиваться к природе, жить с ней в гармонии, жить естественной жизнью. «Писатель изображает героев, органически слитых с природой и открытых к постижению ее красоты» [8, 82 ].
Особое место в показе становления героя и развитии его души отводится антропоморфному образу реки Кокшаги, которая по-человечески обращается к герою: Чонет гына мыйын гаяк проста, самырык да яндар лийже. Ит амырте тудым нигунам. Мый тугай еҥым веле жаплем, тугай еҥлан веле ÿмырашлык йолташыже лиям [2, 27]. «Лишь бы душа оставалась такой же простой, молодой и чистой, как моя. Только таких людей я ценю, только таким людям я навеки останусь другом».
Кокшага олицетворяется, она для героя – друг ( Йöратем мый Какшаным. Какшан айдеме гаяк. Садлан мый ту-дым шке йолташемланак шотлем. Поро, ушан-шотан, кумылзо [там же, 22 ]. «Люблю я Кокшагу. Кокшага, как человек. Поэтому считаю ее своим другом. Хороший, толковый, нежный») и сестра ( Па-лыш да, йывыртен, шке шольыжо семы-нак вашлие [там же, 27 ]. «Узнала и, обрадовавшись, встретила, как своего брата»).
Образ Кокшаги появляется в тексте часто и становится своего рода лейтмотивом всего произведения. Кокша-га – это не только малая родина главного героя-повествователя ( Лавруш – тиде мый, чарайолан йоча жапем, чÿчкен-модын коштшо каче пагытем, рвезы-лык шо ҥ гылыкем [там же, 41 ]. «Лавруш – это я, мое босоногое детство, веселая молодость, молодая старость»), но и свидетель всего происходящего в его жизни. Повествователь отмечает: Чыла-жымат ме тый денет, йöратыме Как-шанем, ик шинча денак ончышн. Армий-ыште туркмен мландыште служитле-нам, Балтика теныз серыште пашам ыштенам. Тунамат пеленем лийыч. Тый-ымак, Какшан, аралышым, тыйымак шонен, пашам ыштышым [там же, 22 ]. «За всем мы с тобой, моя любимая Кок-шага, наблюдали вместе. Служил ли в армии на туркменской земле, работал ли на берегу Балтийского моря. Везде ты была со мной, Кокшага. Именно тебя, Кокшага, я охранял, работал, думая о тебе».
В тех частях рассказа, где речь идет об отъезде, службе и работе героя в других краях, употребляются глаголы в форме второго прошедшего времени, создавая ощущение, что описываемое было очень давно. А в начале рассказа, где описывается сегодняшняя Кокшага, и в середине, где изображается молодость Лаврен- тия Петровича, глаголы даны в формах настоящего и первого прошедшего времени. Соответственно создается ощущение, что эти временные формы повествователь употребляет в речи тогда, когда он ближе к Кокшаге. То, что было после встреч с рекой и до встреч с ней, – неважно, незначительно. Сейчас все по-старому, он вернулся, он рядом: Энер вÿд эре йога, нигунам мöнгеш, тош-то олмышкыжак, огеш пöртыл. Мый пöртылынам. Тыят тыштак улат. Теве, кидем шуялтен ом шу гын, шинчаончал-тышем дене эре шуам. Теве тый улат! Эре пеленем, чонем воктен улшо канде тасман, ужар солыкан Какшан [там же, 22-23]. «Вода в реке постоянно течет, никогда не возвращается на старое место. Я же вернулся. И ты здесь. Если не достану тебя руками, то могу объять тебя взглядом. Вот ты здесь! Всегда рядом, в моем сердце, Кокшага ты моя, синеокая».
Кокшага получает многомерную характеристику. Она интерпретируется как сестра, как друг, с которым можно общаться, как родина, как «мощное средство обогащения духовного мира человека» [9, 192 ].
В рассказе происходит взаимодействие реального и воображаемого миров. Воображаемое связано с образом Кокшаги. В тексте также органично сочетаются романтически-возвышенное и натуралистически-достоверное. Натура-листически-достоверное связано с описанием сельской жизни, любовных сцен, но это не только не снижает уровень произведения, но и сближает читателя с описываемыми событиями.
В лирическом рассказе Ю. Артамонова встречается много внесюжетных элементов – описаний и авторских отступлений. Так, пейзаж является «важным содержательным компонентом художественного произведения» [7]. Природа в рассказе представлена не как застывшая картина, она часто олицетворяется. Например: Ала-кушеч йÿдвечын, йорга памаш гыч тÿ ҥ алын, модын шаулен, мÿгырен, Какшан касвекыла йоген вола,
Динамика событий в лирическом рассказе Ю. Артамонова не играет ведущей роли, автору важнее показать движение души героя - повествователя.
марий мландым пелыгыч ката, кугу илыш корныш лекше да садланак путы-рак вашкыше е ҥ ла куржынат колта, вара ноя да чарналта. Кадыргылеш, иксам ыштен кода, вик чыма, тÿрлö ялла воктен йога, Йошкар-Ола дек миен лек-теш. Тушанат ок шогал, каналтымы-ла кумдан, ласкан шÿлалтен, эше умбаке чыма, Юл дек шуэш, кугу руш калыкын кугу э ҥ ерышкыже ушна, тудлан вийым, патырлыкым пуа, сылнылыкым ешара [2, 20 ]. «Откуда-то с севера, беря начало с небольшого источника, шумно играя, громыхая, течет Кокшага на запад, делит марийскую землю на две половинки, бежит быстро, как вышедший на большую дорогу и поэтому спешащий человек, затем устает и останавливается. Рисует круги, создает и оставляет залив, устремляется прямо, течет возле разных деревень, доходит до Йошкар-Олы. И там не останавливается, легко и глубоко вздохнув, будто отдыхая, бежит дальше, добегает до Волги, сливается с большой рекой великого русского народа, дает ей силу, мощь, придает красоту». Или: Теве кече шкежат койылалтыш. Йошкарге, шокшо, кугу тыртыш. Öрын кайыше е ҥ ла тудо икмагаллан чарнал-тыш, пуйто шке кундемжым сайынрак ончалнеже. Палыш, витне: эркын, шиж-де, шке олмыж дене кÿшкö кÿзен кайыш [там же, 40 ]. «Вот и солнце показалось. Красный, горящий, большой круг. Как удивленный человек, оно остановилось ненадолго, будто хочет лучше рассмотреть свой край. Узнало, видимо: медленно, незаметно, по своей дорожке поднялось наверх».
Описания насыщены множеством ярких и выразительных деталей. Приведем в качестве примера отрывок из текста, в котором дана картина природы,
Лирическому рассказу Ю. Артамонова свойственна персонажная эпицентричность. Внутреннее и внешнее действия сконцентрированы вокруг главного героя, который является основным повествовательным субъектом, смысловым и структурным центром произведения; его мысли и переживания ослабляют событийный сюжет и вносят в произведение лирикопсихологическую сюжетность, вызывают лирическую стилистику.
воспринимаемая дедом Карпом и Лавру-шем, слушающими пение птиц, кваканье лягушек и плескание рыб в воде. «Ночной концерт» начинает соловей: Кене-та… чынак, шола вечын шÿшпык ап-тыраныше, сÿсаныше йÿкым пуыш. Ала шкенжым терга, ала вожылеш, йÿкшö тунамак шулен йомо, пылышлан гына алят шокта: ныжылге, яндар, кумыл-зо. Пырт жап эртышат, кужунракын шÿшкалтыш: тьр-р-р-чьоп-чьоп-чьоп [там же, 31 ]. «Вдруг… действительно, с левой стороны соловей подал робкий, нерешительный голос. То ли голос проверяет, то ли стесняется, голос тут же рассеивается, только в ушах до сих пор звучит: нежный, чистый, веселый. Прошло немного времени, и снова засвистел, но чуть подольше: тьр-р-р-чьоп-чьоп-чьоп». Пробуют свои голоса и другие «участники» концерта: А варарак тÿ ҥ альыч… Чыланат, иканаште! Икте весылан вашештат, се ҥ ашак тöчен йырымлат, йÿкышт лишемеш, торла, кÿрышталтеш, жаплан шÿлышым на-лаш чарналтат, уэш у вий дене мураш-шÿшкаш пижыт. Тÿшкаште шÿшпыкын йомартле мурыжо палынак ойырте-малтеш. Шке йÿкшым кузе вет кадыр-тылеш, шеремет: ший кылжым лыкын-лукын йо ҥ галтарен колта, трук кÿрлеш, вара адак шупшылеш. Айдемыла о ҥ ара, воштылеш, имньыла о ҥ ырешлен колта, турийла чÿчка, мардежла шÿшка [там же, 32 ]. «Затем все начали… Все сразу!
Друг другу отвечают, заливаются, пытаясь победить друг друга, их голоса то приближаются, то удаляются, прерываются; останавливаются отдышаться на некоторое время и снова с новой силой начинают петь, свистеть. В толпе отчетливо выделяется веселая песня соловья. Как же переливается, выворачивается в звуке: дергает свои серебряные струны, затем прерывается, и снова дернет. Передразнивает человека, смеется, подражает лошади, трепещет, как жаворонок, свистит, как ветер». Автор мастерски воссоздает зрительные образы и «звуки природы».
Описанию внешности героев автор не уделяет много внимания. Внешность матери Лавруша, Карпа Афанасьевича и Ануш предстает в восприятии главного героя. Например, так он воспринимает портрет матери: Ала-кузе кызыт веле ушешыже возо: аваже чот шо ҥ гемын. Чурий начкаже кöргыш пурен, куп-тыргыл пытен, шинчажат йöршын тÿлыжген, сур ÿпшат йогаш тÿ ҥ алын. Кидше эре чытыра, вÿргорныжат пале. Мо шарна Лавруш, аваже эре ик вурге-мым чия. Кÿреналге тÿсан шовыч, лыж-гайыше шемалге пинчак, кужу тувыр. Ала чияшыже уке, ала шо ҥ гылыкешыже чамана – эргыже ик ганат йодын огыл, налын пуашат ыш шоналте [там же, 23 ]. «Только сейчас пришло в голову: мать очень постарела. Щеки втянулись, в морщинах, глаза совсем потускнели, седые волосы начали выпадать. Руки все время трясутся, видны кровеносные сосуды. Сколько помнит Лавруш, мать всегда в одной и той же одежде. Коричневатый платок, прохудившийся темный пиджак, длинное платье. То ли нет другой одежды, то ли жалеет под старость – сын никогда об этом ее не спрашивал и сам купить не догадался». Создается образ марийской женщины, которая часто экономит на себе, вся в заботах и никогда не жалуется. Описание внешности матери подчеркивает, таким образом, равнодушие Лавруша к матери. Он молод, занят своей работой (не успевает даже толком поесть), у него другие интересы.
Рассказ Ю. Артамонова отличается лексическим богатством, взаимопроникновением различных тропов, что усиливает лиризм повествования.
Итак, лирическому рассказу Ю. Артамонова свойственна персонажная эпицентричность. Внутреннее и внешнее действия сконцентрированы вокруг главного героя, который является основным повествовательным
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ субъектом, смысловым и структурным центром произведения; его мысли и переживания ослабляют событийный сюжет и вносят в произведение лирико-психологическую сюжетность, вызывают лирическую стилистику. Для рассказа характерны повышенноэмоциональный строй речи, развернутые пейзажные и портретные описания, монологи и комментарии.
Список литературы Лирический рассказ Ю. Артамонова «Кокшага ты моя, синеокая» (поэтика композиции)
- Антонов, С. Письма о рассказе/С. Антонов. -М.: Совет. писатель, 1964. -300 c.
- Артамонов, Ю. Канде тасман, ужар солыкан Какшан: ойлымаш//Ончыко. -1975. -№ 5. -С. 20-41.
- Есин, А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения/А. Б. Есин. -М.: Флинта: Наука, 1998. -248 c.
- Кожевникова, Н. А. О соотношении типов повествования в художественных текстах//Вопр. языкознания. -1985. -№ 4. -С. 104-114.
- Кудрявцева, Р. А. Генезис и динамика поэтики марийского рассказа в контексте литератур народов Поволжья: моногр./Р. А. Кудрявцева. -Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2011. -324 с.
- Николина, Н. А. Филологический анализ текста/Н. А. Николина. -М.: Изд. центр «Академия», 2003. -256 с.
- Пейзаж как компонент художественного текста . -Режим доступа: http://litguide.ru/liconts-453-4.html. -дата обращения: 24.07.2014.
- Рябинина, М. В. Марийская повесть второй половины XX века: поэтика психологизма: дис.. канд. филол. наук/М. В. Рябинина. -Чебоксары, 2014. -185 с.
- Шабдарова, Л. Е. Чувство природы в рассказе Маргариты Ушаковой «Таинственный взгляд»//Проблемы марийской и сравнительной филологии: сб. ст./Мар. гос. ун-т; отв. ред. Р. А. Кудрявцева. -Йошкар-Ола, 2014. -С. 191-195.